Статьи, книги и рассказы о Вагнере
О Рихарде Вагнере написаны тысячи книг на всех европейских языках. Даже на русском написаны несколько десятков - притом в России о главном оперном романтике писалось меньше, чем на Западе, особенно в его англосаксонской части. Газетные и журнальные публикации, посвящённые отдельным вопросам и отдельным постановкам вагнеровских опер, вряд ли вообще можно собрать хотя бы в рамках одного региона с претензией на столичность. Такой цели и не ставилось. Разделяя авторов географически и по времени, в "пассивном сборе" на сайте можно выделить один тематический подраздел, в "активном" - ещё три.
Под "пассивным сбором" подразумеваются книги и статьи авторов советского периода. Именно они составляли большую часть архива, доставшегося нам с bayreut.ru. Читать многие из этих текстов можно без ущерба для "чувства ума", просто мысленно вычёркивая фразы, содержащие словосочетания "роль пролетариата", "победа класса", "буржуазное общество", "индивидуалистические вожделения" и другие подобного рода. Важно понимать, что сами по себе эти словосочетания отнюдь не бессмысленны и могут употребляться в нормальном значении. Но не советскими авторами, для которых впечатывание этих штампов было обязательным, как и непременные абзацы, прославлявшие официальную идеологию.
Влияние самой идеологии в сочинениях различно. В некоторых оно минимально и почти не выходит за рамки банального охранительного позитивчика; читать другие требует силы воли - по аналогии с "кур в ощип" в них попадает "вагнер в фанфар". Из авторов 20-х годов пропагандистские лозунги вылетают легко, от чистого сердца даже там, где вставлены невпопад. Ильенков в шестидесятые старается обходиться уже без откровенных коммунистических трещоток. В его предназначенном для узкого круга сочинении есть даже небезынтересные рассуждения и обобщения. Однако в целом советские толстотомные вагнерианцы весьма однообразны и предсказуемы, как и проводимые ими "единственно верные" пропагандистские установки. Это относится и к Лосеву, по жизни являвшему пример скорее внутренней эмиграции, чем учёного функционерства - две его большие работы о Вагнере написаны с большим перерывом по времени, долго не издавались, и даже не сразу понятно почему. А виной тому сама личность писавшего - пожизненное "тайное монашество" и 3 года Белбалтлага по делу "Истинно православной церкви" снимают все вопросы как по поводу официального замалчивания, так и по поводу, собственно, личности. Вызывающей безусловное уважение, но и безусловную же необходимость критического отношения ко всему этой личностью написанному - в особенности, о Вагнере, чью жизнь можно монашеству основательно противопоставить. Теперь в этой истории удивляет только, насколько же советская дидактика совпадала с ходом религиозно ограниченной мысли автора.
Сиюминутные журналистские тексты о Вагнере поживее. Но, как и почти любую журналистику, их полезнее читать не столько как размышления о Вагнере, сколько как свидетельства эпохи самих авторов. Послереволюционная и послевоенная реабилитация Вагнера в целях текущей пропаганды отличались довольно сильно, и по актуальному журналистскому стилю это ещё более очевидно. Впрочем, тоталитарный базис оставался незыблемым независимо от длины и даты публикации. Помимо единообразной идеологии, сложившийся в 30-е годы, советский канон ЖЗЛ чуждался изображения всякого сильного - в особенности, сексуального - чувства. Словом, куда ни кинь, всюду упирался советский автор в какой-нибудь не располагающий ни к правде, ни к творчеству клин. Почитать эти труды в любом случае любопытно, но ориентироваться только на эти статьи при любых целях не стоит.
Также архив bayreut.ru содержал несколько русских дореволюционных текстов. Эта тема была дополнена и расширена. Материалы из неё интересны в первую очередь тем, что Вагнер в них так или иначе увязывается со значимыми течениями и деятелями русского музыкального искусства. Среди статей имеются заслуживающие внимания сочинения театральных и музыкальных профессионалов. Хотя особой философской, психологической или художественной проработкой эти тексты в мировом вагнерианском рейтинге тоже похвастаться не могут, для выходцев из русской культуры их чтение весьма осмысленно. Тема, безусловно, будет продолжена, как и публикация "вагнерианских хроник" зарубежных авторов. В этом подразделе на сайте уже присутствуют самые красивые (Ницше, Манн, Галль), но ещё не все даже самые известные, и тем более не все самые интересные - так что здесь у нашего собрания, можно сказать, самые ясные перспективы.
Менее ясны перспективы с материалами современных российских авторов. Проблема в данном случае не только в их несистематизированности, но и в наследственной с советских времён вторичности большей части этих текстов. Это не какая-то специфически наша неприятность, она везде одинакова - просто у нас процент повторяльщиков затёртых штампов немного больше, чем в той же Европе, а участие в каких-либо электронных БД немного меньше. Тем не менее, и в этой теме мы рассчитываем продвигаться дальше - не в последнюю очередь, с помощью наших любимых активных пользователей.
Важно! Тексты, посвящённые конкретным операм, лучше искать по категориям или в разделах самих опер. В приведённом ниже списке представлены в основном общебиографические и общеаналитические материалы. Статьи расположены приблизительно в хронологическом порядке.
Также можно отобрать материалы по следующим категориям:
Э. Мишотт "Визит Рихарда Вагнера к Россини"
Источник - А.Фраккароли "Россини", - М. "Правда", 1990.
ЭДМОНД МИШОТТ
Хроника в свое время по-разному расценивала визит, нанесенный Вагнером Россини в марте 1860 года, в эпоху, когда немецкий мэтр поселился в Париже в надежде на постановку своей оперы “Тангейзер”. Эта встреча и в публике и в прессе описывалась самым фантастическим образом, в зависимости от богатства воображения писавшего.
Значительно позже, в связи со смертью Россини, Вагнер сам дал оценку этого свидания в статье, опубликованной им в одной лейпцигской газете2. Статья небольшая, без подробностей, которые Вагнер за истекшие со дня встречи восемь лет мог забыть и которым он, при своем образе мышления, возможно, вообще не придавал должного значения, чтобы их опубликовывать. Однако встреча была настолько типична для ее участников, что было бы жалко предать ее забвению.
Несколько ниже я расскажу, каким образом я, присутствовавший на этом свидании, оказался в состоянии воспроизвести в своем скрупулезно точном рассказе большое количество фраз из беседы этих двух знаменитых людей.
Но для начала необходимо сказать несколько слов о том, какое положение в ту пору занимали в Париже Россини и Вагнер.
Шла зима 1860 года. Вагнер жил на улице Ньютона, дом 16 (возле площади Звезды), в маленьком, впоследствии разрушенном доме.<…>
В своем спокойном жилище Вагнер жил очень скромно и, ввиду близости Булонского леса, ежедневно выходил из дома только для прогулки в сопровождении небольшой собачки очень живого нрава. Ему доставляло удовольствие смотреть, как она прыгала вокруг его ног. Остальное время уходило на неустанную работу с Эдмондом Рошем над французским переводом “Тангейзера”3. В перерывах Вагнер целиком отдавался тетралогии. Гигантское творение к этому времени было почти закончено, и только оркестровка нуждалась в отделке 4.
Первая жена Вагнера5 жила с ним и вела хозяйство. Это была простая, скромная мещаночка, всегда старавшаяся как можно больше стушеваться.
По вечерам, особенно по средам, Вагнер принимал редких гостей. Их было в то время человек двенадцать, признававших и навещавших Вагнера в его одиночестве. Я могу их назвать: Гасперини, Эдмонд Рош, Вийо, Ганс фон Бюлов, Шанфлери, Г. Доре, Лакомб, Стефан Геллер, Эмиль Оливье и его молодая жена — дочь Листа.
Я имел честь состоять в числе названных, что мне давало возможность часто встречаться с Вагнером, а со временем установить с ним и близкие отношения.
Не имея почти никаких связей в Париже и не ища их, Вагнер, казалось, был счастлив в небольшом кругу верных друзей. Надо было видеть, с каким радостным волнением хозяин бросался к дверям, как только раздавался звонок, извещавший о приходе кого-нибудь из нашего кружка. И Вагнер тут же пускался в непринужденную беседу, всегда очаровывая нас неожиданными суждениями по вопросам эстетики, истории, философии, свидетельствовавшими о высоком уровне его мышления. При этом он уснащал свою речь юмористическими оборотами, которые ошеломляли остроумием и порой граничили даже с мальчишеством.
По-французски он говорил довольно бегло, но, когда у него становилось тесно в голове от мыслей, нетерпение, проявляемое в поисках нужного слова, нередко приводило его к весьма оригинальным ассоциациям и оборотам речи
Интерес этих собраний стал расти особенно после появления на них Ганса фон Бюлова. Не заставляя себя просить, Вагнер в сопровождении великого пианиста исполнял для нас не только отрывки из “Тангейзера” (с французским текстом), но и из “Тристана”, инструментовка которого к тому времени была полностью завершена. Нас поражало, как Бюлов легко с листа играл на фортепиано полифонические эпизоды очень сложной партитуры. Что можно сказать об этом энергичном исполнении, посредством которого мэтр приобщал нас к самому смыслу, к глубине заложенных в его произведении идей? Какой огонь, сколько увлечения, какая богатая декламация! Что касается голоса, далеко не всегда чисто интонировавшего, испорченного композиторского голоса, как в шутку говаривал Вагнер, то, по его словам, он мог заставить разбежаться всех мастеров пения, включая и нюрнбергских! Это был намек на “Мейстерзингеров”, сценарий которых он только что закончил.
Так текла очень мало кому известная жизнь Вагнера в Париже. Невзирая на отвращение к визитам, он все же не мог нарушить принятые формы посещения некоторых важных персон из музыкального мира. Так, например, он бывал у Обера, Галеви, Амбруаза Тома и у других, был знаком и с Гуно5 *.
С Россини он тогда еще не встречался и ощущал в отношении него какую-то нерешительность. Зная, что я очень близок с итальянским маэстро, он пожелал мне высказать свои сомнения. Вот их причина: несколько парижских газет, неустанно преследовавших Вагнера и его “музыку будущего” всякими саркастическими выпадами, доставляли себе сомнительное удовольствие распространять в публике немало измышлений и анекдотов, порочащих автора “Тангейзера”. Чтобы придать своим выдумкам хоть какое-нибудь правдоподобие, они, не стесняясь, приписывали их разным видным личностям. Россини как бы был создан для того, чтобы их больше всего приписывали именно ему: он был известен как первоклассный поставщик всевозможных рассказов, и за ним числилось немало острот столь же сомнительного вкуса, сколь и апокрифичных.
Утверждали, что на одном из своих еженедельных обедов, на которые автор “Цирюльника” приглашал особо важных гостей, слуги в качестве блюда, названного в меню “палтус по-немецки” подали очень аппетитный соус. Все положили его себе на тарелки, но обслуживание стола внезапно прервалось и самый палтус не был подан. Гости смутились и стали перешептываться: что же делать с соусом? Тогда Россини, забавляясь их замешательством и поедая соус, воскликнул: “Чего же вы ждете? Попробуйте соус, поверьте мне, он великолепен. Что касается палтуса, главного компонента этого блюда, то... поставщик рыбы... его... увы... забыл доставить. Но не удивляйтесь! Разве не то же самое мы наблюдаем в музыке Вагнера? Хорош соус, но он без палтуса!.. Мелодии-то в ней нет!”
Рассказывали также, что однажды посетитель, зайдя в кабинет Россини, застал маэстро за огромной партитурой, которую он нетерпеливо поворачивал в разные стороны... Это была партитура “Тангейзера”. Сделав еще несколько усилий, Россини остановился.
“В конце концов,— сказал он, вздохнув,— все в порядке, это совсем не так плохо. Я бьюсь больше получаса и только сейчас стал кое-что понимать”. Партитура лежала перед ним вверх ногами! Случайно в этот самый момент в соседней комнате раздался грохот. “О, что это, какая полифония!”—воскликнул Россини. — “Соrро di Dio**. Но это ужасно похоже на оркестр “Грота Венеры”!7” Тут внезапно раскрылась дверь, вошел слуга и сообщил, что горничная уронила большой поднос с посудой.
Под впечатлением этих россказней, которым Вагнер верил, он, естественно, не решался навестить Россини. Мне было нетрудно его разуверить. Я доказал ему, что все эти басни — пустые измышления, распространяемые среди публики враждебно настроенной прессой. Я присовокупил, что Россини (характер которого я знал как никто, ибо в течение долгого времени находился с ним в дружеских отношениях и встречался ежедневно) обладал слишком возвышенным умом, чтобы унизиться до подобных нелепостей, не отличавшихся даже остроумием, против которых, кстати, он сам же непрерывно и горячо протестовал***.
Мне удалось убедить Вагнера в том, что он может спокойно отправиться к Россини, у которого встретит самый сердечный прием. Он согласился, однако, с тем условием, чтобы я его туда сопровождал. Свидание было намечено на послезавтра утром. Я пошел предупредить Россини, и тот живо откликнулся: “Но, само собой я приму господина Вагнера с большим удовольствием! Вы знаете мое расписание, приходите с ним, когда хотите”. И затем прибавил: “Надеюсь, вы ему объяснили что я непричастен к тем глупостям, которые мне приписывают?”
Описав вкратце, в каких условиях жил в ту пору в Париже Вагнер, я считаю нужным до рассказа об их встрече, сделать то же самое в отношении Россини.
Россини жил тогда на углу Шоссе д'Антен и Итальянского бульвара, занимая квартиру на втором этаже дома, хорошо известного всем парижанам****. Маэстро, до того проживавший во Флоренции, неожиданно появился в Париже в 1856 году, где он с 1836 ни разу не был8.
Заболев неврастенией, он неоднократно обращался к флорентийским врачам, но безуспешно. Болезнь прогрессировала и стала внушать серьезные опасения за психику знаменитого композитора.
Жена Россини решила, что ему нужно переменить обстановку, и подумала о Париже, где ее муж среди многочисленных поклонников оставил и настоящих друзей. На радость возвращения к старым друзьям и на новое окружение она возлагала куда больше надежд, чем на терапевтов. Она верила, что воздействие приятной атмосферы окажется целительнее всяких лекарств и лучше подействует на ослабленную волю ее упавшего духом мужа.
Вначале Россини воспротивился поездке, и было нелегко уговорить его пуститься в такое продолжительное путешествие. Ехать предстояло в почтовой карете на перекладных и с остановками во всех городах, где надо было провести ночь. Дело в том, что Россини категорически отказывался ездить по железной дороге. Он искал оправдания в том, что для человеческого достоинства унизительно отдаваться во власть машины и уподобляться... почтовой посылке. Но на самом деле — из-за странностей нервной системы он просто боялся ездить по железной дороге*****.
Наконец он согласился. После пятнадцати дней путешествия он прибыл в Париж изнуренный и в совершенно плачевном виде. Состояние его нервов, уже до того истрепанных болезнью, резко ухудшилось из-за дорожной тряски и других трудностей пути. Увидев его с обескровленным лицом, с потухшим взглядом, затрудненной речью, затуманенным рассудком, друзья пришли в ужас. При виде этих симптомов нетрудно было прийти к заключению, что можно опасаться неизлечимого размягчения мозга.
К счастью, медицина, благодаря самоотверженным усилиям выдающихся врачей, по истечении нескольких месяцев восторжествовала над этим тяжелым состоянием. В то время как физические силы постепенно восстанавливались, благоприятная обстановка, которую внимательные друзья сумели создать вокруг маэстро, привела к тому, что мозг великого человека, считавшийся навек угасшим, снова загорелся ярким светочем. Несколько позже лечение в Киссингене довершило исцеление. Следы болезни, казавшейся неизлечимой, бесследно исчезли.
С этого времени ни одна музыкальная знаменитость не пользовалась в Париже такой славой и почетом, как автор “Вильгельма Телля” и “Цирюльника”. Получили известность и его приемы. Самые прославленные артисты добивались чести выступать на них. Как только двери его салона раскрывались, в нем буквально толпились самые известные представители всех слоев парижского общества.
В этом интеллектуальном превосходстве, которому возраст придал олимпийское спокойствие, Россини сумел остаться простым, добрым, приветливым, чуждым высокомерия, тщеславия. И да будет мне позволено начисто снять с него весьма преувеличенную репутацию острослова и чрезвычайно несправедливую славу беспощадного насмешника, которой тогдашняя парижская пресса его наградила. С невероятной легкостью она приписывала ему множество суждений более или менее сомнительного вкуса, которые ему и в голову не приходили, или такие непочтительные шутки по адресу многих, на которые он вообще не был способен. Он очень страдал от этой “терпкой рекламы”, нередко выходившей за рамки острот и явно приносившей ему ущерб. Россини часто жаловался на это, и когда ему возражали: “Вы знаете, маэстро, взаймы дают ведь только богатым”, он со вздохом отвечал: “Откровенно говоря, я предпочел бы немножко больше бедности и немного меньше благодеяний. Предоставляя мне кредит, меня пичкают чепухой, ставят в безвыходное положение! И чего только мне не приписывают, боже мой! Эти подметальщики забрызгивают грязью меня самого больше, чем тех, в кого они нацеливаются! Я в отчаянии: ma cosi va il mondo”VI.
В этих нескольких строках я хотел подчеркнуть разницу в положении, которое в ту пору, накануне встречи, занимали в Париже Вагнер и Россини. Один был превозносим как полубог, другой еще не имел имени, и над ним глумились чуть ли не как над злоумышленником. И, тем не менее, не забудем, что гений Вагнера был в полном расцвете, что сам он в своих собственных глазах был уже тем великим человеком, каким его впоследствии признал весь мир. В углу его скромного жилища на улице Ньютона уже покоился труд титана, никому неведомый, колоссальный — полностью завершенная опера “Тристан и Изольда” и почти законченная тетралогия “Кольцо нибелунга”9.
Верный уговору, Вагнер в условленный час (о котором он с излишней заботливостью напомнил мне рано утром запиской) зашел за мной. Это было в нескольких шагах от квартиры Россини, и мы сейчас же отправились туда. Подымаясь по лестнице, я сказал Вагнеру: “Если Россини окажется в хорошем настроении, вы будете очарованы его беседой. Вы получите наслаждение. И не удивляйтесь, если увидите, что я делаю кое-какие заметки...”
— Для печати? — спросил Вагнер.
— Ни в коем случае, — ответил я, — исключительно для моих личных воспоминаний. Если бы у Россини родилось малейшее подозрение, что я кое-что предам гласности, он бы рта не раскрыл. Он питает отвращение к рекламированию своей частной жизни, мне же он полностью доверяет.
Предоставив жене пользоваться всеми апартаментами, Россини сохранил для себя рядом со столовой уголок в четыре выходивших на бульвар окна, состоявший из кабинета, куда он почти не заглядывал, и спальни, которую никогда не покидал. Кровать, письменный стол, секретер, маленький прямострунный рояль Плейеля — вот вся обстановка этой комнаты, отличавшейся крайней простотой. Здесь он принимал своих посетителей без всякого различия: от непритязательных попрошаек до светлостей, высочеств и коронованных особ. Там же принял он и Вагнера.
Когда о нас доложили, маэстро заканчивал завтрак. Мы подождали несколько минут в большой гостиной.
Вагнер сразу обратил внимание на портрет Россини, на котором он изображен в натуральную величину в большом зеленом плаще с красной шапочкой на голове. Портрет в свое время был репродуцирован и стал широко известен.
— Это умное лицо, этот иронический рот, это уж, конечно, автор “Севильского цирюльника”, — обратился ко мне Вагнер. — Этот портрет должен относиться ко времени создания этой оперы?
— Четырьмя годами позже, — ответил я, — портрет написан Мейером в Неаполе и относится к 1820 году.
— Он был красивый малый. Воображаю, сколько опустошений он произвел в стране Везувия, где женские сердца так легко воспламеняются, — отозвался Вагнер с улыбкой.
— Кто знает, — сказал я, — если бы он, подобно Дон Жуану имел слугу, который был бы таким же хорошим счетоводом, как Лепорелло, то, может быть, число mille е treVII, отмеченное в его списке 10, оказалось бы перекрытым.
— О, как вы далеко заходите, — возразил Вагнер, — mille — это я допускаю, но еще tre — это уже слишком!
В эту минуту слуга известил о том, что Россини нас ждет. Как только мы вошли к нему, Россини воскликнул: “Ах, господин Вагнер, вы, как новый Орфей, не бойтесь переступить этот страшный порог...” И, не давая Вагнеру ответить, добавил: “Я знаю, меня очень очернили в ваших глазахVIII. Мне приписывают всяческие насмешливые замечания по вашему адресу, которых ничто не могло бы оправдать с моей стороны. И для чего мне так поступать? Я не Моцарт и не Бетховен! Я не претендую и на ученость, но я учился вежливости и никогда не позволил бы себе оскорблять музыканта, который, подобно вам, как мне говорили, стремится расширить границы нашего искусства. Эти великие умники, которым доставляет удовольствие заниматься мною, должны были хотя бы согласиться с тем, что, помимо других достоинств, я обладаю здравым смыслом.
Что касается разговоров о моем презрении к вашей музыке, то ведь я прежде всего должен был бы знать ее. А для того чтобы знать ее, я должен был бы послушать ее в театре, потому что только в театре, а не при чтении партитуры можно вынести беспристрастное суждение о музыке, предназначенной для сценического воплощения.
Ваше единственное произведение, которое я знаю, это марш из “Тангейзера”. Я его много раз слышал в Киссенгене, где три года тому назад проходил лечение. Марш производил большое впечатление и, признаюсь откровенно, показался мне очень красивым.
А теперь, когда, надеюсь, всякие недоразумения между нами рассеялись, скажите мне, как вы себя чувствуете в Париже? Как идут переговоры о постановке вашей оперы “Тангейзер”?..
Вагнер, казалось, был взволнован этим приветливым вступлением, оказанным просто и добродушно. Полный почтительности он ответил: “Разрешите мне, прославленный мэтр, поблагодарить вас за ваши любезные слова. Они меня очень тронули. Я вижу в приеме, который вы мне оказали, доказательство вашего благородного характера, в величии которого я, впрочем, никогда не сомневался. Прошу вас также верить, что я бы не считал себя оскорбленным, если бы вы меня подвергли суровейшей критике. Я знаю, что мои работы способны вызвать ошибочные суждения. Перед обширной системой новых идей самые благонамеренные судьи могут заблуждаться в определении их значения. Вот почему я так стремлюсь показать логическое и полное выражение моих намерений наилучшим исполнением моих опер...”
Россини. И это правильно, ибо факты убедительнее слов.
Вагнер. Для начала я делаю все возможное, чтобы поставить моего “Тангейзера”. Я его недавно проиграл Карвальо, Тот вынес очень хорошее впечатление и как будто собирается осуществить постановку, но ничто еще не решено. К несчастью, чья-то злая воля, которая уже давно действует против меня в прессе, угрожает организовать настоящий заговор... Можно опасаться, что Карвальо подвергнется его влиянию...
При слове заговор Россини (горячо). А кто тот композитор, который от него не страдал, начиная с самого великого Глюка? Можете мне поверить, что и на мою долю досталось немало. На премьере “Севильского цирюльника”, на которой я, согласно обычаям, установленным тогда в Италии для оперы-буффа, аккомпанировал речитативам на чембало, сидя в оркестре, мне пришлось спасаться от разъяренной толпы. Я думал, что меня убьют. Здесь, в Париже, куда я впервые приехал в 1824 году по приглашению дирекции Итальянского театра, меня приветствовали насмешливым прозвищем “Господин Vacarmini”IX, которое осталось за мной на всю жизнь. Уверяю вас, со мной поступали круто, в лагере некоторых музыкантов и газетных критиков я встретил самое грубое обращение, и это с их обоюдного согласия, столь же совершенно согласованного как мажорное трезвучиеX!
То же самое происходило в Вене, когда я туда приехал в 1822 году для постановки моей оперы “Зельмира”. Сам Вебер, уже давно печатавший статьи, в которых метал против меня громы и молнии, в результате постановки моих опер в Придворном итальянском театре преследовал меня беспрерывно...
Вагнер. О, Вебера я знаю, он был очень нетерпим. Особенно он становился невыносимым, когда дело касалось защиты немецкого искусства. Но ему, может быть, такое поведение и простительно, если вы во время вашего пребывания в Вене с ним не встречались? Великий гений, он умер так преждевременно...
Россини. Это верно, он был великим гением, и к тому же подлинным, ибо он творил самобытно и никому не подражал. В Вене действительно я с ним не встречался, но позже познакомился с ним в Париже, где он остановился на несколько дней по пути в Англию 12. По приезде он стал, как это принято, делать визиты наиболее видным музыкантам: Керубини, Герольду, Буальдьё. Представился он и мне. Так как я не был предупрежден о его визите, то при виде этого гениального композитора я от неожиданности, откровенно говоря, испытал волнение, близкое к тому, что я почувствовал незадолго до того при встрече с Бетховеном. Очень бледный, задыхающийся от подъема по лестнице (ибо он был уже сильно болен), бедный малый, как только меня увидел, счел необходимым признаться не без смущения, которое увеличивалось от недостаточного знания французского языка, что он резко выступал против меня в своих музыкально-критических статьях, но что... Я не дал ему кончить... “Оставим, — перебил я его, — не будем говорить об этом, к тому же, — добавил я, — я не читал ваших статей, так как не знаю немецкого языка... Единственные слова из вашего чертовски трудного для музыканта языка, которые я после героических усилий сумел запомнить и произносить, были ich bin zufriedenXI. Я был этим горд и в Вене пользовался ими без разбора во всех случаях жизни — торжественных или частных, — торжественных в первую очередь. Это привело к тому, что у жителей Вены, считавшихся самыми любезными среди обитателей всех немецких государств, и в особенности у красавиц-венок, я прослыл учтивейшим человеком: “Ich bin zufrieden”. Эти слова придали Веберу больше уверенности — заставили его улыбнуться и отбросить всякое стеснениеXII. “Впрочем, — продолжал я, — самим обсуждением моих опер вы уже оказали мне большую честь: ведь я ничто по сравнению с великими гениями вашей родины. Разрешите мне вас обнять, и если моя дружба для вас что-нибудь стоит, то, верьте мне, я вам ее предлагаю от чистого сердца”. Я его горячо обнял и увидел, что у него выступили слезы на глазах.
Вагнер. Он в это время уже был болен чахоткой, которая вскоре и свела его в могилу.
Россини. Верно. У него был очень плачевный вид: мертвенно-бледный цвет лица, исхудавший, сотрясаемый сухим кашлем чахоточных... к тому же прихрамывающий. Больно было на него смотреть. Несколько дней спустя Вебер явился снова и попросил дать ему рекомендательные письма в Лондон, куда он собирался поехать. Я пришел в ужас от его намерения совершить такое путешествие и принялся его самым энергичным образом отговаривать, говоря, что он совершает преступление... самоубийство! Ничто не действовало. “Я это знаю, — отвечал он, — я там и умру... Но это необходимо. Я должен там поставить “Оберона”, у меня контракт, это необходимо, это необходимо...”
Среди писем для Лондона, где я во время моего пребывания в Англии установил важные связи, было рекомендательное послание к королю Георгу, весьма радушно относившемуся к артистам, а ко мне особенно приветливо. С разбитым сердцем обнял я Вебера на прощанье, предчувствуя, что больше его не увижу. Так оно и случилось. Povero ВеберXIII!
...Но мы говорили о заговорах, — продолжал Россини. — Мое мнение на этот счет таково: на них нужно отвечать молчанием и равнодушием. Верьте мне, это действует сильнее, чем возражения и гнев. Этих злопыхателей легион. Кто в одиночку захочет отбиваться или, если угодно, сражаться против этой банды, тот должен знать, что последнее слово всегда останется за ней. Что касается меня, то я плевал на их нападки. Чем больше прокатывались по моему адресу, тем больше я закатывал рулад. На всякие клички я отвечал моими триолями, на lazzi моими pizzicatiXIV. И весь трезвон, который подымали те, кому они не нравились, никогда не мог заставить меня, клянусь вам, выкинуть хоть один удар большого барабана из моих крешендо или помешать, когда мне требовалось, привести их в ужас еще одним felicitaXV в моих финалах 13. Хотя вы видите на моей голове парик, поверьте мне, ни один волос с моей головы не упал из-за этих болвановXVI.
В первую минуту Вагнер был оглушен этой живописной тирадой, в которой итальянский маэстро, вначале такой важный и серьезный, внезапно предстал в совершенно ином облике (Россини действительно превратился в самого себя: веселого собеседника, шутника, называющего все вещи их настоящими именами). Вагнер с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться.
“О, что касается этого, — воскликнул он, показав пальцем на лоб, — то благодаря тому, чем вы, маэстро, там владеете, не было ли это равнодушие скорее вашей подлинной, признанной публикой властью, столь суверенной, что можно лишь пожалеть тех сумасшедших, которые сталкивались с ней?.. Но вы, кажется, только что говорили, что встречались с Бетховеном?”
Россини. Верно. Как раз в 1822 году, когда я приехал в Вену ставить свою оперу “Зельмира”. Еще в Милане я слышал некоторые квартеты Бетховена и вряд ли я должен говорить о своем восторге. Я уже знал и несколько его фортепианных произведений. В Вене я впервые услышал его “Героическую”. Ее музыка меня совершенно потрясла, и я был охвачен только одной мыслью: познакомиться с этим великим гением, увидеть его хоть раз. Я обратился к Сальери, который был вхож к Бетховену.
Вагнер. Сальери — автор “Данаид”? 14
Россини. Тот самый. Он довольно долго жил в Вене и занял там видное положение в результате успехов некоторых своих опер на итальянской сцене. Он подтвердил, что иногда встречается с Бетховеном, но ввиду его мрачного и своенравного характера исполнить мою просьбу будет не очень легко. Кстати, этот самый Сальери по многу раз встречался с Моцартом. После смерти последнего он был заподозрен и даже серьезно обвинен в том, что из-за профессиональной зависти отравил Моцарта медленно действующим ядом...
Вагнер. В мое время этот слух еще держался в Вене.
Россини. Я себе однажды доставил удовольствие и в шутливом тоне сказал Сальери: “Какое счастье, что Бетховен из чувства самосохранения избегает приглашать вас к столу, — иначе вы бы и его отправили на тот свет, как сделали это с Моцартом”. “Я по вашему похож на отравителя?” — спросил Сальери. “О нет! Вы больше похожи на отъявленного труса”, — ответил я, а он таким и был. Этот тип очень мало беспокоился, впрочем, по поводу приписываемого ему убийства Моцарта. Но чего он не мог переварить — это выступления одного венского журналиста, защитника немецкой музыки, недолюбливавшего итальянскую оперу и больше всего Сальери. Он написал как-то, что в “Данаиды” Сальери вложил все содержание своей бочки и что это было отнюдь не трудно, так как бочка и вообще-то была пустая. Огорчение Сальери по этому поводу было беспредельно. Но я должен признать, что мне он пошел навстречу и обратился с моей просьбой к итальянскому поэту Карпани, бывшему при Бетховене persona grataXVII, чье посредничество сулило успех. Карпани действительно так настойчиво уговаривал Бетховена, что тот согласился меня принятьXIX.
Что я могу сказать? Поднимаясь по лестнице, которая вела к убогой квартире, где жил великий человек, я с трудом поборол свое волнение. Когда нам открыли дверь, я очутился в довольно грязной комнатушке, в которой царил страшный беспорядок. Мне особенно запомнился потолок, находившийся, по-видимому, под самой крышей. Он весь был в широких трещинах, через которые дождь должен был лить ручьем.
Портреты Бетховена, которые мы знаем, в общем довольно верно передают его облик. Но никаким резцом нельзя отобразить ту неизъяснимую печаль, которой были пронизаны черты его лица. В то же время под его густыми бровями, как будто из пещеры, сверкали небольшие, но, казалось, пронизывающие вас глаза. Голос у него был мягкий и несколько глуховатый.
Когда мы вошли, он вначале не обращал на нас внимания, занятый окончанием нотной корректуры. Затем, подняв голову, он порывисто обратился ко мне на довольно понятном итальянском языке: “А, Россини! Это вы автор “Севильского цирюльника”? Я вас поздравляю, это прекрасная опера-буффа. Я ее прочел и получил удовольствие. Пока будет существовать итальянская опера, ее не перестанут играть. Пишите только оперы-буффа, а в другом жанре не стоит испытывать судьбу”.
“Но, — внезапно прервал его сопровождавший меня Карпани (разумеется, он писал по-немецки то, что хотел сказать, ибо только так можно было вести беседу с Бетховеном, которую Карпани переводил мне слово в слово), — маэстро Россини написал большое количество опер-сериа: “Танкред”, “Отелло”, “Моисей”, я вам их недавно прислал и просил с ними познакомиться”.
“Я их бегло просмотрел, — возразил Бетховен, — но видите ли, опера-сериа не в природе итальянцев. Чтобы работать над настоящей драмой, им не хватает музыкальных знаний. Да и где их можно было бы получить в Италии?..”
Вагнер. Этот удар львиных когтей привел бы в ужас Сальери, если бы он при этом присутствовал...
Россини. Ну нет! Я ему рассказал об этом разговоре. Он прикусил губу, но, думаю, не очень больно, ибо, как я уже вам говорил, он был боязлив до такой степени, что, безусловно, на том свете владыка ада устыдился бы поджаривать подобного жалкого труса и послал бы его коптиться в другое место! Но вернемся к Бетховену. “В опере-буффа, — продолжал он, — с вами — итальянцами — никто не сможет сравниться. Ваш язык и живость его, ваш темперамент для нее и предназначены. Посмотрите Чимарозу: разве в его операх комическая сторона не превосходит все остальное? То же самое у Перголези. Вы — итальянцы — стараетесь сделать событие из церковной музыки. В его Stabat mater есть много трогательного чувства, я с этим согласен, но форма лишена разнообразия... впечатление монотонно в то время, как „Служанка-госпожа"”...
Вагнер (перебивая). Но вы, маэстро, к счастью, не последовали советам Бетховена?
Россини. Если говорить правду, то я все же больше способен писать комические оперы. Я охотнее брался за комические сюжеты, чем за серьезные. К сожалению, не я выбирал для себя либретто, а мои импресарио. А сколько раз мне приходилось сочинять музыку, имея перед глазами только первый акт и не представляя, как развивается действие и чем закончится вся опера? Подумайте только... в то время я должен был кормить отца, мать и бабушку. Кочуя из города в город, я писал три, четыре оперы в год. И, можете мне поверить, все же был далек от материального благополучия. За “Севильского цирюльника” я получил от импресарио тысячу двести франков и в подарок костюм орехового цвета с золотыми пуговицами, дабы я мог появиться в оркестре в приличном виде. Этот наряд стоил, пожалуй, сто франков, всего, следовательно, тысяча триста франков. Так как “Севильского цирюльника” я писал тринадцать дней, то выходило по сто франков в день. Как видите, — прибавил Россини, улыбаясь, — я все-таки получал солидный оклад. Я очень гордился перед собственным отцом, который в бытность свою tubatoreXX в Пезаро получал всего два франка пятьдесят сантимов в день.
Вагнер. Тринадцать дней! Это поистине небывалый случай!.. Я восхищаюсь, маэстро, тем, как вы в таких условиях, ведя к тому же жизнь цыгана, могли написать такие превосходные страницы музыки, как в “Отелло” и “Моисее”. Ведь они носят печать не импровизации, а продуманного труда, требующего концентрации всех душевных сил!
Россини. О, у меня было хорошее чутье, да и писалось мне легкоXXI. Не получив углубленных музыкальных знаний, — да и как бы я мог их приобрести в Италии тех лет? — я почерпнул в немецких партитурах то немногое, что знал. У одного болонского любителя было несколько партитур: “Сотворение мира”, “Свадьба Фигаро”, “Волшебная флейта”... Он мне их давал на время. В свои пятнадцать лет я не имел средств выписывать ноты из Германии и потому переписывал их с остервенением. Должен признаться, что для начала я списывал только вокальную партию, не заглядывая в оркестровое сопровождение. На клочке бумаги я писал свой вольный аккомпанемент и потом сравнивал его с оригиналом Гайдна или Моцарта. Затем переписанную вокальную строчку дополнял их аккомпанементом. Эта система работы дала мне больше, чем весь Болонский лицей. О, я чувствую, что если бы я мог учиться музыке в вашей стране, я бы создал что-нибудь получше того, что мною написано.
Вагнер. Но это, конечно, не было бы лучше “Сцены во тьме” из “Моисея”, сцены заговора из “Вильгельма Телля” и из музыки другого жанра—Quando Corpus morieturXXII .
Россини. Согласен. Но ведь это только счастливые мгновения в моей карьере. А что все это стоит по сравнению с творчеством какого-нибудь Моцарта или Гайдна?
Не могу вам передать, как я восхищаюсь их тонкими знаниями и свойственной им естественной уверенностью, сквозящей у них из каждой страницы. Я им всегда завидовал. Науку нужно одолеть на школьной скамье, но еще нужно быть Моцартом, чтобы уметь ею пользоваться. Что касается Баха, если говорить пока только о немцах, — то его гений просто подавляет. Если Бетховен чудо среди людей, то Бах чудо среди богов. Я подписался на полное собрание его сочинений. Да вот... на моем столе как раз последний вышедший том. Сказать правду? День, когда придет следующий, будет для меня снова днем несравненных наслаждений. Как бы мне хотелось до того, как я покину этот мир, услышать исполнение его великих “Страстей” целиком! Но здесь — у французов — об этом и мечтать нельзя...
Вагнер. Мендельсон первым ознакомил немцев со “Страстями” в мастерском исполнении, которым он сам дирижировал в Берлине.
Россини. Мендельсон! Ах, какая симпатичная личность! Я с удовольствием вспоминаю приятные часы, проведенные в его обществе в 1836 году во Франкфурте. Я приехал туда (в ту пору я жил в Париже) по случаю празднования свадьбы в семье Ротшильдов, на которую я был приглашен. Фердинанд Гиллер познакомил меня с Мендельсоном. Как я был очарован его исполнением на рояле наряду с другими пьесами нескольких восхитительных “Песен без слов”! Потом он мне играл Вебера. Затем я стал просить играть Баха, много Баха. Гиллер меня предупредил, что в исполнении Баха никто с Мендельсоном не может сравниться.
В первую минуту Мендельсон казалось был поражен моей просьбой. “Как, — воскликнул он, — вы — итальянец — в такой мере любите немецкую музыку?” “Но я люблю только ее, — ответил я и совсем развязно прибавил: — А на итальянскую музыку мне наплевать!”
Мендельсон посмотрел на меня с крайним удивлением, что не помешало ему однако с замечательным увлечением сыграть несколько фуг и ряд других произведений великого Баха. Позже Гиллер мне рассказывал, что, после того как мы расстались, Мендельсон ему сказал, вспоминая мои слова: “Неужели Россини говорил серьезно? Во всяком случае, он презабавный малый!”
Вагнер (смеясь от всего сердца). Представляю себе, маэстро, изумление Мендельсона! Но не разрешите ли вы мне узнать, чем закончился ваш визит к Бетховену?
Россини. О, он длился недолго. Это понятно, поскольку с нашей стороны беседу пришлось вести письменно. Я ему выразил все свое преклонение перед его гением и благодарность за то, что он дал мне возможность ему все это высказать... Он глубоко вздохнул и сказал только: “Oh! un infelice!”XXIII Затем, после паузы, задал мне несколько вопросов о состоянии театров в Италии, о знаменитых певцах... Спрашивал, часто ли там играют Моцарта, доволен ли я итальянской труппой в Вене. Потом, пожелав хорошего успеха моей “Зель-мире”, он поднялся, проводил нас до дверей и повторил еще раз: “Пишите побольше “Севильских цирюльников””.
Спускаясь по расшатанной лестнице, я испытал такое тяжелое чувство при мысли об одиночестве и полной лишений жизни этого великого человека, что не мог удержать слез. “Что вы, — сказал мне Карпани, — он этого хочет сам, он мизантроп, человек нелюдимый и ни с кем не ведет дружбы”.
В тот же вечер я присутствовал на торжественном обеде у князя Меттерниха. Все еще потрясенный встречей с Бетховеном, его скорбным восклицанием “Un infelice!”, еще звучавшим в моих ушах, я не мог отделаться от смущения, видя себя окруженным таким вниманием в этом блестящем венском обществе, в то время как Бетховен был его лишен. И я открыто и не выбирая выражений высказал вслух все, что думаю об отношении двора и аристократии к величайшему гению эпохи, которым так мало интересовались и которого бросили на произвол судьбы. Мне ответили теми же словами, какими говорил Карпани. Я тогда спросил: “Неужели глухота Бетховена не заслуживает самого глубокого сострадания?.. Так ли уж трудно, прощая ему слабости характера, найти повод, чтобы оказать ему помощь?” Я прибавил, что богатые семейства могли бы очень легко собрать между собою по минимальной подписке такую сумму, которая обеспечила бы ему пожизненное безбедное существование. Но меня никто не поддержал.
После обеда у Меттерниха состоялся прием, на котором присутствовала высшая венская знать. Прием закончился концертом. В программе фигурировало одно из последних трио Бетховена... Он всегда, везде он, как незадолго до того говорили про Наполеона! Новый шедевр был прослушан с благоговением и имел блестящий успех.
Слушая трио среди светского великолепия, я с грустью думал о том, что в это самое время великий человек в своем уединении заканчивает, быть может, какое-нибудь произведение высокого вдохновения, к высшей красоте которого он приобщит и блистательную аристократию. А она его исключает из своей среды и, утопая в удовольствиях, не тревожится о том бедственном положении, на которое обречен создатель этой красоты.
Не получив поддержки в попытке организовать Бетховену годовую ренту, я однако рук не опустил. Я решил попытаться собрать средства на приобретение для него жилища. Несколько человек подписались, прибавил кое-что и я, но сумма оказалась недостаточной. Пришлось отказаться и от этого проекта. Мне везде говорили: “Вы плохо знаете Бетховена. Как только он станет владельцем дома, он его на следующий день продаст. Он никогда нигде не уживается, потому что испытывает потребность менять квартиру каждые шесть месяцев, а прислугу каждые шесть недель”.
Надо ли было на этом остановиться? Впрочем, хватит говорить обо мне и о других. Это дела прошедших и давно прошедших дней. Поговорим о настоящем и, если угодно, господин Вагнер, то и о будущем, поскольку в печати ваше имя почти всегда появляется неотделимо от этого эпитета. Разумеется, я говорю это без какой-либо задней мысли.
Прежде всего скажите мне, окончательно ли вы обосновались в Париже? Что касается вашей оперы “Тангейзер”, то я убежден, что вам удастся ее поставить. Вокруг этого произведения поднялся слишком большой шум, чтобы парижане отказались от желания его послушать. Перевод уже сделан?
Вагнер. Он еще не закончен. Я интенсивно работаю с очень искусным и к тому же терпеливым сотрудником. Потому что для полного понимания публикой музыкальной выразительности необходима идентичность каждого французского слова со смыслом соответствующего немецкого слова на тех же нотах. Это тяжелая и трудноосуществимая работа!
Россини. Но почему же вы по примеру Глюка, Спонтини, Мейербера не напишете оперу сразу на французский текст? Ведь вы теперь на месте уже можете отдать себе отчет в преобладающих здесь вкусах и в том особенном, чисто французском темпераменте, который свойствен здешнему театральному духу. Я сам стал на такой путь, после того как покинул Италию и, оставив свою итальянскую карьеру, решил обосноваться в Париже.
Вагнер. Ко мне, маэстро, это неприменимо. После “Тангейзера” я написал “Лоэнгрина”, затем “Тристана и Изольду”. Эти три оперы с двух точек зрения — литературной и музыкальной — представляют собой логическую последовательность в моей концепции окончательной и абсолютной формы музыкальной драмы. В процессе становления мой стиль подвергся ряду неминуемых преобразований. И если я сегодня в состоянии написать ряд других произведений в стиле “Тристана”, то уже совершенно не в состоянии вернуться к стилю “Тангейзера”. Следовательно, если бы обстоятельства вынудили меня сочинить для Парижа оперу на французский текст, я не мог бы и не должен был бы идти другим путем, чем путь “Тристана”. А такое сочинение, которое, подобно последнему, осуществляет полный переворот в общепринятых оперных формах, наверное, осталось бы непонятным и при теперешнем состоянии умов не имело бы ни малейшего шанса на успех у французов.
Россини. Скажите мне тогда, каковы отправные точки вашей реформы?
Вагнер. К этой системе я пришел не сразу. Мои сомнения начались с первых же опытов композиции, которые меня не удовлетворяли. И зародыш этой реформы обнаружился прежде всего в концепции литературного, а не музыкального материала. Мои первые работы и в самом деле преследовали литературные цели. Затем меня захватила проблема расширения их смысла посредством присоединения звуковой выразительности, столь глубоко экспрессивной. И тогда я с огорчением увидел, в какой мере мое стремление к идеалу сковывается рутинными требованиями музыкальной драмы. О эти arie di bravuraXXIV, эти пошлые дуэты, фабрикуемые по одному и тому же образцу, сколько других вставок, без всякого смысла останавливающих сценическое действие, и, наконец, эти септеты! Потому что в каждой порядочной опере необходим торжественный септет, в котором действующие лица драмы, пренебрегая смыслом своих ролей, выстраиваются в одну линию перед рампой, чтобы в полном согласии прийти к одному общему аккорду (и часто, Боже мой, к какому аккорду!), к одному из самых безвкусных шаблонов...
Россини (прерывая). Вы знаете, как мы это в мое время называли в Италии? Грядка артишоков! Признаться, я прекрасно сознавал смехотворность этого обычая. Участники финала мне всегда казались бандой facchiniXXV, которые пришли спеть, чтобы получить на чай. Но что поделать? Это было привычно, это была уступка, которую нужно было сделать публике... Без этого нас бы забросали печеными яблоками, а то... и непечеными.
Вагнер (продолжает, не обращая внимания на реплику Россини). А что касается оркестровки, то эти рутинные аккомпанементы... бесцветные... упорно повторяющие одни и те же приемы, независимо от характеров персонажей и сценических ситуаций... одним словом, эта концертная музыка, чуждая действию, единственное оправдание которой только в ее условности, музыка, которая во многих случаях засоряет самые известные оперы... все это мне казалось идущим вразрез со здравым смыслом и несовместимым с высокой миссией благородного искусства, достойного этого звания.
Россини. Вы, между прочим, упомянули aria di bravura. Кому вы это говорите? Они были моим кошмаром. Надо было одновременно удовлетворить la prima donna, il primo tenore, il primo basso!..XXVI А на моем пути были такие типы (не говоря о страшных особенностях женской части труппы!), которые умудрялись подсчитывать количество тактов в своих ариях и отказывались их петь, если в арии партнера было на несколько тактов, трелей или группетто больше...
Вагнер (смеясь). Надо было измерять локтем! Композитору ничего другого не оставалось, как завести в качестве сотрудника метр, который измерял бы его вдохновение.
Россини. Короче говоря — ария-метр! Эти люди, какими я их вспоминаю, поистине были жестоки. Это по их вине вечно потела моя голова, и поэтому я так рано облысел. Но оставим это и вернемся к вашим рассуждениям...
Конечно, нельзя ничего возражать против того, что надо принимать во внимание только рациональное, быстрое и правильное развитие драматического действия. Но как же сочетать независимость, которую требует литературная концепция, с музыкальной формой, являющейся, по вашему выражению, только условностью? Если придерживаться абсолютной логики, то люди прежде всего не поют, когда спорят, не поет человек в припадке гнева, ревности, в момент заговора. (Шутливо). Исключение может быть сделано для влюбленных, которым в крайнем случае можно дать поворковать... Больше того: разве кто-нибудь поет, когда умирает? Следовательно, опера есть условность от начала до конца. А сама по себе инструментовка?.. Кто может с точностью сказать о разбушевавшемся оркестре, изображает ли он бурю, мятеж или пожар? Всегда условность!
Вагнер. Очевидно, маэстро, условность допустима, — и даже в очень большой мере, иначе пришлось бы совершенно отказаться от оперы и даже от музыкальной комедии. Не подлежит также сомнению, что условностью, возведенной в ранг искусства, можно пользоваться только в тех случаях, когда она не будет приводить к абсурду, к смешному. Вот именно против такого злоупотребления условностью я и выступал. Но люди затемнили мою мысль. Разве же меня не выдавали за гордеца, поносящего... Моцарта?
Россини (не без юмора). Mozart, 1'angelo della musica...XXVII Но кто рискнет до него дотронуться, если заведомо не отважится на кощунство?
Вагнер. Меня обвиняют, что за ничтожными исключениями, к которым принадлежат Глюк и Вебер, я отвергаю всю существующую оперную музыку. Очевидно, имеется налицо предвзятое решение ничего не понимать в моих сочинениях. Подумайте! Я далек от того, чтобы оспаривать обаяние чистой музыки, как таковой, ибо сам испытал его в стольких, по праву знаменитых, оперных страницах. Я возмущаюсь и восстаю против той роли, которая отводится этой музыке, обрекаемой обслуживать чисто развлекательные вставки или, когда, чуждая сценическому действию и подчиненная рутине, она имеет цель только услаждать слух. Вот с чем я борюсь и чему противодействую.
Опера, по моей мысли, самым существом своим предназначена представлять организм, в котором сосредотачиваются в полном согласии все искусства, участвующие в его становлении: поэтическое, музыкальное, декоративное и пластическое. Разве же допустимо низводить музыканта до простого инструментального иллюстратора какого-нибудь либретто, с заранее по шаблону расставленными номерами арий, дуэтов, сцен, ансамблей... — одним словом, отрывков (отрывков, то есть оторванных кусков, в точном смысле слова), которые ему предлагается перевести на ноты, примерно как колористу раскрасить черно-белые гравюрные оттиски?
Конечно, существуют многочисленные примеры, когда композиторы, вдохновленные волнующей драматической ситуацией, написали бессмертные страницы музыки. Но сколько в тех же партитурах встречается страниц, испорченных неправильной системой, о которой я говорю! Пока эти заблуждения будут продолжаться, пока не поймут необходимости господства в опере полного взаимопроникновения музыки и драмы [1е роеme], пока этот двойной замысел не будет сразу же выливаться в одну мысль, — до тех пор не будет истинной музыкальной драмы.
Россини. Следовательно, если я вас верно понял, для осуществления ваших идеалов композитор должен быть своим собственным либреттистом? Но по многим причинам это условие мне кажется непреодолимым.
Вагнер (очень живо). Почему же? Какие обстоятельства мешают композитору одновременно с изучением контрапункта заниматься литературой, изучать историю, читать легенды? В итоге именно таким образом он инстинктивно привязался бы к тому сюжету, лирическому или трагическому, который соответствовал бы его темпераменту!.. И если бы у композитора не хватило умения или опыта для удовлетворительного разрешения драматической интриги, разве не мог бы он обратиться к профессиональному драматургу, с которым нашел бы общий язык для успешного сотрудничества?
Ведь и между оперными композиторами найдется мало таких, которые при случае инстинктивно не проявляли бы замечательных литературных и поэтических способностей, перестраивая и переделывая по своему вкусу то ли текст, то ли расположение сцены, которую они воспринимали иначе и понимали лучше своих либреттистов.
Чтобы далеко не ходить за примерами, начнем с вас, маэстро. Разве вы станете утверждать, что в сцене заговора из “Вильгельма Телля” вы послушно, слово в слово, следовали за текстом ваших либреттистов? Я в это не верю. При близком рассмотрении нетрудно обнаружить во многих местах эффекты декламации и нарастаний, на них, если можно так выразиться, лежит такая печать музыкальности, такого непосредственного вдохновения, что я отказываюсь приписывать их происхождение исключительно влиянию той текстовой канвы, которая была у вас перед глазами. Никакой, даже самый искусный либреттист не сумеет, особенно в сложных ансамблевых сценах, понять то расположение слов и ситуаций, которые подходят композитору для воплощения музыкальной фрески в том виде, в каком она витает в его воображении.
Россини. Вы правы. Действительно, названная вами сцена была значительно — и не без труда — переделана согласно моим указаниям. Я сочинял “Вильгельма Телля” на даче моего друга Агуадо, где проводил лето. Моих либреттистов у меня под рукой не было, но там же жили Арман Марраст и Кремье (между прочим, два будущих заговорщика против правительства Луи-Филиппа), и они мне помогли в переделке текста и стихов и в разработке плана моих заговорщиков против Гесслера.
Вагнер. Вот этот ваш непосредственный рассказ является частичным подтверждением того, что я только что сказал. Достаточно этому принципу придать несколько расширенное толкование, чтобы установить, что мои идеи не так противоречивы и в то же время не так неосуществимы, как это может показаться с первого взгляда.
Я утверждаю, что в результате естественной, хотя, возможно, и медленной эволюции логически неизбежно зарождение не музыки будущего, на единоличное изобретение которой я якобы претендую, а будущего музыкальной драмы, к созданию которой будет причастно все общественное движение и откуда появится столь же плодотворная, сколь и новая ориентация в концепциях композиторов, певцов и публики.
Россини. Но это в конце концов радикальный переворот! А вы верите, что певцы, — начнем с них, — привыкшие показывать свои таланты посредством виртуозности, согласятся обходиться, если я верно предугадываю, чем-то вроде мелодической декларации? [melopee declamatoire]. А верите ли вы, что публика пойдет на разрушение всего того старого оперного уклада, к которому она привыкла за всю историю оперы? Я в этом сильно сомневаюсь.
Вагнер. Это перевоспитание потребует времени, но оно неминуемо. Разве публика создает своих учителей, а не учителя формируют публику? Я опять-таки сошлюсь на вас как на блестящий пример. Разве не ваш стиль, такой индивидуальный, заставил забыть в Италии всех ваших предшественников и снискал вам с неслыханной быстротой беспримерную популярность? А затем, маэстро, ваше влияние, перейдя за рубежи Италии, разве не стало всемирным?
Что касается певцов, о чьем противодействии вы меня предостерегаете, то они должны будут подчиниться и принять предложение, несомненно ведущее к их возвышению. Когда они убедятся, что опера в ее новом виде не будет им давать повода дл” дешевых успехов, обеспечиваемых силой легких или преимуществами чарующего голоса, — они поймут, что отныне искусство возлагает на них более высокую миссию. Вынужденные отказаться от замыкания в рамках собственных ролей, они начнут проникаться философским и эстетическим духом произведения в целом. Они будут жить, если можно так выразиться, в атмосфере, где все составляет часть целого и где ничто не может быть второстепенным. Больше того, отвыкнув от эфемерных успехов, приносимых скоропреходящей виртуозностью, освободившись от мучительной необходимости возглашать нелепые, банально срифмованные слова, они убедятся в возможности окружить свое имя более славным и более долговечным ореолом тогда, когда они будут сживаться с изображаемыми персонажами и в психологическом, и человеческом плане. проникаться смыслом их поведения в драме, когда они будут опираться на углубленное изучение идей, нравов, характера эпохи, в которой происходит действие, и, наконец, когда они к своей музыкально-правдивой и благородной декламации прибавят безупречную дикцию.
Россини. С точки зрения чистого искусства ваши перспективы широки и соблазнительны. Но с точки зрения музыкальной формы в частности — это значит, как я уже говорил, фатально стремиться к мелодической декламации, петь отходную мелодии. Если это не так, то как связать задачу выразительности, если можно так сказать, каждого слога в речи с мелодической формой, чей определенный ритм и симметричная согласованность составляющих частей [membres] должны определить ее облик?
Вагнер. Конечно, маэстро, прямолинейное применение такой системы было бы неприемлемо. Но постарайтесь меня верно понять: я далек от желания отказаться от мелодии; Наоборот, я требую ее — и полной чашей. Разве не мелодия дает расцвет музыкальному организму? Без мелодии нет и не может быть музыки. Но давайте договоримся: я требую другой мелодии, — не той, которая, будучи заключена в тесные рамки условных приемов, тащит на себе ярмо симметричных периодов, упорных ритмов, заранее предусмотренных гармонических ходов и обязательных кадансов. Я хочу мелодию свободную, независимую, не знающую оков; мелодию, точно указывающую в своих характерных очертаниях не только каждый персонаж так, чтобы его нельзя было смешать с другим, но любой факт, любой эпизод, вплетенный в развитие драмы; мелодию, по форме очень ясную, которая, гибко и многообразно откликаясь на смысл поэтического текста, могла бы растягиваться, суживаться, расширятьсяXXVIII, следуя за требованиями музыкальной выразительности, которой добивается композитор. Что касается такой мелодии, то вы сами, маэстро, создали высший образец в сцене “Вильгельма Телля” “Стой неподвижно”, где свободное пение, акцентирующее каждое слово и поддерживаемое трепетным сопровождением виолончелей, достигает высочайших вершин оперной экспрессии.
Россини. Так что я бессознательно создал там музыку будущего?
Вагнер. Вы, маэстро, создали там музыку всех времен, и это наилучшая.
Россини. Скажу вам, что наиболее волнующим меня чувством за всю мою жизнь была любовь к матери и отцу, и они — мне приятно это отметить — воздавали мне сторицей. Очевидно, в этом чувстве я нашел ту мелодию, которая мне пригодилась для сцены с яблоком в “Вильгельме Телле”.
А теперь, господин Вагнер, если вы разрешите, еще один вопрос: как вы согласуете с этой системой одновременное использование двух, нескольких голосов, а также хоров? Если быть логичным, их нужно было бы запретить?..
Вагнер. Строгий рационализм требует, чтобы музыкальный диалог развивался так же, как драматический, чтобы персонажи выступали последовательно один за другим. В то же время можно допустить, например, что два различных персонажа, оказавшись в какой-то момент в одинаковом душевном состоянии, движимые одним и тем же чувством, могут сливать свои голоса для выражения одной и той же мысли. Точно так же целое сборище людей, если происходит борьба между различными возбуждающими их чувствами, может совершенно трезво пользоваться правом высказывать их одновременно, но при этом каждый индивидуально выражает то чувство, которое ему присуще.
Теперь вы понимаете, маэстро, какие огромные и неисчерпаемые ресурсы принесет композитору эта система присвоения каждому персонажу драмы, каждой данной ситуации мелодической формулы-типа, способной по мере хода действия сохранять свой первоначальный характер и подвергаться самому многообразному и самому широкому развитию? С этого момента ансамбли, в которых каждый персонаж предстает в своем индивидуальном облике, но где все элементы комбинируются в полифонии, соответствующей действию, — эти ансамбли уже не будут представлять абсурдных ансамблей, в которых персонажи, движимые самыми разнородными страстями, оказываются в определенный момент, без всякого к тому повода, приговоренными слить свои голоса в некоем Largo d'apotheoseXXIX, чьи патриархальные гармонии наводят на мысль, что нигде не может быть лучше, чем в лоне своей семьиXXX.
Что касается хоров,— продолжал Вагнер,— то здесь есть психологическая правда. Потому что коллективная масса гораздо энергичнее, нежели отдельная личность, реагирует на определенное впечатление: на страх, бешенство, жалость... Отсюда логично допустить, что толпа может коллективно выражать свое состояние на фоническом языке оперы, не шокируя здравого смысла. Больше того: вмешательство хора, если только оно логически вытекает из развития драмы, представляет собой беспримерно могущественный и один из наиболее ценных факторов театральной выразительности. Из сотни примеров разрешите напомнить хотя бы выражение ужаса в необузданном хоре—“Corriamo, fuggiamo!”XXXI из “Идоменея”, не забудем также вашей замечательной фрески из “Моисея” — скорбного хора во тьме.
Россини (весело хлопая себя по лбу). Снова я! Решительно я тоже проявлял известную склонность к музыке будущего. Вы меня вдохновляете! Если бы я не был слишком стар, я бы начал с начала и тогда... смерть старому режиму!
Вагнер (тотчас откликаясь). Ах, маэстро! Если бы вы не бросили перо после “Вильгельма Тепля” в тридцать семь лет... Это преступление!.. Вы сами не знаете, что вы могли извлечь из вашего мозга! По существу, вы ведь тогда только начинали...
Россини (становясь серьезным). Что вы хотите? У меня не было детей. Если бы они у меня были, я бы, вероятно, продолжал работать. Но, говоря откровенно, после пятнадцати лет упорного труда, сочинив в течение этого, так называемого периода лени, сорок опер, я почувствовал необходимость отдыха и вернулся в Болонью для жизни на покое. Впрочем, театры в Италии, оставлявшие желать много лучшего в годы моей карьеры, пришли к этому времени в полный упадок, искусство пения померкло. Это можно было предвидеть.
Вагнер. Чему вы приписываете это явление, столь неожиданное в стране, изобилующей прекрасными голосами?
Россини. Исчезновению кастратов. Нельзя себе составить представление об обаянии их голосов и совершенстве виртуозности, которыми природа милостиво компенсировала этих лучших из лучших за их физический недостаток. Они были также бесподобными педагогами. Именно им обычно поручалось обучать пению в метризах, существовавших при церквах и за их счет. Некоторые из этих школ были знамениты. Они были настоящими певческими академиями. Там не было отбою от учеников, и многие из них впоследствии сменили церковный алтарь на театральные подмостки. Но в результате нового политического режима, установленного моими беспокойными соотечественниками по всей Италии, метризы были упразднены и заменены консерваториями, которые из лучших традиций bel canto ничего не сохранилиXXXII.
Что касается кастратов, то они исчезли, и практика создания новых утрачена. И в этом причина непоправимого упадка искусства пения. С исчезновением последнего сошла на нет и опера-буффа (в том, что в ней было лучшего). Что касается оперы-сериа, то уже в мое время публика была мало расположена подыматься к высотам большого искусства и не проявляла никакого интереса к этому роду представлений. Появление оперы-сериа на афише обычно привлекало всего-навсего нескольких полнокровных зрителей, желающих свободно и вдали от толпы подышать свежим воздухомXXXIII. И по этой, и по кое-каким другим причинам, я решил, что лучшее из того, что я могу сделать, это замолчать. Я умолк и cosi finita е la commediaXXIV.
Россини поднялся, крепко пожал руку Вагнера и прибавил: Мой дорогой господин Вагнер, я не знаю, как благодарить вас за посещение и особенно за столь ясное и интересное изложение ваших мыслей. Я уже не слагаю музыки, ибо нахожусь в возрасте, когда скорее ее разлагают, и уже готовлюсь к тому, чтобы и в самом деле разложитьсяXXXV. Я слишком стар, чтобы обращать свои взоры к новым горизонтам. Но что бы ни говорили злопыхатели, ваши идеи должны заставить молодежь призадуматься. Из всех искусств именно музыкальное искусство благодаря своей идеальной сущности больше всего подвержено трансформации. А последним нет предела. После Моцарта можно ли было предвидеть Бетховена? После Глюка — Вебера? А ведь это еще не конец. Каждый должен стараться если не обязательно уйти вперед, то найти по крайней мере что-нибудь новое. Надо забыть легенду о Геркулесе, великом путешественнике, который, попав в некое неведомое место и не видя дальнейших путей, водрузил свои столпы и пошел той же дорогой обратно.
Вагнер. Может быть, это были только пограничные знаки частной охоты, которые преграждают путь другим?
Россини. Chi lo sa?XXXVI Впрочем, вы несомненно правы. Ибо уверяют, что он проявлял отчаянную любовь к охоте на львов. Будем, однако, надеяться, что наше искусство никогда не будет ограничено столпами вроде геркулесовых. Что касается меня, то я принадлежал своему времени. Но другим (вам в особенности), которых я вижу сильными, проникнутыми такими ведущими идеями, предстоит сказать новое слово и добиться успеха, чего я вам от всего сердца желаю.
Так закончилась эта памятная встреча, длившаяся больше получаса. Я могу засвидетельствовать, что эти два человека, у которых остроумие одного не оставалось в долгу перед юмористическими возражениями другого, отнюдь не скучали.
Провожая гостей к выходу через прилегавшую к его комнате столовую, Россини вдруг остановился перед восхитительным предметом наборного дерева (маркетри), стоявшим между двух окон и хорошо знакомым всем завсегдатаям этого дома. Это был механический органчик XVII века флорентийского изделия.
“Подождите, — обратился Россини к Вагнеру, — этот маленький органчик сейчас проиграет вам несколько старинных песен моей родины, которые вас, может быть, заинтересуют”.
Он завел механизм, и органчик начал выкладывать весь свой репертуар архаическим звуком флажолетаXXXVII.Это были небольшие народные песни.
“Что скажете? — спросил Россини.— Это прошедшее время и даже давно прошедшее. Это просто и наивно. Кто их неизвестный автор? Наверно какой-нибудь дерtвенский скрипач. Несомненно это создано давно, а продолжает жить! Думаете ли вы, что от нас спустя сто лет останется столько же?”
От нас! Какие-нибудь зоилы не упустят, конечно, случая увидеть в этих словах под личиной старческого добродушия прямой удар, направленный в Вагнера. Я не думаю, однако, чтобы именно этого хотел Россини. Я уже до того неоднократно слышал от него реплики такого же характера и думаю, что это предложение пришло к нему неожиданно для него самого, и он его высказал без всякой задней мыслиXXXVIII. Вагнер не обратил на это внимания, и мы расстались с Россини.
Спускаясь по лестнице, Вагнер сказал мне: “Признаюсь, не ожидал встретить в лице Россини такого человека, каким он оказался. Он прост, естествен, серьезен и проявляет способность интересоваться всем, что бы мы не затрагивали в нашей короткой беседе. Касаясь сложившейся у меня концепции необходимой эволюции музыкальной драмы, я не мог в нескольких словах изложить все те идеи, которые я развиваю в своих статьях. Я был вынужден ограничиться несколькими общими взглядами, опираясь лишь на практические вещи, которые ему нетрудно было схватить на лету. Но можно было ждать, что и в таком виде мои декларации покажутся ему крайностями, поскольку своими воззрениями он принадлежит времени своей карьеры и духом их проникнут до сих пор.
Как и Моцарт он в самой высокой степени обладал мелодическим даром. Кроме того, ему помогало удивительное чутье сцены и драматической выразительности. Чего бы только он ни создал, если бы получил основательное и законченное музыкальное образование! Особенно если бы он был меньше итальянцем и меньшим скептиком и считал бы свое искусство религией, нет ни малейшего сомнения, что он поднялся бы до величайших вершин. Одним словом, это гений, который заблудился из-за отсутствия должной подготовки и потому что не нашел той среды, для которой предназначались его высокие творческие способности. Но я должен констатировать, что из всех встреченных мною в Париже музыкантов — он единственный действительно великий!”
Расставшись с Вагнером, я направился домой и поспешил привести в порядок записи, которые я делал во время беседы этих двух знаменитых людей.
И тогда я подумал: Россини, который с таким волнением рассказывал нам о своей встрече с Бетховеном и о том восхищении, который вызвал в нем этот колоссальный гений, был далек от предположения, что в лице Вагнера он видит колосса того же закала.
Не забудем, что Вагнер в это время еще не завоевал того престижа, который дарует слава. Хотя его имя уже было широко известно в Германии благодаря представлениям “Тангейзера” и “Лоэнгрина” на разных сценах, в Париже его знали скорее не как композитора, а как полемиста, на которого печать с каждым днем обрушивала все больше и больше враждебных статей. Отсюда следует, что в глазах Россини, который не знал музыки Вагнера, занимавшего тогда значительно менее видное положение, чем Гуно или Фелисьен Давид, — Вагнер должен был предстать всего-навсего как образец немца, упивающегося внушениями собственного экзальтированного ума, больше спорщика, чем музыканта, слишком прямолинейного в своих новаторских утопиях, чтобы можно было серьезно верить в возможность их осуществления. Россини вначале слушал Вагнера скорее с видимостью вежливого любопытства, чем с глубоким и сосредоточенным интересом. В процессе беседы впечатление изменилось, и Россини, проницательность которого была общепризнанной, не замедлил убедиться, что этот немец был голова.
В целом же встреча двух гениальных людей, из которых один, пресыщенный славой, уже на тридцать лет пережил свою блистательнейшую карьеру, а другой — на пороге несравненной славы — еще не успел показать своим современникам, на что способен его титанический талант, — эта встреча была тем, чем она должна была быть: Россини был любезен и прост, Вагнер полон достоинства и почтителен.
Последний, отправляясь к пезарскому маэстро, разумеется, не строил никаких иллюзий насчет приема, который встретит изложение его доктрин. Он даже не ожидал, что Россини проявит столько учтивости, чтобы продолжать беседу, и тревожный возглас: “Но вы же поете отходную мелодии” его нисколько не удивил. Это был крик души, и он его предвидел. И совсем не из желания быть понятым Вагнер искал этой встречи. Он хотел психологически осмыслить характер этого чудесно одаренного музыканта, который с такой невероятной быстротой достиг высшего своего расцвета в “Вильгельме Телле” и в тридцать семь лет счел за благо избавиться от своего гения, как сбрасывают с плеч тяжелую ношу, чтобы целиком отдаться буржуазному farnienteXXXIX, бесцветной жизни, нисколько не интересуясь своим искусством, как будто он им никогда не занимался. Именно этот феномен возбудил любопытство Вагнера, и его он хотел проанализировать.
С другой стороны, он был не прочь должным образом использовать возможность выразить протест по поводу нелепостей, которые приписывались ему невежественной агрессивной общественной молвой: будто он презирает оперную музыку самых прославленных композиторов, своих предшественников, во главе с Моцартом, а затем Мейербера и Россини. Как мы видели, свое мнение о последнем он высказал в точных и полных достоинства выражениях, ограничиваясь простым отрицанием клеветы, как и подобает человеку, которому незачем оправдываться в приписываемых ему злой волей выдуманных поступках или в сплошь заведомо фальсифицированных высказываниях.
Всегда независимый, Вагнер изложил итальянскому маэстро свои идеи в их истинном значении. Он не прибегал ни к ораторским мерам предосторожности, ни к двусмысленным уверткам или к смягчающим оговоркам, а решительно сформулировал свое критическое отношение к негодному, источенному червями состоянию оперы, к которому она пришла в итоге столетнего существования, и к принятой композиторами порочной системе уснащать музыку украшениями. Надо признать, что это была довольно острая шпилька, направленная прямо Россини.
Россини, как мы видели, нисколько не обиделся и любезно беседовал в свойственном ему веселом и несколько юмористическом тоне. Но, наблюдая за постепенно происходившей в нем переменой, нетрудно было заметить, повторяю, что он скоро стал понимать подлинное значение своего собеседника. Вместо самодовольного фанатика, блуждающего в дебрях путаной фразеологии непоследовательного педантизма, каким в окружении Россини изображали философствующего немца, он быстро разглядел человека высокого интеллекта, твердого, с ясным умом и сознанием своей силы, способного орлиным взором охватить безбрежные просторы искусства и решительно стремящегося к его вершинам.
Встреча этих двух человек, быстро рассеявшая царившую между ними настороженность, привела их к чувству взаимного уважения, которое укрепилось уступчивостью и искренностью.
Приведя в порядок свои записи, я в тот же вечер, как обычно, отправился к Россини, у которого всегда можно было встретить интересных людей. Среди других там оказался Азеведо, музыкальный критик газеты “Опинион насиональ”, один из самых ярых приверженцев Россини и бешеных преследователей Вагнера. Едва увидев его, Россини сказал ему с лукавым видом: “Эй, Азеведо, я его видел, он приходил сюда... это чудовище... ваше пугало... Вагнер!”
Пока маэстро беседовал с Карафой, Азеведо отвел меня в сторону и попросил рассказать ему о подробностях этой встречи. Но Россини очень скоро помешал нашей беседе.
“Вы совершенно напрасно,— обратился он к Азеведо,— не любите Вагнера. Я должен сказать, что мне он показался человеком одаренным первоклассными способностями. Весь его облик, его подбородок в первую очередь, свидетельствуют о темпераменте и о жизненной воле. Уметь хотеть—это большое дело. Если он, как мне кажется, обладает в такой же мере способностью свершать, он заставит о себе говорить”,
Азеведо промолчал, но мне он сказал на ухо: “Почему Россини говорит в будущем времени? Об этом животном, черт возьми, много говорят уже сейчас!”
Что касается Россини, то он, конечно, не мог предвидеть, что его пророчество лет десять спустя, когда его уже не будет в живых, сбудется и даже с громадным превышением.
Пожалуй следует сохранить в памяти исключительную особенность биографии автора “Севильского цирюльника” и “Вильгельма Телля”: на расстоянии сорока лет он знал двух огромных гениев, из коих один, Бетховен, в начале века произвел революцию в инструментальной музыке, а второй, Вагнер, к концу этой эры должен был совершить революцию в опере. А в промежутке между “Фиделио” и “Тангейзером” именно ему, итальянцу, было суждено услаждать своих современников мелодическим обаянием новых форм, блистательным зачинателем которых он был сам, и сделать вклад в будущие судьбы музыкальной драмы бесспорным на нее влиянием.
Я уже отмечал выше: оба мэтра больше не встречались.
После провала “Тангейзера” в Парижской опере французские и кое-какие немецкие газеты опять стали распространять насчет Вагнера всякие небылицы, примешивая к ним и имя Россини. Какие-то не очень умные друзья — можно только недоумевать, с какой целью? — преподнесли Вагнеру эти заметки, выставляющие итальянского маэстро в незавидном свете: из него сделали двуличного притворщика, ни больше ни меньше. Я тотчас же постарался повидать Вагнера и разъяснить ему настоящее положениеXL вещей.
Россини, в свою очередь раздосадованный, просил Листа снова пригласить к нему Вагнера, дабы он мог ему лично засвидетельствовать свою полную непричастность к измышлениям прессы. Вагнер отклонил это приглашение. Новый визит, полагал он, только подольет масла в огонь и даст всяким болтунам возможность говорить о “покаянном визите”. Все это поставило бы его в ложное положение. К тому же он нисколько не винил во всем этом Россини, который благородством своего характера произвел на него во время встречи самое симпатичное впечатление.
И это его решение было твердым. Я повторил приглашение, когда по поручению Россини отвез на дом к Вагнеру “Гранскую мессу”, которую Лист давал маэстро для ознакомления. Мне думается, что главной причиной отказа Вагнера была уверенность в том, что новая встреча с итальянским маэстро ему никакой пользы не принесет. Цель первой встречи, о которой я говорил, была полностью достигнута, а больше ему ничего не нужно было.
Оба мэтра больше не встречались, но я могу засвидетельствовать, что всякий раз, когда Вагнеру доводилось устно или письменно упоминать имя Россини, он относился к нему с полным и глубоким уважением. То же и Россини. Он интересовался успехом постановок вагнеровских опер в Германии и неоднократно поручал мне отсылать композитору поздравления и приветы.
Примечания
1 Воспоминания Эдмонда Мишотта (близкого друга Россини в период с 1856 по 1868) о визите, который нанес Вагнер Россини в 1860 году, и подробная запись весьма интересной и содержательной беседы, состоявшейся между двумя композиторами, впервые были опубликованы на французском языке в Париже в 1906 году. Публикация вскоре стала библиографической редкостью. В 1956 году итальянский музыковед Луиджи Роньони перепечатал ее в оригинале (т. е. на французском языке) в Приложениях к своему исследованию о Россини. По этому изданию (L. Rоgnоni. Rossini. 1956) и сделан предлагаемый перевод. Подстрочные примечания (за исключением специально сговоренных) являются авторскими, т. е. принадлежат перу Э. Мишотта.
2 "Воспоминания о Россини" ("Evinnerung an Rossini"), 1868.
3 Парижская премьера "Тангейзера" состоялась 13 марта 1861 года.
4 У Э. Мишотта неточность: из четырех опер, составляющих тетралогию Вагнера "Кольцо Нибелунга", к 1860 году были закопчены "Золото Рейна" (!8521854), "Валькирия" (1854-1856) и первая половина "Зигфрида" (!856-1857); завершение "Зигфрида" относится к периоду 1868-1871 годов, а работа над оперой "Гибель богов" протекала в 1869-1874 годах.
5 Минна Планер (1809-1866). Вагнер женился на ней в 1836 году.
* Однажды вечером Вагнер поделился с нами, своими близкими, впечатлениями от встреч с этими композиторами. И вот его резюме: "Оперы Галеви - это "музыка фасадов"! ...А ведь в годы моей юности я ими искренно восхищался! Как и полагается, я в том возрасте был наивен. Человек, которого я только что видел, мне показался холодным, претенциозным и малосимпатичным. Обер пишет музыку, адекватную его истинно парижской натуре: умной, очень учтивой и, как известно, очень порхающей... Все это отражается в его партитурах. Я его люблю как человека и очень уважаю как музыканта. Россини я, правда, еще не видел, но на него пишут карикатуры, как на жирного эпикурейца, набитого не музыкой, поскольку он от нее давно опорожнился, а болонской колбасой. Гуно артист экзальтированный, часто возбуждаемый. В беседе он неотразимый шармер. Слащавый мелодист, он не отличается ни глубиной, ни широтой. Если ему иногда кое-что в этом смысле удается, то развития оно не получает". Шанфлери рискнул вставить реплику: "Не следует, однако, отрицать, что в полные мелодии партии Фауста и Маргариты, и осо-бенно во всю сцену сада, Гуно внес выразительные интонации, которых до него в музыке французской оперы не было". При имени Фауста Вагнер подскочил: "О, воскликнул он, - об этом мы еще поговорим. Я видел эту театральную пародию на на-шего немецкого Фауста. Фауст и его приятель Мефистофель мне на-поминают двух шутников студентов из Латинского квартала, охотя-щихся за студенткой. Что касается музыки, то это одна внешняя сентиментальность,.. поверхностная,.. посыпанная рисовой пудрой, особенно в этой пошловатой арии с жемчугом: "Ах, как смешно смотреть мне на себя!" Вагнер промурлыкал несколько первых тактов и прибавил: "Эта ария в конце концов-основа всей пьесы, в ней все психологиче-ское значение .этой смешной истории. О, Гёте! Я надеюсь, что Гуно с его настоящим талантом, но с недостаточным для трагических сю-жетов темпераментом в будущем обретет способность лучше выби-рать для себя либретто. В полухарактерном жанре он, несомненно, добьется лучших успехов". Суждение это, конечно, суровое, но мог ли иначе рассуждать искренний человек, который только что закончил "Тристана и, Изольду".
5 Приведенные здесь суждения Вагнера, при всем их остроумии и своеобразии, в высокой степени субъективны.
** Черт побери (ит.).
7 I сцена I действия оперы Вагнера "Тангейзер".
*** Россини и в самом деле напечатал в газетах опровержение этих дурных шуток. Он часто повторял, что на этом свете он больше всего боится двух вещей; катаров и журналистов. Первые вызывают у него мокроту в горле, вторые - дурное расположение духа. [Россини применяет труднопереводимую игру слов: humeurs mauvaises dans son corps - мокрота (в теле) и la mauvaise humeur dans son esprit - дурное расположение духа.]
**** Установлено, что на расстоянии примерно столетия до автора "Цирюльника" - какое совпадение! - автор "Свадьбы Фигаро" - Моцарт, во время своего пребывания в Париже, жил в доме, стояв-шем на том самом месте, где сейчас воздвигнуто это большое зда-ние. Дом занимал Гримм (1778), у которого Моцарт нашел убежище после переезда с улицы Гро-Шенэ, где он потерял свою мать.
8 Снова неточность: после длительного пребывания в Болонье и Флоренции Россини возвратился в Париж 25 мая 1855 года. В 1837 году Россини был в Париже проездом.
***** Единственное путешествие по железной дороге Россини рискнул совершить во время поездки по Бельгии (1836) из Брюсселя в Ант-верпен, чтобы полюбоваться шедеврами Рубенса, жившего в этом городе. "При одном воспоминании об этой поездке я до сих пор весь дрожу", - говаривал впоследствии композитор.
VI Но такова жизнь (ит.).
9 См. примечание 4.
VII Тысяча и три (ит.).
10 Намек на арию Лепорелло (№ 4, I д.) из оперы Моцарта "Дон Жуан".
VIII Передавая разговор двух мэтров, я постарался воспроизвести его возможно более точно. Особенно в части, относящейся к Росси-ни, который, женившись во втором браке на Олимпии Пелиссье, па-рижанке, привык говорить по-французски и знал не только все тон-кости языка, но и его арго. Что касается Вагнера, слабее владевшего этим языком, то он по многу раз подбирал обороты, пока не находил точного выражения своей мысли. Я счел полезным изложить их в ряде случаев в более приемлемой литературной форме.
IX Vacarmini - насмешливо-иронический итальянизированный оборот французского слова vacarme - оглушительный шум, гам. В приблизительном переводе: "Господин Громыхатель".
X Россини вновь применяет остроумный каламбур, основанный на двойном значении слова accord - согласие и аккорд - и на возмож-ном двойном толковании выражения: accord parfait - совершенное со-гласие и мажорное трезвучие. В подлиннике эта часть фразу звучит так: "...ligues d'un commun accord, accord, aussi parfait que majeur!"
Резко критический тон статей К.-М. Вебера (1786-1826) о Россини в значительной мере был обусловлен тем, что оперы послед-него пользовались в Германии в начале XIX века огромной популяр-ностью и невольно отвлекали внимание общественности от еще мо-лодого и неокрепшего немецкого оперного искусства. К концу своей жизни Вебер воздал должное гению Россини (см. Ф. Гиллер "Бесе-ды с Россини". С. 446 наст. изд.).
12 См. примечания к Ф. Гиллер "Беседы с Россини".
XI Я доволен (нем.).
XII В связи с этим "я доволен" произошел как-то комический случай, о котором рассказывал Россини: "Однажды, прогуливаясь но улицам Вены, я стал свидетелем драки между двумя цыганами, из которых один, получив страшный удар кинжалом, свалился на тротуар. Тотчас же собралась огромная толпа. Как только я хотел выбраться из нее, ко мне подошел полицейский и очень возбужденно сказал несколько слов по-немецки, из которых я ничего не понял. Я ему очень вежливо ответил: "Ich bin zufrieden". Вначале он опе-шил, а потом, взяв на два тона выше, разразился тирадой, свирепость которой, мне казалось, возрастала на непрерывном crescendo в то время, как я на diminuendo все более вежливо и почтительно повто-рял перед этим вооруженным человеком свои "ich bin zufrieden". Вдруг побагровев от ярости, он позвал другого полицейского, и оба с пеной у рта схватили меня под руки. Все, что я мог понять из их выкриков, это были слова "полицейский комиссар". К счастью, когда они меня повели, навстречу попалась карета, в которой ехал русский посол. Он спросил, что здесь происходит. После короткого объяснения на немецком языке эти молодцы меня отпустили, всяче-ски извиняясь. Правда, смысл их словесных реверансов я понял толь-ко по их выражавшим отчаяние жестам и бесконечным поклонам. Посол посадил меня в свою карету и объяснил, что полицейский вначале спросил меня только об имени, чтобы в случае надобности вызвать как свидетеля совершенного на моих глазах преступления. В конце концов он выполнял свой долг. Но мои бесконечные zufrieden настолько вывели его из себя, что он принял их за издевательство и пожелал доставить меня к комиссару, чтобы тот внушил мне уваже-ние к полиции. Когда посол сказал полицейскому, что меня можно извинить, так как я не знаю немецкого языка, тот возмутился; "Этот? Да он говорит на чистейшем венском диалекте.". "Тогда будьте вежливы... и на чистом венском наречии!"
XIII Бедный (ит.).
XIV Шутки; приемы игры на смычковом инструменте щип-ком (ит.).
XV Счастье (ит.).
13 В шутливой форме Россини перечисляет некоторые из прие-мов, которые он широко применял в своих операх итальянского пе-риода (1808-1823) и которые вызывали неудовольствие академиче-ски настроенных критиков.
XVI Когда Россини в разговоре натыкался на какое-нибудь до-садное воспоминание или неприятное обстоятельство, он переставал заботиться об академическом языке и выражался вольно.
14 "Данаиды" - первая опера, поставленная Сальери в Париже в 1784 г.
XVII Важная личность (лат.).
XIX Россини мне еще перед тем рассказывал, что до того как ему удалось повидать Бетховена благодаря посредничеству Карпа-ни, он экспромтом явился к дому великого композитора, сопровож-даемый известным издателем Артария, который имел дела с Бетхо-веном, и взялся ввести к нему Россини. Наконец появился Артария и сообщил, что Бетховен очень болен: в результате простуды у него поражены глаза, и он никого не принимает. "Служанка-госпожа" (1733) - двухактная интермедия Перголези, явилась первой классической оперой-буффа. Россини запамятовал: на сочинение "Севильского цирюльни-ка" он затратил девятнадцать-двадцать дней.
XX Городской трубач (ит.).
XXI "Писалось мне легко..." Большинство газетчиков пришло в во-одушевление, когда Вагнер передал это выражение со слов Россини. Они сочли его завуалированной издевкой, трюком насмешника, вы-думанным Пезарской обезьяной (как Россини иной раз сам себя называл), с целью высмеять немецкого композитора, заставив его принять это признание за чистую монету... Это такая же нелепость, как и потуги других публицистов приписать Вагнеру низкопоклон-ство перед Россини, попытку признать mea culpa (моя вина - лат.) своих доктрин. Но само по себе его заявление соответствует дейст-вительности и не вызывает сомнений в искренности: именно так рас-сказывал Россини своим близким о самом себе и о своих произ-ведениях.
XXII Когда тело будет мертво (лат.).
"Сцена во тьме" из "Моисея" - интродукция ко II д. оперы, драматический хоровой эпизод; сцена заговора из "Вильгельма Телля" - финал II д. оперы, монументальная хоровая сцена, с участием трех хоров; "Quando corpus morietur" - начальные слова квартета солистов без сопровождения (№ 9) из Stabat mater Россини.
Исполнение "Страстей по Матфею" Баха под управленцем Мендельсона состоялось в 1829 году.
XXIII О, я несчастный! (ит.)
XXIV Бравурные арии (ит.).
XXV Грузчики, носильщики (ит.).
XXVI Примадонну (ит.), первое сопрано, первого тенора, первого баса.
XXVII Моцарт, ангел музыки (ит.).
XXVIII "Боевая мелодия!" - быстро вставил Россини. Но Вагнер, ув-леченный собственной речью, не обратил внимания на это забавное восклицание. Когда я ему потом о нем напомнил, он много смеялся. "Да, это заряд, который попал прямо в цель, - воскликнул он. - О, я это запомню: боевая мелодия… Да это находка!"
Ариозо Вильгельма Телля в сцене стрельбы в яблоко (III д.).
XXIX Апофеозное ларго (ит.).
XXX Намек на популярный финальный хор оперы Гретри "Люсиль".
XXXI Бежим, поспешим! (ит.)
Хор из 7-й сц. II д. оперы Моцарта "Идоменей" (1781).
XXXII Игра слов, основанная на том, что слово "консерватория" бук-вально означает "хранилище".
XXXIII Также игра слов: air (фр.) - означает воздух и арию. В данном случае можно думать: услышать свежую арию.
XXIV Таким образом комедия кончена (ит.).
XXXV Снова каламбур на словах composer, decomposer и rede-composer.
XXXVI Кто знает? (ит.)
XXXVII Флажолет - старинная продольная флейта типа свирели.
XXXVIII Это мне напомнило, как однажды вечером, после обеда, Рос-сини, таким же образом показывая Оберу свой органчик, сказал ему: "Если через пятьдесят лет такой механический инструмент еще будет проигрывать "Di tanti palpiti", то это будет единственное, что после нас останется". ОБЕР. А ваш "Цирюльник"? Неужели вы думаете, что спустя столетие и во все последующие столетия его не будут играть? РОССИНИ. Я думаю, что через полстолетия вся наша музыка станет китайской, поскольку наши политические заправилы уверяют, что азиатская опасность приближается и стоит уже в передней Ев-ропы. Вы, вероятно, еще будете жить тогда (Оберу в это время бы-ло уже почти под девяносто), потому что вы стараетесь сохранить себя, чтобы оправдать свое звание директора консерватории, и вы сможете с полным удовольствием услышать вашего "Бронзового ко-ня" на китайском языке. Затем божественные и пикантные ман-даринки сумеют омолодить вашу склонность к музыке, потребовав новых и, быть может, героических вариаций, которые явятся эпило-гом к тем, которые уже имеются в "Коронных бриллиантах". [Сноска 21: Названы оперы Обера: "Бронзовый конь" соч. в 1835 году и "Коронные бриллианты" соч. в 1841 году.] ОБЕР Что касается китаянок, я обожаю их маленькие ножки, но не настолько... РОССИНИ. Как музыкант вы ошибаетесь, ибо эти потаскушки не могут сделать шага без помощи апподжатуры (т. е. форшлага), ОБЕР. Ускоренным шагом на китайский манер!
XXXIX Безделье (ит.).
XL Дабы раз навсегда положить конец всяким сплетням, я убе-дительно просил Вагнера опубликовать in extenso (дословно) рас-сказ о своей встрече с Россини, о любезном приеме, который ему был оказан, об интереснейших предметах их беседы и т. п. Вагнер отказался. "К чему? - спросил он.- В отношении своего искусства и про-цесса творчества, Россини мне не сказал ничего такого, чего мы не могли бы найти в его произведениях. С другой стороны, если я рас-скажу то, что говорил ему о своих теориях, это будет для публики столь же лишним, сколь и бесполезным повторением того, что я до-статочно распространял в своих статьях. Остается моя оценка Россини как человека. Я, признаться, был очень удивлен, когда он, говоря о Бахе и Бетховене, проявил гораз-до больше понимания немецкого искусства, чем я от него ожидал. Он очень вырос в моем мнении. Но с точки зрения истории его су-дить еще рано. Он себя чувствует слишком хорошо и ежедневно слишком у всех на виду гуляет вдоль Елисейских полей, между пло-щадями Согласия и Звезды, чтобы можно было в настоящее время определить место, которое он займет среди композиторов, своих предшественников и современников, уже сейчас прогуливающихся в Елисейских полях на том свете..." Вагнер отстаивал именно такой взгляд на Россини, и это видно из некролога, который он в 1868 году посвятил Россини, дав в нем только общий обзор их встречи в 1860 году.
Гектор Берлиоз. Концерты Рихарда Вагнера. Музыка будущего.
После необычайных хлопот, огромных затрат, многочисленных — хотя все еще недостаточных — репетиций Рихард Вагнер добился, наконец, того, что некоторые из его произведений прозвучали в Итальянском театре. Оперные отрывки, изъятые из соответствующего окружения, проигрывают, хотя и в разной степени, в концертном исполнении; увертюры и интродукции, наоборот, выигрывают — так как ни один обычный оперный оркестр не в состоянии исполнить их с той силой и блеском, с какими они исполняются в концерте более многочисленным и более выгодно расположенным составом оркестра.
Нетрудно было предвидеть последствия опыта, предпринятого по отношению к парижской публике немецким композитором. Если свободная от предрассудков и предубеждений меньшая часть публики быстро разобралась и в высоких достоинствах артиста и в прискорбных тенденциях его системы, то ее большая часть словно ничего не заметила, кроме неистовой воли у самого Вагнера и скучного, раздражающего шума в его музыке. В вечер первого концерта в Итальянском театре любопытно было наблюдать за тем, что творилось в фойе: здесь выражали негодование, кричали и спорили так, что, казалось, еще немного... и за словами последуют действия. В подобных случаях артисту, возбудившему страсти, хотелось бы, чтобы публика пошла еще дальше в их выражении; он был бы непрочь присутствовать при схватке между его приверженцами и хулителями, правда, с условием, что его сторонники возьмут верх.
Однако на этот раз такая победа представлялась невероятной — ведь бог обычно на стороне большинства. Зато я не мог не подивиться потоку глупостей и бессмыслиц, наглядно подтверждавших, что если дело касается оценки музыки не похожей на общепринятую, то у нас, по крайней мере — словом завладевают только страсть и предвзятость, препятствуя высказаться здравому смыслу и хорошему вкусу.
Даже по отношению к произведениям прославленных и признанных мастеров большинство суждений бывает продиктовано предубеждениями как благоприятными, так и вредными. Например, при появлении произведения совершенно лишенного мелодии те же самые судьи, которые освистали бы это произведение, если бы на нем стояло другое имя, принимают его с восторгом. Великая, возвышенная, увлекательная бетховеиская увертюра «Леонора” слывет у многих критиков пронзведением,. лишенным мелодии, хотя она полна ею, хотя все в ней поет и мелодия льется в Allegro так же, как в. Andante. А ведь эти же самые судьи аплодируют и очень часто кричат бис после увертюры Моцарта к "Дон-Жуану", в которой нет ни малейшего следу того, что они именуют мелодией, но это музыка Моцарта—великого мелодиста!.. Они справедливо восторгаются в этой опере совершенным воплощением чувств, страстей и характеров, однако, слушая Allegro из последней арии Донны Анны, ни один из этих аристархов, столь якобы чувствительных к правде музыкального выражения, столь щепетильных к соответствию музыки драме, не приходит в смущение от тех чудовищных вокализов, которые вышли, к сожалению, из-под пера Моцарта под наитием некоего демона, чье имя так и осталось тайной. Несчастная оскорбленная дева взывает: «Pеut-etre un jour Ie ciel encore sentira quelque pitie pour moi”. И здесь-то композитор поместил целую серию пронзительных, острых, словно скачущих и кудахтающих высоких звуков и колоратур, за исполнение которых даже не хочется аплодировать певице. Если бы, хоть когда-нибудь и где-нибудь существовала в Европе действительно понимающая, отзывчивая публика, подобное преступление (именно преступление) не прошло бы безнаказанно — виновное Allegro не могло бы уцелеть в моцартовскои партитуре.
Я мог бы привести множество подобных примеров, подтверждающих, что, за редкими исключениями, о музыке судят, подчиняясь господствующим предубеждениям, причем, чаще всего, самым жалким. Да послужит мне это извинением за ту вольность, с которой я буду говорить о Вагнере, основываясь только на личном восприятии и не принимая совершенно во внимание высказанных на этот счет мнений.
Вагнер осмелился составить программу исключительно из ансамблевых, хоровых и симфонических отрывков. Уже одно это было вызовом, брошенным нашей публике. Оказав благопристойный, но холодный прием какому-нибудь великому творению, эта публика—под предлогом любви к разнообразию—всегда готова к изъявлению самых шумных восторгов по неводу хорошо исполненной шансонетки, виртуозно про петой бледной каватины, ловко протанцованного на четвертой струне скрипичного соло, добросовестно высвистанных на любом духовом инструменте вариаций. Эта публика полагает, что король и пастух—это два сапога пара. Разве этого не довольно, чтоб смело сделать невозможное возможным! И что же, Вагнер это подтвердил, хотя в его программе отсутствовали лакомые приманки, которые привлекают на музыкальных празднествах детей любого возраста, она была прослушана с возраставшим вниманием и живым интересом.
Он начал увертюрой из «Корабля-призрака”— двухактной оперы, представление которой я видел В Дрездене в 1841 году, когда она исполнялась под управлением автора с Шредер-Девриент в главной роли. И тогда эта увертюра произвела на меня такое же впечатление, что и теперь. Она начинается оглушительным взрывом оркестра, и в этом звучании можно тотчас же различить и рокот бури, и крики матросов, и свист снастей, и грозный шум разъяренного моря. Это начало великолепно. Оно властно захватывает слушателя и увлекает его за собой. Но затем внимание слушателя утомляется, так как все время применяется один и тот же композиционный принцип: одно тремоло сменяется другим; одни хроматические гаммы приводят к другим; ни единый луч солнца не пробивается сквозь темные тучи, насыщенные электричеством и изливающие свои потоки без конца и края; ни разу мелодический узор не скрашивает собою мрачные гармонии... внимание слушателя ослабевает и, в конце концов, падает.
В этой увертюре с ее чрезмерно напряженным, как мне кажется, развитием ясно проявляются тенденции Вагнера и его школы — не считаться с восприятием и, не замечая ничего, кроме поэтического или драматического замысла, который надлежит выразить, нисколько не беспокоиться о том — действительно ли воплощение данного замысла обязывает композитора выйти за пределы му-зыкалных закономерностей. Увертюра «Корабля-призрака” инструментована мощно, ее автор с самого же начала сумел извлечь все, что возможно, из аккорда пустой квинты, звучащего настолько дико и зловеще, что это приводит в трепет.
Большая сцена из «Тангейзера” (марш и хор) великолепна по блеску н пышности, еще усиливаемых особым звучанием тональности си мажор. Совершенно свободный в своем движении ритм,—ему не про тивопоставляются другие контрастные ритмы, — приобретает рыцарственную, гордую, уверенную поступь, Даже не видав представления этой сцены, невозможно усомниться в том, что подобная музыка сопутствует движениям мужественных, сильных, закованных в блестящие латы, людей. Этот отрывок содержит в себе ясно очерченную, элегантную, хотя и неоригинальную мелодию,—если не по интонации, то по своей форме напоминающую знаменитую тему из «Фрей-шютца”. Последнее появление вокальной фразы в большом «tutti” звучит сильнее всего предшествовавшего благодаря вторжению басов с их ритмическим рисунком из восьми нот в каждом такте, чем создается контраст по отношению к верхней партии, где звучат по две, по три ноты. Есть, правда, несколько жестких п слишком близко примыкающих друг к другу модуляций, но оркестр интонирует их с такой силон и властностью, что ухо воспринимает их сразу же. нисколько не сопротивляясь. В итоге следует признать, что это одна из самых выдающихся по мастерству страниц, к тому же инструментованная умелой рукой, как и все остальное. Духовые инструменты и голоса одушевлены единым могучим дыханием, а скрипки, звучащие с восхитительной непринужденностью в самом высоком регистре, как будто мечут ослепительные искры на фоне общего ансамбля.
Увертюра к «Тангейзеру” — самая популярная в Германии оркестровая музыка Вагнера. Здесь еще царят и сила, и величие, однако, проявляющаяся в этом сочинении предвзятость намерений автора вызывает, —по крайней мере, у меня,—чрезмерное утомление Увертюра начинается Andante mаestoso—родом прекрасного хорала, который позже—перед концом Allegro—появляется вновь, в сопровождении упорно повторяющихся пассажей у скрипок в верхнем регистре. Состоящая только из двух тактов тема Allegro-сама по себе малозначительна. Приемы развития, для которых она является поводом, такие же, как в увертюре «Корабля-призрака”: все буквально усеяно хроматическими последовательностями, крайне жесткими гармониями и модуляциями. Когда, наконец, хорал возвращается снова, тогда сама его тема, будучи медленной и обширной по размерам, обуславливает настолько многократные повторения скрипичного пассажа, которому надлежит сопутствовать теме до самого конца, что подобные упорные повторения становятся невыносимыми для слушателя. Этот пассаж уже повторялся двадцать четыре раза в Andante. Он звучит в заключении Allegro — сто восемнадцать раз. В итоге, этот упорствующий, а точнее,— остервенившийся пассаж фигурирует в увертюре сто сорок два раза! Не слишком ли это?
Он появляется еще в течение самой оперы. Это заставляет меня предположить, что автор приписывает ему какой-то связанный с действием смысл, о котором я не догадываюсь. Фрагменты из «Лоэнгрина” блещут более яркими достоинствами, чем все предшествовавшие произведения. Мне представляется, что в нем больше новизны, чем в «Тангейзере”: самым впечатляющим вагнеровским изобретением является интродукция, которая в этой опере заменяет собой увертюру. О ней можно дать наглядное представление с помощью такого обозначения <>. В действительности, перед нами постепенное колоссальное crescendo, которое, достигнув предельной силы звучности, возвращается затем в обратной последовательности к своей исходной точке, замиряя в почти неразличимом, гармонично звучащем шелесте.
Мне не известно, каково соотношение между подобной формой увертюры и драматическим замыслом оперы, но, не собираясь заниматься этим вопросом, а рассматривая интродукцию как самостоятельную симфоническую пьесу, я нахожу ее восхитительной во всех отношениях. Прибавлю, что это чудо инструментовки и в смысле использования нежных красок, и в смысле создания блестящего колорита, а незадолго до окончания интродукции можно обнаружить замечательно удачный по замыслу прием—басовые голоса непрестанно подымаются по ступеням диатонической гаммы, в то время как верхние голоса спускаются вниз. Кроме того, в этой прекрасной интродукции нет никаких жестких сочетании: в ней все звучит настолько же нежно и гармонично, насколько величаво, сильно и мощно, и, по-моему, она является произведением образцовым.
Большой соль-мажорный марш, открывающий собою второе [третье—В. А.] действие, потряс Париж не меньше, чем Германию, хотя его начало расплывчато по мысли, а эпизод из средней части холоден и неопределенен. Подобные бесцветные такты, в которых автор словно ищет и нащупывает дорогу, на самом деле не что иное, как особого типа подготовка к появлению непреодолимо-грозного образа, то есть подлинной темы марша. Благодаря двукратному повторению четырехтактной фразы, — каждый раз на терцию выше,—образуется необычайно яркий период, которому трудно найти что-либо равное в музыке по грандиозности порыва, по силе и блеску. Начало каждой из составляющих его трех фраз так мощно подчеркивается унисонами медных инструментов, что акцентируемые ими звуки (до, ми, соль) потрясают слушателя нисколько не меньше, чем пушечные выстрелы.
Я уверен, что эффект был бы значительно сильнее. если бы автору удалось избежать тех конфликтных звукосочетаний, какие, например, получаются во второй фразе в связи с использованием большого нонаккорда в четвертом обращении и с запаздывающим разрешением секстового тона в квинтовый. Появляющиеся из-за этого страшно резкие диссонансы невыносимы для многнх (в том числе и. для меня). Этим маршем подготовляется появление хора на две четверти («Treu-lich gefuhrt, zihet dahin”), но последний очень разочаровывает, так как он настолько примитивен, что его стиль следовало бы назвать ребяческим. Впечатление, произведенное этим хором на слушателей и зале Вентадур, было тем более неблагоприятным, что его первые такты напомнили собой жалкую мелодию «Прекрасная ночь, прекрасный праздник!” из оперы Бyальдье «Две ночи”, часто вставлявшуюся в различные водевили и известную всем в Париже.
Я еще не касался инструментальной интродукции последней оперы Вагнера—«Тристан и Изольда”. Странно, что автор решил ее исполнять в том же концерте, в котором исполнялась интродукция из «Лоэнгрина”, несмотря на то, что обе эти интродукции созданы по единому плану. Снова речь пойдет о медленной пьесе — пьесе, начинающейся pianissimo, мало-помалу подымающемся до fortissimo, а затем ниспадающем до первоначального оттенка. При этом не появляется никакой темы, если не принять за тему нечто вроде хроматического стона с диссонирующими аккордами. Благодаря длительно звучащим вспомогательным нотам, подменяющим собою те, которые на самом деле являются гармоническими, ужасающее звучание диссонирующих аккордов усиливается.
Я читал и перечитывал эту страницу; я выслушал ее с глубочайшим вниманием и с горячим желанием понять ее смысл, и что же!.. нужно признаться, что у меня нет ни малейшего представления. в чем заключается замысел автора. Мой чистосердечный отчет достаточно уясняет замечательные музыкальные качества Вагнера. Следует, как мне кажется, признать, что он обладает той редкой напряженностью чувства, тем внутренним жаром, той мощью воли, той убежденностью, какие могут покорять, трогать и увлекать. Однако эти качества выделялись бы ярче, если бы они были связаны с большим даром изобретения, с меньшим стремлением к изысканности и с более правильной оценкой некоторых основных элементов искусства. Вот все, что касается практики.
Теперь разберем те теории, о которых говорят, что они являются теориями его школы—направления, известного сегодня под именем школы будущего; так как полагают, что, поскольку оно находится в порямой оппозиции к музыкальному вкусу настоящего времени,— постольку оно должно быть в полном согласии с музыкальным вкусом будущей эпохи. По этому поводу и в Германии, и в других местах мне долгое время приписывали убеждения, которые вовсе не были моими, вследствие чего по моему адресу раздавались похвалы, представлявшиеся мне оскорблениями, однако я хранил молчание. Но теперь, имея возможность высказаться решительным образом, смею ли я молчать и дальше, обязан ли я исповедывать то, что почитаю ложным? Никто, я надеюсь, не будет такого мнения.
Поговорим же, и поговорим с полной откровенностью. Если школа будущего заявляет следующее: «Нынешняя музыка — в расцвете своих юных сил, эмансипирована и свободна; она творит то, что ей желательно. «Большинство старых правил не имеют больше значения; они были созданы невнимательными наблюдателями или рутинными умами для других рутинеров. «Новые потребности ума, сердца и слуха требуют новых исканий и даже, в известных случаях, нарушения старых законов. «Некоторые формы, из-за слишком большого злоупотребления ими, не должны более применяться. «К тому же все может стать хорошим или плохим в зависимости от того, по какому поводу и как оно применяется. «При своем соединении с драмой или хотя бы со словом, музыка всегда должна быть в прямом взаимодействии с чувством, выражаемым через это слово; с характером того персонажа, от лица которого она поется, а подчас, даже с тем произношением и нюансами голоса, которые можно считать естественными для разговорной речи. «Оперы не должны писаться для певцов—наоборот, певцы должны подготавливаться для исполнения оперы. «Произведения, написанные только для того, чтобы в них могли блистать таланты известных виртуозов, это произведения второго сорта и весьма незначительной ценности. «Исполнители—это только более или менее чуткие инструменты, при помощи которых выявляется внутренний смысл произведения и проявляется его форма, а их деспотизму пришел конец. «Мастер остается мастером; ему принадлежит руководство. «Звук и звучание ниже мысли. «Мысль—ниже чувства и страсти. «Длинные быстрые вокализы, всевозможные украшения, вокальную трель, бесконечную смену' ритмов нельзя согласовать с выражением, необходимым для передачи серьезных, благо-родных и глубоких чувств. «Только вследствие безрассудства можно писать для молитвы «Kyrie eleison” (самой смиренной молитвы католической церкви) пассажи, которые нетрудно принять за peв скопища пьяниц, собравшихся в кабаке. «И быть может, не менее безрассудно применять одну и ту же музыку и в обращении к Ваалу язычников, и в молитве Иегове. возносимой сынами Израиля. «Но еще хуже заимствовать у величайшего поэта созданное им идеальное существо и заставить эту деву—ангела чистоты и любви—петь подобно девице легкого поведения, и т. д., и т. д.
Если музыкальный кодекс школы будущего таков, то мы принадлежим к этой школе,— мы принадлежим ей тогда и телом и душой как по глубочайшему убеждению, так и по самым пылким симпатиям. Но ведь так обстоит тогда дело и со всеми. Ведь каждый в настоящее время исповедует эту доктрину— более или менее открыто, полностью, или частично. Существует ли крупный мастер, который бы не писал того, чего он действительно хочет? Кто же еще, кроме нескольких робких чудаков, боящихся тени собственного носа. верует В, незыблемость схоластических правил?..
Я иду дальше: ведь именно так было издавна. В таком смысле и сам Глюк принадлежал к школе будущего. В своем прославленном предисловии к «Альцесте” ом заявил: «Нет ни одного правила, которым бы я не счел нужным пожертвовать добровольно ради впечатления”. А Бетховен, кем он был среди всех известных музыкантов, если не самым смелым, независимым, не терпящим каких бы то ни было ограничений? Но задолго до Бетховена Глюк применял верхние педали (ноты, выдержанные в верхнем регистре), которые не входят в гармонию и образуют двойные и тройные диссонансы. Он сумел извлечь прекраснейшие эффекты из этого смелого приема во вступлении к сцене в Аиде из «Орфея”, в хоре из «Ифигении в Авлиде” и, особенно, в той фразе бессмертной арии из «Ифигении в Тавриде”, которая идет на слова: «Melez vos cris plaintifs a mes gemissements”. Так же поступал и Обер в «Немой”. А каких только вольностей не позволял себе Глюк в отношении ритма? А Мендельсон, которого школа будущего почитает за классика, разве не насмеялся он над тональным единством в своей прекрасной увертюре из «Аталин”, которая начинается в фа мажоре и кончается в ре мажоре, подобно тому, как у Глюка один из хоров в «Ифигенин в Тавриде”, начинаясь в ля миноре, завершается в ми миноре. Мы все, с такой точки зрения, принадлежим к школе будущего.
Но если эта школа нам заявит, что: «Нужно делать все наперекор тому, чему учат правила. «Мелодия надоела; надоели мелодические узоры; надоели арии, дуэты, трио, пьесы, в которых последовательно развивается тема; приелась гармония консонансов, простых диссонансов—приготовленных и разрешенных; приелись естественные и искусно применяемые модуляции. «Не нужно считаться ни с чем, кроме замысла; совершенно не нужно дорожить впечатлением. «Нужно презирать эту тряпицу—ухо, насиловать его, чтобы подавить; музыка не преследует цели быть ему приятной. Нужно, чтобы ухо привыкло ко всему: к цепи уменьшенных восходящих или нисходящих септим, похожих на скопище змей, которые, извиваясь, с шипением, раздирают друг друга; к тройным диссонансам без подготовки н разрешения; к средним голосам, принуждаемым к ансамблю, несмотря на то, что они не согласуются между собой ни гармонически, ни ритмически, и лишь взаимно коверкают друг Друга; к ужасающим модуляциям, которые вводят новую тональность в одних голосах оркестра раньше, чем из других исчезла предшествовавшая. «Не нужно проявлять никакого уважения к искусству пения. Не нужно заботиться ни о его природе, ни о его потребностях. «В опере следует ограничиться фиксацией декламации, даже если бы пришлось применять самые непевческие, самые нелепые, самые безобразные интервалы. Нет необходимости устанавливать разницу между музыкой, предназначенной для исполнения ее оркестрантом, спокойно сидящим за своим пюпитром, и той, которая должна быть пропета наизусть на сцене артистом, обязанным в то же самое время играть и думать об игре других актеров. «Никогда не следует беспокоиться о реальных возможностях исполнения. «Если певцы для того, чтобы запомнить роль, чтобы ycвоить ее как вокальную партию, должны испытать такие же муки, какие им пришлось бы вытерпеть, чтобы заучить наизусть страницу на санскритском языке, или проглотить пригоршню ореховой скорлупы, то тем хуже для них; им платят за работу—они рабы. «Колдуньи Макбета были правы: прекрасное—это то же, что и ужасное; ужасное—это то же, что и прекрасное”.
Если такова эта религия, действительно весьма новая, то я крайне далек от того, чтобы ее исповедывать. Я к ней не принадлежал никогда, я к ней не принадлежу и я не буду к ней принадлежать никогда. Я подымаю руку и клянусь: «Non credo”*. Наоборот, я твердо убежден: прекрасное и ужасное —это не одно и то же. Без сомнения, музыка не имеет своей исключительной целью доставлять удовольствие уху, но она еще в тысячу раз менее может стремиться быть ему неприятной: мучить его и терзать. Подобно всем я человек из плоти; я хочу, чтобы считались с моими ощущениями, чтобы обращались бережно с моим ухом, с этой тряпицей.
Да, если хотите, тряпицей, но тряпицей, которая дорога мне. И, при случае, я отвечу так же непоколебимо, как я уже ответил однажды некоей даме великого сердца и ума, соблазненной до известной степени идеей свободы в искусстве,— свободы, доведенной до абсурда. По поводу одной пьесы с бессмысленными диссонансами, о которой я упорно не высказывал своего мнения, она мне заметила: «Вам-то ведь это должно нравиться, именно вам?—О, да, мне это так же нравится, как пить купорос и есть мышьяк”.
Позднее один прославленный певец, которого ставят в пример как яростного противника музыки будущего, сделал мне подобного же рода комплимент. Им была написана опера, включавшая в себя важную сцену, где негодная еврейка оскорбляла пленника. Чтобы лучше воспроизвести гоготание толпы, сей реалист написал для оркестра и хора кошачий концерт с непрерывными диссонансами. Восхищенный своей отвагой, автор раскрыл однажды партитуру на этом какофоническом месте и обратился ко мне без всякой иронии (я отмечаю это с удовольствием): «Я должен показать вам эту сцену; вам-то она понравится”. Я ничего не возразил, и даже не завел разговора ни о купоросе, ни о мышьяке; но, так как сегодня я, наконец, высказываюсь и так как меня все еще тяготит этот странный комплимент, я ему отвечу: «Нет, мой дорогой Д***, мне это не может нравиться, наоборот, мне это страшно неприятно. Считая меня реалистом — любителем кошачьих серенад, вы меня оклеветали. Вы, как говорят, провозглашаете теперь себя противником Вагнера и его последователей. но последние имеют еще больше прав причислить вас к разряду гремучих змей музыки будущего, — вас, музыканта на три четверти итальянского, способного и повинного в этом ужасе, тогда как меня вы не смеете отнести даже к числу орлов этой школы, и это меня — музыканта на три четверти немецкого, однако, никогда не писавшего ничего подобного, нет, никогда, — и вам не удастся доказать мне противное. Ну что же, сзывайте ваших сообщников, прикажите принести чаши из нелуженой меди; влейте в них купорос и угощайтесь: я же предпочту воду, пусть даже тепловатую, либо оперу Чимарозы
Стасов В.В. По поводу двух музыкальных реформаторов.
1873
"Что город, то норов”, — говорит пословица. В каждом месте свои нравы и обычаи. У нас заведен такой порядок, что только приближается время, когда надо предвидеть особенно большой съезд публики в Петербург или Москву из провинций или даже из-за границы, — публики, разумеется, любопытной, жаждущей видеть и слышать все примечательное, — так тотчас опера у нас тщательно запирает свои двери и пребывает в глубоком молчании до тех самых пор, покуда наплыв людей не кончится и все по сторонам не разъедутся. Так было, например, в Петербурге во время большой всероссийской выставки 1870 года, в Соляном Городке; так было тоже и в прошлом году, в Москве, во время громадной политехнической выставки; так было, наконец, и нынче, во время приезда шаха в Петербург. По всей вероятности, это очень хорошая, умная манера, достойная подражания. Но в других местах дело покуда ведется несколько иначе, и задолго еще до какой-нибудь выставки, съезда, прибытия значительных личностей, те, до кого это касается, хлопочут и принимают все меры, чтоб и опера на это время не отставала от других предприятий и давала бы съехавшимся массам гостей все, что только можно увидеть интересного или важного. Заключают особые контракты с артистами, предлагают им такие условия, которые им выгодны, и никто, в результате, не остается в накладе: ни публика, ни артисты, ни театральные управления. Во всем этом я постоянно убеждался во время всех тех всемирных выставок, на которых мне случалось быть: двух лондонских, одной парижской и одной мюнхенской (всемирно-художественной); убедился тоже и нынче, во время венской всемирной выставки. Не только ни один театр вообще не предавался постыдному ничегонеделанью, но оперный театр действовал с усиленною энергией, приглашал любимых певцов из немецких трупп других городов, обставлял свой репертуар так богато и интересно, как только можно, и, в награду за все это, постоянно делал громадные сборы. Все лето трудно было добиться хоть какого-нибудь места на одно представление “Африканки”. “Роберта”. “Тангейзера”, “Лоэнгрина”, “Риензи”. “Нюрнбергских певцов”, “Жидовки”, “Дон Жуана”, “Волшебной флейты”, “Фрейшюца” и доброй полдюжины других еще опер. Да, эти люди не зевают и не спят.
И вот, благодаря этой заботливости и распорядительности, я имел случай, во время недолгого пребывания в Вене, слышать несколько капитальных или, по крайней мере, в разных отношениях примечательных произведений, великолепно поставленных и превосходно исполненных. Мне случилось, между прочим, присутствовать при исполнении, на расстоянии немногих дней, одной оперы Глюка и двух Вагнера. Это были “Армида” первого, “Тангейзер” и “Нюрнбергские певцы” второго, Невольно, само собою, напрашивалось сличение тенденций двух музыкальных реформаторов XVIII и XIX века и добытых ими результатов,. и вот теперь мне хочется сообщить читателям “С.-Петербургских ведомостей” те мысли, на которые навели меня эти представления.
Оперы обоих композиторов поставлены с такою тщательностью с такою роскошью, с такою историческою точностью, каких нельзя, мне кажется, и превзойти. Вена, этот во всех отношениях немецкий Париж,. переняла у своего оригинала все, что только можно, даже скопировала у него лучший и красивейший (внутри) из европейских больших театров — “Theatre du Chatelet”. разве только кое-что изменив да прибавив еще новой роскоши, мраморов и золота в самой зале, в фойе и на лестнице. Вместе с тем Вена переняла от Парижа и ту тщательность исторических постановок, которая, по счастью, вошла теперь, мало-помалу, в обычай на всех главнейших театрах Европы. Ничто не может,. мне кажется, превзойти декорации и костюмов в операх Глюка и Вагнера: они так напоминали мне французский вкус и парижское мастерство. Особенно меня поразила в “Армиде” декорация третьего акта изображающая волшебный замок, а в “Нюрнбергских певцах” — декорация второго акта: “Улица в Нюрнберге”. Обе они представляют ночь и строения. Обе они поэтичны и живописны так, как это редко видишь на театре. Одна представляет полувосточную, полуфантастическую круглую башню, что-то вроде древнейших финикийских построек, с чудными фигурами и зверями кругом повсюду, и на черном фоне неуклюжей двери, зияющей, словно вход в пещеру, вдруг появляется, среди окружающего всю сцену тумана, сама красавица волшебница, влюбленная в рыцаря и истомленная горем, освещенная слабым лучом сверкнувшего из-за туч месяца. Другая изобразила узкую средневековую улицу,. вьющуюся, словно червяк, среди высоких, остролобых. кое-как нагромоздившихся деревянных домов. Тут и там мелькают огоньки из комнаток заработавшихся поздно ночью ремесленников, дома как будто лезут одни на другие, вдали черными потемнелыми полосками едва кое-где проглядывает небо, направо изящный вырезной вход в квартиру богача, золотых дел мастера Погнера, налево угол дома сапожника и музыканта-поэта Ганса Сакса, с песней сидящего за своими колодками, по всей сцене торчат углы домов и загибающиеся вглубь переулки, и все это вместе ужасно оригинально и ново, а когда под конец вся сцена наполняется толпой мещан, протирающих себе со сна глаза и прибежавших на тревогу, это движение и колебание огней и массы народа, рассыпавшейся по закоулкам или выглядывающей в форточки и слуховые окна, — прелестно и поразительно, как настоящая, будто воскресшая средневековая картина. Множество других, почти столько же чудесных декораций, наполняют и другие места новых и старых опер, костюмы же сочинены истинными художниками и глубокими знатоками дела. Нет никаких костюмов, повторенных 5—6 раз на разных хористах и только слегка измененных в цвете, как это обыкновенно у нас делается. Что ни личность, то другой костюм, другой покрой, другие цвета, все другое - ведь до самого нашего времени не существовало той “мундирности”, которая теперь так бросается в глаза, когда взглянешь на современную толпу народа: везде все точь-в-точь одни и те же пальто или фраки. Никогда прежде этого не было, ни на Востоке, ни в старой Европе, значит, так и должно быть представлено в опере или драме, берущейся воспроизвести жизнь и прежних людей; так именно и делают современные французы и немцы, те, что похудожественнее. Представьте себе, например, финал первого акта “Армиды”, где сцена битком набита народом. Тут налицо все население Дамаска, с ума сходящее и беснующееся при вести, только что полученной, что проклятые эти христиане еще в новом бою победили мусульманскую луну. Стар и млад высыпал тут из своих саклей на великолепную дамасскую площадь и с воплем толчется вокруг своего грозного царя-волшебника Гидраота и его сообщницы, молодой чародейки Армиды. Но что это за толпа, что это за роскошь и блеск одежд восточных, что это за вкус в их сочинении, эти десятки полуиндийских, полуперсидских, полуарабских костюмов, эти шлемы, эти чалмы, эти митры и повязки, эти кольчуги и латы, сияющие как толпа солнцев, среди пурпуровых, красных, как сургуч, голубых, золотых или зеленых кафтанов и плащей! Конские хвосты веют у иных с гребня шлемов или под острием копья, у других вовсе нет никакого оружия, и они только блистают, как женщины вокруг, чудесною роскошью золотых с цветными отливами платьев. Глядя на эту великолепную восточную картину, воображаешь себе, будто видишь перенесенными на оперную сцену совершеннейшие создания Гюстава Доре, из его иллюстраций к библии. Или еще, представьте себе последний акт “Нюрнбергских певцов”: тут тоже население целого города высыпало на громадную площадь, под самыми стенами города, но только на этот раз уже не со злобой и мщением, а в самом райском настроении духа, к какому только способны немецкие средневековые бюргеры, портные, сапожники, слесаря, булочники, снявшие фартук свой в прелестнейший Иванов день и отправившиеся от своих верстаков и кастрюль за город, с женами и детьми, давать первый приз за лучшую музыку. Тут уж дело идет не об ярости и не о пене у рта, тут все средневековые рожи и рожицы должны сиять и улыбаться, тут надевается лучший кафтан на спину, натягивается самый яркий трико на разжиревшие ноги, надвигается самая щегольская шляпа с развевающимся пером на ухо, тут берешь палочку с цветами и лентами в руку или пристраиваешься к процессии, несущей знамена, гербы и пироги, — и вот такую-то светлую, сияющую, разноцветную толпу изображают вам здесь на сцене, и как изображают! В самом деле иную минуту покажется, что это настоящий народ, что это настоящие средние века, начало XVI века, что это настоящая немецкая народная площадь со всем блеском, мещанским ликованием и немножко грубоватыми приемами и ухватками древнего Нюрнберга, в день которого-то великого его праздника.
Вот так ставят теперь здесь в Вене (может быть, тоже в Берлине, Мюнхене и Дрездене) те создания оперные, которые всеми ценятся и уважаются глубоко, и все это так хорошо, так совершенно, что навряд ли сами авторы могли бы требовать чего-нибудь еще.
Но никакие красоты и очарования постановки ничего не в состоянии помочь там, где сама опера не удовлетворяет, и я, несмотря ни на что, себе печать талантливости (например, последний хор первого акта — волнение народное, и хоры фурий в конце третьего), но как редки и как коротки подобные отрывки! Не угодно ли просидеть в театре часа 3—4 в неимовернейшей тоске и скуке, чтоб дождаться иной раз какой-нибудь одной или двух секунд сносной или хотя бы даже и талантливой музыки!
Что касается до инструментовки своих опер, то Глюк даже и в самое горячее для него время, среди самых блестящих своих успехов, никогда не славился ею, и для того, чтоб можно было слушать эти оперы нынешними ушами, необходимо всякий раз инструментовать их по-нынешнему — до того бесцветен и сух колорит глюковского оркестра. Так, например, “Армида” инструментована для здешнего театра капельмейстером Эссером.
Да, Глюк занимает великое место в истории музыки, он первый почувствовал всю ложь и искусственность итальянской оперы, он первый нанес ей могучие, громовые удары, после которых она никогда уже не встанет, как папство после гениальной проповеди Лютера: значит, он широко распахнул двери движению вперед, разумности творчества, но сам он был еще слишком мало художник, его произведения слишком редко способны доставлять художественное наслаждение, и надо все почтение к этому гениальному человеку, нужны неимоверные усилия над самим собою, чтоб не заснуть глубоким сном во время исполнения в наше время его опер.
Здесь на оперном театре постоянно идет война между классиками и новаторами, и это было бы еще небольшое чудо: подобная война происходит теперь почти везде, во всех больших европейских центрах, где есть какое-нибудь интеллектуальное движение. Само собою разумеется, тут на какой угодно арене встретятся и сшибутся консерваторы, отстаивающие драгоценное свое “прошлое”, дальше которого они ничего не понимают, и люди новых идей и стремлений, которые до некоторой степени уважают также и прошедшее, но еще с большею любовью рвутся к новому, к будущему, и кладут все свои силы на то, чтоб доставить торжество этому новому, будущему. Все это довольно обыкновенно и везде повторяется ежедневно, но удивительно и беспримерно то, что на одном и том же оперном театре действуют рядом два капельмейстера, являющиеся представителями обоих направлений, консервативного и прогрессивного. На венском театре капельмейстеры Хербек и Дессоф стоят во главе этих двух партий и постоянно хлопочут каждый о том, чтоб одержать верх над противником и доставить на сцене более прочности своему направлению. Не знаю, какую роль играют при этом музыканты оркестра:
как большинство всех техников и людей известного цеха, они, вероятно, почти все консерваторы, т. е. люди, остановившиеся на том самом пункте, на каком были, выходя из школы или ученья; но публика с удовольствием и любопытством следит за борьбою обеих партий и с одинаковой симпатией присутствует, целою толпой, при представлении “Армиды” классика Глюка и “Тангейзера” прогрессиста Вагнера. Вот, подумаешь, как изменчива судьба! Давно ли Глюк был самым передовым из передовых прогрессистов и во имя его происходили целые баталии, чтоб дать ход и место его “новаторским” операм, на погибель “классическим”, итальянским: а вот теперь уже и он сам попал в “классики”, и совершаются новые, почти кровопролитные бои, чтоб дать ход и место новым, нынешним “прогрессистским” созданиям. Борьба капельмейстеров на венском театре необыкновенно полезна: каждый из них вечно чувствует над собою дамоклов меч, критику соперника и противной партии и оттого ведет свое дело еще старательнее, еще энергичнее. Моложе и талантливее между ними вагнерианец Дессоф; значит, в большинстве случаев перевес остается на его стороне. Оркестр венский, один из совершеннейших и блистательнейших оркестров в Европе, получает еще новый блеск и увлекательность при его дирижировке (к чему надо еще прибавить то, что Вагнер по натуре—собственно симфонист и талантливейший оркестратор): хоры, ансамбли—все это необыкновенно дружно, стройно и энергично (о солистах нечего распространяться, потому что между ними нет ни одного первоклассного),—и, однако же. несмотря на все это соединение самых благоприятных внешних условий, “Тангейзер” Вагнера производит опять-таки то же самое впечатление скуки, холода и несносности, как и “Армида” Глюка.
И тут тоже: реформаторских идей много, а таланта мало. Не говоря уже о том, что Вагнер решительно лишен всякой способности к речитативу (который, однако же, по его мысли, должен играть главнейшую роль в его операх), не говоря уже о неестественности, вычурности и безвкусии каждого из этих речитативов, а также каждой из мелодий. попадающихся в пении (во всем этом Глюк стоит неизмеримо выше Вагнера: у него есть и вкус, и известное изящество, и известная верность интонации—хотя вообще мало творчества),—не говоря уже обо всем этом, в “Тангейзере” Вагнера, как и в его “Лоэнгрине”, поразительно стремление ко всему только декорационному, внешнему, к параду, к грубому малеванному эффекту и совершенное бессилие изобразить хотя единую черту из душевного, внутреннего мира. Пока дело идет о маршах, церемониях, процессиях, Вагнер до крайности груб и ординарен, но хоть на что-нибудь похож. Только речь дошла до любви, до чувства —он уже окончательно ни на что не похож становится и проявляет только поминутно бессильные потуги сказать что-то совершенно ему чуждое и недоступное. В это время слушатель осужден на мучения, в сто раз более тяжкие, чем вся скука от музыки Глюка. Печальный вой Тангейзера, Венеры. Елизаветы, который мы должны принимать за проявление глубокого и поэтического чувства, невыносим до тошноты. К тому же и в “Тангейзере”, и в “Лоэнгрине” можно встретить немало самой ординарной итальянщины, чисто вердиевского пошиба. Так, например, в “Тангейзере” в конце первого акта есть целый септет миннезингеров-рыцарей, явившихся во время охоты спасать Тангейзера и направлять его на путь истины: этот септет смело можно было бы пропеть в любом месте “Трубадура” или где угодно у Верди. (* Едва ли не единственное, в самом деле изящное и интересное место в “Тангейзере”, это—музыка, наигрываемая (в первом акте) на рожке пастухом, сидящим на верху горы, во время шествия пилигримов. И этот хор и речитатив пастуха—несносны, но то, что он играет на рожке, — прелестно. — В. С.)
Неужели такими несчастными результатами ограничились все усилия Вагнера—усилия, в самом основании своем столько возвышенные, благородные и светлые? Нет, кроме плохих и несносных “Тангейзеров” и “Лоэнгринов”, на каждой странице громко кричащих об отсутствии таланта у автора, есть еще у Вагнера одно произведение, решительно не похожее на все остальные, прежде или после им написанные. Это опера — “Нюрнбергские певцы”, и ее я ставлю не только выше всех других опер Вагнера, но даже на одно из высших мест в ряду всех европейских опер (без сомнения, ничуть не сравнивая ее с гениальными операми русскими: “Русланом” Глинки и “Каменным гостем” Даргомыжского). Года четыре тому назад я в первый раз слышал эту оперу” превосходно исполненную на большом дрезденском театре, и тотчас же сказал себе: “Вот, наконец, опера, в самом деле достойная нашего времени и по своей глубокой, свежей задаче и по всему содержанию! Трудненько придется всем остальным с нею равняться, даже и собственно в музыкальном отношении!” Теперь же, прослушав ее снова, и несколько раз в Вене, в исполнении не менее совершенном, и узнав ее таким образом еще ближе, я в десять раз сильнее убедился, что эту оперу почти не с чем и сравнивать из всего европейского репертуара (опять-таки, кроме опер русских, к сожалению, еще вовсе не знакомых и не оцененных на Западе).
Я вовсе не думаю, чтоб “Нюрнбергские певцы” были совершенство и до последней возможности выполняли современный оперный идеал. Нет, этого про них нельзя сказать, но они очень уже близко к нему подходят. Правда, Вагнер еще и тут ищет польстить немецкому народу старинными его преданиями и выставить ему картины старинной его жизни как что-то такое, возвращения чего надо желать теперь, среди всеобщего нынешнего упадка и развращения. Правда, завязкой служит архинелепый и архиуродливый анекдот о том, как богатый золотых дел мастер нюрнбергский, начала XVI столетия, обещает выдать дочь свою Евву за того, кто лучше на публичном состязании пропоет им же самим сочиненную песню (если такие глупые и унизительные анекдоты и случались во время оно, то как же выставлять их в виде какого-то высокого эпического мотива и чем-то вроде доказательства глубокого патриотизма и еще большей любви к музыке!). Но если забыть эти грехи, без которых Вагнеру просто на свете не живется, то в остальном содержании оперы мы найдем великолепные мотивы, не тронутые еще ни в какой другой опере.
“Нюрнбергские певцы” — это апофеоза поэзии и художества, побеждающих тупое музыкальное филистерство, это выраженное в ярких сценах торжество молодости, жизни, стремящихся вперед сил — над старыми преданиями и закоснелым консерваторством. Молодой, талантливый и поэтический дворянин Вальтер фон Штольцинг попадает в среду нюрнбергского музыкального цеха, который сначала не признает его таланта, не хочет знать его юного вдохновения и гонит его прочь во имя старых музыкальных цеховых узаконении, которые у него считаются (как у консерваторов всех времен) чем-то божественным и неприкосновенным. Но вот назначается другой опыт, публичный, всенародный, и Штольцинг, вдохновленный любовью и силою глубоко чувствуемого, правдивого художества, находит в груди своей такие звуки, такую львиную мощь, такую страстную увлекательность, перед которыми падают все старинные перегородки и предубеждения, и народная масса, умиленная, восторженная, чувствует одно только — поэзию нового, светлого художества, идущего из глубочайших родников души; все преклоняются, все покорны новым звукам, старое рутинное искусство побито наголову и со стыдом бежит вон со сцены, в лице старого педанта и шульмейстера Бекмессера, который было тоже вздумал явиться претендентом для получения руки хорошенькой Евы. Рядом с этою главною задачей является величавая, простая и в высшей степени симпатичная фигура сапожника Ганса Сакса, национального поэта Германии, который в настоящей опере, даром что сам принадлежит к музыкальному цеху, но раньше всех других понимает талант и поэтичность Вальтера Штольцинга и из всех сил помогает ему добиться заслуженного торжества. Прибавьте к этому чудесные народные сцены, то комические, то широкие и величественные (напр., собрание целого города, летом, в чудесный солнечный день, среди праздника, для решения интересующих его дел), прибавьте набожные сцены в церкви, сцены народной суматохи, бестолковщины ночью, когда все сбежались, толкутся, шумят и орут и никто хорошенько не знает, в чем дело состоит и что такое происходит, прибавьте сцены веселых подмастерьев, сцены тупого и тяжелого дурака Бекмессера, педанта старой школы (вроде наших музыкальных консерваторов), наконец, прибавьте милую и грациозную Еву, и вы получите такую оперу, какой вы еще никогда не видали на европейских сценах, — оперу, дышащую правдой, естественностью и красотой, как почти ни одна из остальных опер, нам известных на Западе.
В своих “Нюрнбергских певцах” Вагнер остался при очень многих своих всегдашних музыкальных недостатках: речитатив у него и здесь вычурен II неестествен, мелодия подчас надута, безвкусна и тяжеловесна, многое слишком декорационно или грубо, есть много страниц, которые бы следовало прямо исключить, как сухие и скучные, и притом совершенно напрасно замедляющие действие и вредящие интересу (и действительно, нигде эта опера не дается целиком, а можно было бы немало еще выкинуть, например, бесконечный рассказ Погнера в первом действии); наконец, несмотря на весь оркестровый талант Вагнера. инструментовка у него даже и здесь подчас груба и немного топорна; но, несмотря на все недостатки, в общем эта опера одно из замечательнейших явлений всей существующей на свете музыки. Ничто не может сравниться с поэтичностью любовных сцен Вальтера и Евы, ночью, на узкой и тесной средневековой улице, при лунном свете, или с вдохновенным пением Вальтера перед собранием народным: впечатление этих великолепных сцен так глубоко, так неизгладимо, как немногое на свете, и прелестная, грубо художественная инструментовка еще во сто раз увеличивает это впечатление. Еще никогда прежде Вагнер не поднимался до такой высоты!
Слушая “Нюрнбергских певцов”, я поминутно думаю про себя: “Когда же станут давать эту чудесную оперу, наконец, и у нас? Я знаю, она страшно трудна, страшно сложна и для оркестра, и для певцов, и в особенности представляется сущей каторгой для каждого дирижера. Да что же делать, когда все хорошее теперь так сложно! Рано ли, поздно ли, но это необыкновенное, высокоталантливое произведение должно появиться и на нашей сцене, давно уже обойдя всю Европу. Так что же ждать еще? Чем скорее, тем лучше”.
1873 г.
П.И.Чайковский. Статьи о Рихарде Вагнере.
в 1876 году П.И. Чайковский едет в Байрейт на премьеру четырех опер цикла "Кольцо Нибелунга" как корреспондент от газеты "Русские ведомости". Свои впечатления он описал в нескольких очерках, позже вошедших в сборник "Музыкальные критические статьи": "Вынес я впечатление о поразительной красоте, особенно симфонической, удивление к громадному таланту автора, его небывало богатой технике..."
Здесь приводятся четыре статьи из цикла "Байрейтское музыкальное торжество", а также небольшая заметка для журнала "Морнинг Джернал".
Байрейтское музыкальное торжество. Часть I. (История возникновения)
В конце наступающего лета, в августе, состоится музыкальное торжество, которому суждено отметить собою одну из интереснейших эпох истории искусства. Знаменитая, столь долго и нетерпеливо ожидаемая оперная трилогия Вагнера, под общим названием “Нибелунгова перстня”, будет, наконец, представлена на особо для нее выстроенном театре в г. Байрейте, в Баварии.
Этот колоссальный труд знаменитейшего из живущих композиторов, независимо от степени успеха, который достанется на его долю, представляет, во всяком случае, явление необычайно знаменательное и долженствующее так или иначе оставить за собою яркий исторический след. Если принять во внимание, что Вагнер, как в своем отечестве, так и во всем остальном цивилизованном мире, сосредоточивает на себе самое напряженное внимание музыкальной публики; если вспомнить, что он создал громадную массу восторженных поклонников, обоготворяющих его до последней степени, и что, в то же время как в публике, так и в музыкальных сферах есть не мало людей, не признающих за ним не только гения, но даже и обыкновенного музыкального дарования, – то легко себе представить, какой шум, волнение, и сколько пререканий подымится в европейской прессе по поводу исполнения гигантского труда прославленного маэстро.
Полагаю, что читателям “Русских ведомостей” будет небезинтересно проследить за всеми перипетиями как приготовлений байрейтского музыкального торжества, так и самого представления исполинской оперы. Нижеподписавшийся уже обеспечил себе место на готовящемся празднестве и намерен сообщать на страницах настоящей газеты как впечатления, которыеему предстоит вынести, так и подробности всего того” что произойдет в Байрейте в будущем августе. Но для того, чтобы читателю было вполне понятно значение, которое имеет творение Вагнера, и чтобы впоследствии уже не возвращаться к обстоятельствам, которыми сопровождалось осуществление смелого художественного предприятия, я намерен в настоящем кратком очерке рассказать историю возникновения байрейтского театра, долженствующего познакомить музыкальный мир с громаднейшим и сложнейшим из всех когда-либо написанных музыкальных произведений. В следующем очерке я познакомлю читателей с содержанием текста оперы, а затем, в августе, уже из Байрейта буду делиться моими впечатлениями.
В 1862 году Вагнер напечатал (в 6-м томе полного собрания своих литературных трудов) текст своей будущей оперной трилогии, которую назвал так: “Нибелунгов перстень, торжественное театральное представление для трех дней и одного предварительного вечера” (Der Ring des Nibelungen, ein Buhnenfestspiel fur drei Tage und einen Vorabend). Эта трилогия с прологом, обнимающая собой весь цикл легенд о нибелунговом перстне, была раз делена Вагнером на четыре отдельных оперы, из коих первая, т. е. пролог, носит название “Рейнгольд” (“Золото Рейна”), вторая “Валькирии”, третья “Зигфрид” и четвертая “Гибель богов” (“Gotterdammerung”). В послесловии к этому превосходно обработанному литературному произведению, уже тогда отчасти положенномуим на музыку, Вагнер объясняет читателю, что он потерял всякую надежду дожить до осуществления своей заветной мечты, т. е. до сценического воспроизведения своей трилогии.
И в самом деле, план Вагнера был так необъятно велик, осуществление его представляло такие, по-видимому, непреодолимые затруднения, оно потребовало бы такого исключительного наплыва музыкальных сил, достаточных для исполнения небывалой, по размерам, оперы,оно нуждалось в таких огромных денежных средствах, – что отчаянное настроение художника, разочаровавшегося в возможности добиться отдаленной и трудной цели, было всеми понято. Нужно заметить, что Вагнер тогда еще не имел никакого обеспеченного положения, что слава его еще далеко не так была упрочена, как теперь, и что он не имел достаточного основания рассчитывать на деятельное участие и интерес публики к его проектам. Отчаявшись в возможности довести свое дело до вожделенного конца, Вагнер почувствовал потребность отвлечь себя от мрачных настроений безнадежности посредством нового труда. Он предпринял написать большую комическую народную оперу “Нюренбергские певцы”.
К этому времени относится знакомство Вагнера с молодым королем Баварии, который, едва вступив на престол, заявил себя ревностным покровителем национального искусства. Король Людвиг вызвал Вагнера в Мюнхен, обещалему нравственную и материальную поддержку во всех его предприятиях и обеспечил за композитором возможность, вдали от житейских работ и треволнений, окончить объемистую партитуру “Нюренбергских певцов”. Опера эта скоро была написана, представлена в Мюнхене, увенчана успехом и принята на всех других больших лирических сценах Германии. Ободренный деятельным покровительством короля Людвига и успехом своей последней оперы, Вагнер снова обратился к “Нибелунгову перстню” и принялся с новым жаром за работу и хлопоты о постановке своей трилогии.
На помощь Вагнеру, изыскивавшему средства привести в исполнение свои обширные планы, явились друзья его. Супруга прусского министра Шлейница и умерший пять лет тому назад пианист Карл Таузиг, оба восторженные поклонники композитора, придумали весьма остроумный план добыть нужную Вагнеру для постройки временного театра со всеми приспособлениями сумму в 300 тысяч талеров, посредством организации Общества на паях в 300 талеров каждый. Смерть помешала Таузигу быть учредителем этого Общества, но мысль его не осталась бесплодною. В Мангейме несколько поклонников музыки Вагнера составили из себя, по мысли Таузига, Общество, получившее название “Общество Рихарда Вагнера” (Richard-Wagners-Verein). Пример Мангейма скоро нашел подражателей; сначала в Вене, потом в других городах Германии, потом и за пределами отечества композитора, в Пеште, Брюсселе. Лондоне, Нью-Йорке, образовались одно вслед за другим подобные же Общества. В начале 1871 года надежды Вагнера уже настолько стали близки к осуществлению, что он начал искать город, в котором бы наицелесообразнее мог быть построен его театр.
Выбор Вагнера пал на Байрейт, небольшой город, бывшую столицу маркграфа байрейтского, лежащий среди прелестной местности и вполне подходивший под требования нашего композитора. Городские власти Байрейта приняли искреннее участие в деле Вагнера и подарили ему нужный участок земли. Нашелся искренно увлеченный делом архитектор, и 22-го мая 1872 года фундамент проектированного театра уже был торжественно заложен. Празднование закладки театра сопровождалось торжественным концертом, в котором, под управлением Вагнера, была исполнена девятая симфония Бетховена, банкетом и речью героя праздника, в которой он горячо благодарил друзей своего искусства за их деятельную и энергическую поддержку. В минувшем 1875 году байрейтский театр окончен, и в течение прошлого лета Вагнер уже мог приступить к репетициям.
Особенность устройства байрейтского театра заключается в том, что громадный, по составу, оркестр будет невидим. Вагнер, исходя из той идеи, что слишком реальная техническая обстановка оркестра мешает идеальному впечатлению сценической иллюзии, пришел к заключению, что в оперном театре оркестр должен помещаться в углублении между сценой и зрительной залой. Места для зрителей устроены в виде постепенно расширяющегося амфитеатра. Лож не будет вовсе. Зрительный зал освещаем не будет. Вагнер хочет, чтоб его слушатель не был развлекаем от сцены решительно ничем и чтоб ему казалось, что будто кроме его и сцены в минуту слушания не существует ничего в мире.
Трилогия с прологом будет представлена три раза и займет таким образом двенадцать вечеров. Покупающий себе целый пай платит триста талеров и имеет право присутствовать на всех двенадцати представлениях. Покупающий третью часть пая платитсто талеров и имеет право на прослушание каждой из четырех опер по одному разу. Любопытствующим я могу сказать, что небольшое число мест еще имеется в распоряжении администрации и что желающие воспользоваться ими должны обращаться по следующему адресу: Т. Feustel, Banquier. Bayreuth. Konigreich Baiern.
Байрейтское музыкальное торжество. Часть II. (“Золото Рейна”. “Валькирия”)
Два месяца тому назад я рассказал читателям “Русских ведомостей” обстоятельства, среди которых был задуман и приведен в исполнение план постройки театра для сценического воспроизведения колоссальной тетралогии Вагнера “Перстень Нибелунгов”. Теперь я постараюсь в кратком очерке изложить содержание всех четырех опер, составляющих эту тетралогию, предупреждая читателя, что мое краткое повествование будет очень сухо и, по всей вероятности, совершенно утратит ту чарующую поэтичность, с которой Вагнер, совместивший в себе первоклассное музыкальное дарование с могучим талантом литературным, обработал сложную германо-скандинавскую легенду.
1. Три различные рода существ борются между собою из-за обладания миром: боги, великаны и карлы. В светлом мире богов царствует повелитель их Вотан; он соединен супружескими узами с богиней Фрикой; сестра ее Фрея бережет те яблоки, употребление в пищу которых сохраняет богам их неувядающую молодость. Хитрый Логе имеет лишь полубожескую природу; он вечно занят изыскиванием таких затруднений и препятствий, из которых только он один может вывесть сонм богов, подчиненных Вотану. Великаны живут на поверхности земли среди скал и гор; сила их неизмерима, зато мыслительная способность слаба; где нельзя взять верх физическою мощью, там великаны всегда уступают. Совершенную противоположность им представляют карлы или нибелунги, обитающие в недрах земли, из которых они добывают и сохраняют металлы; они малы, слабы, но деятельны и хитры. Эти три племени вечно враждуют между собою и стараются, кто силой, кто хитростью, подчинить себе друг друга.
Первая часть тетралогии “Золото Рейна” открывается ранним утром и представляет зрителю глубину Рейна, в водах которого играют, резвятся и гоняются одна за другой от скалы к скале три дочери Рейна. Из-под земли является Альберих, царь карлов, и призывает их к себе; испуганные девы поспешно стремятся к скале, на которой лежит золотое сокровище, оберегаемое ими по повелению отца от сребролюбивых карлов. Альберих тщетно старается захватить одну из них. Луч восходящего над водами солнца падает на золото. Дочери Рейна издеваются над карлой и объясняют ему значение охраняемого ими сокровища: кто из рейнского золота скует себе кольцо, то и будет властелином мира, но дабы присвоить себе это сокровище, нужно отречься от любви. Кляня любовь, Альберих внезапно овладевает сокровищем и скрывается в глубине. Тщетно гоняются за ним дочери Рейна - глубина реки покрывается непроницаемым мраком.
Подобно царю карлов, царь богов стремится к увеличению своего могущества. Он обещает великанам Фафнеру и Фазольту свою свояченицу Фрею, если они в небесных высотах построят ему царские палаты. Дворец готов в одну ночь. Пробудившись утром, Вотан видит по ту сторону Рейна волшебно сияющее здание. Вслед затем являются великаны за обещанной уплатой: они знают, чего лишатся боги и что выиграют они, если из среды богов будет вырвана Фрея, сохраняющая их молодость. Вотану хотелось бы обмануть недальновидных великанов. На помощь к нему является Логе, дух хитрости. Везде, говорит Логе, женская краса считается драгоценнейшим благом; но есть один только муж, отказавшийся от наслаждений любви: это Альберих, только что похитивший у дочерей Рейна золото. Великаны завидуют коварному царю карлов, узнав, что кто будет владеть кольцом, скованным из золота Рейна, тот сделается властелином мира. Вотан спрашивает Логе, как нужно сковать такое кольцо? “Это удастся только тому, кто, как Альберих. отрекся от любви”, отвечает Логе. Вотан решается вырвать из рук карла сокровище Рейна. Точно такое же решение принимают и великаны, готовые отказаться от Фреи, если золото попадет в их руки. Они силою увлекают Фрею и говорят богам, что возвратят ее Вотану и всему божественному сонмищу, если к концу дня им будет предоставлено золото Рейна. Как только Фрея уходит, свет помрачается; боги бледнеют и внезапно принимают старческий вид, силы их слабеют. Утратив Фрею, боги теряют не только свое могущество, но и жизненные силы. Вотан, сопровождаемый хитрым Логе, спускается на поверхность земли, чтобы добыть золото Рейна и ценою его возвратить себе молодость.
В глубине земной, под Рейном, царствует Альберих. Он похитил у дочерей Рейна порученное им сокровище, и, отрекшись от любви, хочет сделаться полновластным властелином мира, сделав себе из похищенного золота кольцо. Альберих только что поручил своему брату, искусному Миме, сковать себе шлем. Миме, чуя в нем таинственную силу, медлит отдать его брату. Но Альберих отнимает шлем силою, надевает его, произносит волшебное заклинание и делается внезапно невидим. Он предупреждает брата, что о своей близости будет оповещать его ударами бича. После того он удаляется, чтобы распорядиться работой карлов для своих целей. Появляются Вотан и Логе и узнают от Миме о чудесном шлеме. Альберих, возвращающийся с полчищем карлов, замечает гостей своих, ударами бича заставляет брата вмешаться в ряды карлов, снимает кольцо с пальца и, протягивая руку по направлению к толпе карлов, повелевает им немедленно приняться за работу. Они разбегаются в разные стороны. “Чего хотите вы”? спрашивает он странников. Вотан, указывая на груды золота, спрашивает, для чего оно нужно Альбериху в этом царстве вечного мрака. “Для того, отвечает карла, чтобы подчинить своей власти все существующее в светлых надземных пространствах”. Логе старается выведать от Альбериха о том, считает ли он волшебное кольцо своим неотъемлемым достоянием. В ответ на это Альберих обнаруживает таинственную силу своего шлема. Логе выражает сомнение, чтобы шлем этот имел свойство превращения; Альберих тотчас же превращается в змею исполинских размеров. Подзадоривая карлу, Логе говорит ему, что, превращаясь в животное столь больших размеров, он не избегает опасность. Альберих превращается в жабу. Этого только и ожидали боги. Вотан становится на жабу ногою; Логе отнимает шлем и Альберих принимает свой настоящий вид. Его сковывают и уносят. Он может освободиться только ценою своих несметных сокровищ. Альберих, приложив кольцо к губам, произносит повеление карлам принести их. Он надеется сохранить по крайней мере кольцо свое, но Вотан требует и его. Альберих отказывает в этом, так как кольцо ему дороже жизни. Вотан срывает кольцо с руки карлы. Тогда, освобожденный от оков, Альберих проклинает кольцо, предрекая смерть его обладателю, и исчезает.
Великаны снова являются с Фреей, она приносит с собой свет и молодость для богов. Золото готово. Великаны сыплют его на Фрею, и когда она совершенно будет закрыта им, только тогда залог будет выкуплен. Боги возмущены позорным обращением великанов с Фреей; бог громов хочет поразить великанов, но Вотан останавливает его. Фрея уже почти скрыта грудой золота; но Фафнер еще заметил вьющиеся кудри ее. Фазольт, воспламененный любовью, подходит к груде благородного металла и старается еще раз увидеть светлую богиню; брат его требует от Вотана кольцо, чтобы пополнить отверстие. Вотан не хочет расстаться с этим символом своего всемогущества. Великаны вырывают Фрею из золотой кучи, чтобы навсегда отлучить ее от среды богов. Напрасно боги стараются склонить их к уступчивости. В это время Эрда, чернокудрая красавица-богиня, подымается до половины тела из недр земли и говорит Вотану: – “покорись требованию великанов, берегись проклятого Альберихом кольца, оно принесет тебе гибель!” –“Кто ты?” –спрашивает Вотан. “Я знаю все, что было, что есть и что будет”, отвечает Эрда и исчезает. Вотан решается бросить кольцо в золотую груду. Освобожденная Фрея радостно бросается к богам. Кольцо остается во власти великанов, но заклятье нибелунгов начинает действовать на них. Деля золотую добычу, великаны ссорятся между собою, Фазольт, пораженный смертельно Фафнером, падает. Боги приведены в ужас. Недоумевающий Вотан предпринимает решение спуститься в лоно земли к богине Эрде, чтоб, узнав от нее будущее, отклонить удары злой судьбы от божественного сонмища. Фрика, супруга его, чтобы рассеять мрачные мысли Вотана, указывает ему на роскошные палаты по ту сторону Рейна. Доннер, бог грома, и Фро, бог света, зажигают радугу, по которой боги переходят через долину к блистающему в вечерней заре зданию. Логе предвидит близкий конец богов. Неохотно следует он за богами, собираясь превратиться в огненный язык, которым он был прежде, чтобы силою пламени уничтожить волшебные божеские палаты. Из глубины Рейна слышатся плач и стенания дочерей Рейна.
Этим кончается первая музыкальная драма. Действие ее происходит в пространстве времени от восхода до заката солнца.
Вторая драма носит название “Валькирии”. Вотан спускается к мудрой богине Эрде. Он прельщает ее чарами любви, и Эрда приносит ему девять дочерей, долженствующих содействовать царю богов в его стараниях отвратить гибель от божественного сонмища. Эти полубогини называются валькириями, и обязанность их заключается в том, что они избирают на поле сражения падших героев и потом, положив их на своих могучих коней, стремятся в Валгаллу (местопребывание богов). Герои эти возвращаются к новой жизни и составляют избранное воинство для защиты Вотана и подчиненных ему богов. Эрда предостерегает Вотана от козней Альбериха: если этот последний снова овладеет кольцом нибелунгов. то и дружина героев, добытых валькириями, не поможет, так как, благодаря кольцу, они будут в распоряжении царя карлов. Но как Вотану воспрепятствовать, чтобы заветное кольцо снова досталось Альбериху? Оно принадлежит теперь Фафнеру по договору, которого нарушить Вотан, верховный блюститель действительности договоров, не может. Фафнер же, превратившись в дракона, лежит в ленивой дремоте, оберегая свое сокровище, но не пользуясь им. Нужен такой герой, который бы без всякого вмешательства богов, по собственному побуждению убил дракона и завладел кольцом его. Вотан под именем Вельзе снисходит в среду людей и вступает в супружескую связь со смертной женщиной, плодом этой связи являются близнецы Зигмунд и Зиглинда. С сыном Зигмундом царь богов отправляется искать приключений; они повсюду встречают врагов и преследователей. Во время их отсутствия мать Зигмунда убивают, сестру его похищают, дом предают огню и разорению. Вельзе как изгнанник скрывается с сыном в лесах; они долгое время живут там, преобразившись в хищных волков и упорно обороняясь от преследователей. Дочь Вельзе должна была сделаться супругою человека, которого она не любит. В день своего бракосочетания грустная Зиглинда сидит рядом с нелюбимым мужем. Является странник. У него только один глаз, но свет, из него исходящий, так силен, что внушает всякому человеку страх. Странник этот вонзает меч в ствол ясеня, вокруг которого построено жилище супруга Зиглинды. “Меч этот, говорит странник, будет принадлежать тому, кто сумеет вынуть его из ствола ясеня”. Этого никто не может. В это время Зиглинда узнала в страннике своего отца. Теперь она спокойна; она знает, что будет принадлежать тому, у кого хватит силы выдернуть меч из крепкого дерева. Между тем Зигмунд потерял след отца своего; из леса он уходит к людям, но нигде изгнанник не встречает приюта и гостеприимства. Он похищает девушку, которая должна сделаться женою нелюбимого человека, убивает ее братьев, но, будучи стеснен и обезоружен ее родственниками, должен бежать. Драматическое действие второй части тетралогии начинается с этого момента. Как дикий зверь, преследуемый охотниками, измученный и изнемогающий, Зигмунд, поздним вечером, находит, наконец, убежище в доме Гундинга, супруга Зиглинды. Гундинг в качестве родственника обольщенной Зигмундом девицы тоже отправился на поиски за врагом своего рода. Зиглинда, поддающаяся непонятному влечению к пришельцу, подкрепляет силы его пищей, питьем и утешением. Зигмунд узнает, что она не любит своего мужа, его участие к ней разрастается в любовное томление. Гундинг возвращается; он узнает того, на которого должны пасть удары его кровавой мести, и откладывает борьбу до следующего утра; Зиглинда по его приказанию отправляется в опочивальню, и супруг следует за нею. Зигмунд предается мрачной задумчивости. Каким образом будет он, безоружный, сражаться с врагом своим? Однажды отец сказал ему, что во время сильнейшей невзгоды он найдет меч; где же этот меч? Зиглинда усыпила мужа посредством особого напитка; она приходит к Зигмунду и открывает пришельцу тайну о мече; она видит в нез
На другой день должен состояться поединок между Зигмундом и Гундингом, вдвойне теперь оскорбленным. Вотан повелевает валькирий Брунгильде обеспечить победу за своим сыном. Брунгильда – любимейшая из девяти дочерей царя богов, прижитых им от богини Эрды; к ней перешла мудрость ее матери; Вотан часто пользуется ее советами и поверяет ей все свои мысли о судьбах богов и человечества. Теперь она, исполняя приказ отца, должна предоставить победу Зигмунду. Но Фрика, супруга Вотана, в качестве покровительницы брака, хочет, напротив, чтобы пал в борьбе Зигмунд. Вина его велика – он соблазнил супругу другого и притом родную сестру свою. Сама Фрика не мало выстрадала от неверности супруга своего и потому упорно преследует всякое нарушение супружеской верности. Она с такой силой убеждает Вотана, что тот колеблется... сомневается... и. наконец, отдает Брунгильде новое приказание: –Зигмунд должен пасть! Валькирия Брунгильда, читающая в сердце отца своего, хотела бы из любви к нему повиноваться его первому приказанию - но Вотан, в случае неисполнения его воли. грозит ей лютым наказанием.
Между тем, влюбленная Зиглинда. в объятиях прекрасного пришельца, томится страхом возвращения ненавистного супруга. Уже слышится приближение Гундинга. Зиглинда лишается чувств. Здесь появляется Брунгильда; она предрекает Зигмунду смерть и перенесение в Валгаллу. Он спрашивает, увидится ли в Валгалле с Зиглиндой? Нет, отвечает валькирия. Зигмунд с презрением отвергает Валгаллу. Никому не хочет он уступить возлюбленную и скорее готов убить ее. Он вынимает заветный меч свой и хочет лишить себя жизни вместе с Зиглиндой. Тронутая до глубины сердца Брунгильда решается последовать первому повелению Вотана и обещает ему победу в борьбе с Гундингом. Этот последний является и хочет вступить в поединок с Зигмундом. Воодушевленный голосом валькирии, Зигмунд бросается на врага, намереваясь нанести ему смертельный удар, но в это мгновение, среди освещенного ярким пламенем облака, является Вотан и копьем своим ударяет меч Зигмунда. Меч разрывается на части и безоруженный сын царя богов гибнет под ударами своего соперника. Зиглинда падает без чувств на тело своего возлюбленного; Брунгильда кладет ее на своего коня и спешит скрыться от разгневанного отца своего. Между тем, Вотан тоскливо смотрит на труп своего сына. Гундинга он умерщвляет одним взглядом. Внезапно вспоминает Вотан о неповиновении своей дочери Брунгильды и спешит за нею. Брунгильда, страшась последствий отцовского гнева, успела доскакать до Валькириевой горы, где она умоляет сестер своих, валькирий, защитить Зиглинду. Сначала Зиглинда хочет умереть, но, узнавши, что в ней уже возрастает плод от любви к Зигмунду, умоляет валькирий о спасении. Уже царь богов приближается среди разъяренной бури. Брунгильда приказывает Зиглинде бежать в лес к месту, вблизи которого лежит дракон и куда гнев Вотана достигнуть ее не может, отдает ей обломки меча Зигмунда с тем, чтоб она берегла и сохраняла их для своего будущего сына Зигфрида.
Появляется гневный Вотан. Валькирии просят пощады для сестры своей. Он непоколебим. Приговор его следующий: Брунгильда, отринутая навеки от семейства богов, к которому принадлежала, достанется в супруги тому, кто ее найдет и разбудит. Брунгильда просит отца, чтоб он окружил гору пламенем, дабы она не могла сделаться легкою добычею. Она предвидит, что через все препятствия и море пламени к ней доберется только один будущий герой Зигфрид, супругою которого она хотела бы сделаться. Вотан исполняет ее волю. Он погружает Брунгильду в крепкий сон, зажигает кругом горы огонь и, накрыв валькирию щитом ее, удаляется. Так кончается вторая драма.
Байрейтское музыкальное торжество. Часть III. (“Зигфрид”.“Гибель богов”)
Теперь следует третья драма, “Зигфрид”. Зиглинда достигла леса, где живет дракон – Фафнер. и проводит там дни свои. В конце ее жизни несчастную находит карла Миме, брат Альбериха. постоянно ожидающий случая отнять у Фафнера стерегомые им кольцо и шлем. После ее смерти Миме берет к себе на воспитание сироту Зигфрида. Он не любит своего воспитанника, но знает его будущую силу и надеется, что посредством его добьется желанного сокровища. Мальчик вырастает в юношу необычайной силы. Миме сковал для него сильный меч,. но Зигфрид сломал его пополам, как игрушку. С этого момента начинается драматическое действие “Зигфрида”.
Миме сковал Зигфриду новый меч, и снова сильное оружие разломалось в могучих руках исполина. Миме упрекает разгневанного юношу в неблагодарности; в ответ на это Зигфрид выражает своему воспитателю всю силу своей ненависти. “Я не могу быть сыном такого урода, как ты, говорит Зигфрид: - скажимне, кто мои родители?” Миме уклоняется от прямого ответа. Зигфрид хватает его за горло. Испуганный урод рассказывает ему про Зиглинду, а про отца говорит, что он был убит при рождении Зигфрида. В подтверждение слов своих он приносит обломки меча, отданного Брунгильдой Зиглинде.
Зигфрид чует силу этого меча и велит Миме сковать его об ломки в тот же день, чтобы, вооруженный им, уйти от ненавистного урода в другие страны. Зигфрид уходит. Миме принимается за трудную работу. Входит Вотан, со времени разлуки с Брунгильдой тоскующий по любимой дочери и. странствующий по свету. Миме узнает от него, что меч Зигмунда скует тот, кто не знает страха, и что голова карлика падет под ударом этого человека. Миме приведен в оцепенение. Возвращается Зигфрид за мечом, и Миме с ужасом вспоминает, что он не научил своего воспитанника страху. Он хочет поскорее пополнить этот недосмотр и для этой цели рассказывает Зигфриду об ужасном драконе, Фафнере. Вместо того, чтоб испугаться, Зигфрид возгорается желанием поскорей увидеть чудовище, требует, чтобы Миме свел его туда, но, предварительно, чтобы сковал сломанный меч. Миме отговаривается неумением. Зигфрид сам берется за дело; он растопляет сбломки в одну металлическую массу и из нее выливает себе целый новый меч. Страшась приближения своей погибели, Миме хочет прибегнуть к коварной хитрости; он приготовляет для своего воспитанника усыпляющий напиток, в намерении преподнестьего Зигфриду после сражения и победы над драконом. Погруженного в тяжелый сон исполина карлик хочет убить его же собственным оружием. Он верит в успех своего хитро задуманного предприятия и уже мечтает сделаться обладателем кольца, царем нибелунгов и повелителем ненавистного брата; в это время Зигфрид только что скованным мечом ударяет по наковальне, чтоб испытать силу своего оружия, и наковальня раздробляется на части; Миме в ужасе падает на землю.
Наступила ночь. Альберих ждет близ логовища Фафнера того мгновения, когда чудовище, пораженное насмерть, оставит в его власти стерегомое им сокровище. Является Вотан и предрекает Альбериху приближающуюся опасность. Между тем. ночь сменилась днем и к логовищу дракона подходят Миме с Зигфридом. Миме прячется в лесу; Зигфрид предается в ожидании борьбы задумчивости, от которой пробуждает его пение птички. Он напрасно хочет на деревянной дудке подражать птичке; с негодованием бросает он дудку и трубит в серебряный рог, подаренный ему когда-то воспитателем. От этих звуков просыпается дракон. Зигфрид, при виде чудовища, просит, чтоб оно научило его страху. В ответ на это Фафнер хочет схватить смелого юношу, но тот поражает его мечом прямо в сердце. Умирая, дракон предостерегает Зигфрида от близкой опасности. Последний вынимает меч из сердца дракона. При этом немного крови осталось на руке его, она горит, как в огне; чтобы смыть кровь, он прилагает руку к устам; но едва его язык омочился кровью Фафнера. как ему делается понятно пение лесной птички, которому перед этим напрасно тщился подражать он. Птичка открывает ему значение кольца и шлема, оставленных чудовищем. Зигфрид идет в логовище за сокровищем. Между тем. Альберих и Миме спорят о том, кому оно достанется. Зигфрид возвращается с кольцом и шлемом. Снова раздается голос птички; она предостерегает юношу от козней коварного Миме; в словах Миме, благодаря чудесной силе крови чудовища. Зигфрид будет понимать не прямой смысл их, а то, что на самом деле думает карла. Миме является с своим напитком; он пытается обмануть Зигфрида, но против своей воли обнаруживает свои злостные замыслы. Зигфрид, в отмщение, смертельно поражает его ударом меча к великой радости наблюдающего за ними Альбериха. Солнце стоит высоко на небе. Зигфрид располагается в тени липы. Его обуяло грустное одиночество. Снова раздается голос птички. Она сообщает ему о чудной деве, покоящейся в глубоком сне на высоте окруженной пламенем горы Валькирий: Зигфрид радостно спешит к этой чарующей деве. Вотан хочет остановить его, он показывает Зигфриду копье, которым он сломал в руках отца Зигфрида меч. Не знающий страха юноша ударом меча раздробляет копье царя богов. Вотан, знающий, что час гибели богов близок и не чувствующий в себе силы предотвратить конца своего, возвращается в Валгаллу. Он велит повалить и разрубить на части большой ясень - символ мира, управляемого богами, разложить эти полена по Валгалле и. окружив себя богами и героями, садится на престол свой, погрузившись в мрачное молчание. Он хочет погибнуть, если кольцо, добытое Зигфридом, снова будет отдано дочерям Рейна, и за этим известием посылает двух воронов. Между тем, Зигфрид, миновав все преграды, достигает вершины горы, пробуждает Брунгильду. побеждает ее гордое сердце мужественной красой своей и узнает блаженство любви в объятиях Валькирии.
Последняя драма носит название “Гибель богов”. Нашлись наконец те, которые одни могут освободить от проклятья богов и весь мир, – это Зигфрид и Брунгильда. Пока они в объятиях любви покоятся на вершине горы своей, три Норны, старшие дочери Эрды. прядут под покровом ночного неба золотую нить, соответствующую будущим судьбам мира; они недоумевают о предвещаемом пожаре чертога богов –Валгаллы. При воспоминании о проклятии Альбериха нить разрывается, наступает конец их ясновидению и. пораженные испугом, они поспешно слетают к матери Эрде.
Рано утром Зигфрид, которому Брунгильда сообщила все свое знание, отправляется к новым подвигам; он узнал от своей возлюбленной больше чем может сохранить в памяти, но в одном он безусловно уверен: что никогда не забудет своей Брунгильды. Прощаясь, он отдает ей кольцо, страшную силу которого она не признает и видит в нем только залог верности Зигфрида. В отплату за кольцо Брунгильда дарит своему возлюбленному коня, который пребывал в долгом сне вместе с нею. Прежде всего, Зигфрид отправляется на берега Рейна, в царство Гибиха, где на престоле восседает сын Гибиха – Гунтер. При Гунтере находится брат его Гаген, родившийся от общей их матери Гримгильды, когда-то соблазнившейся золотыми сокровищами Альбериха и сделавшейся жертвой его сладострастия. Гаген воспитан Альберихом. и на нем покоятся все надежды царя нибелунгов, Вотан же полагает, что спасителем его и богов может быть только Зигфрид. Гаген, получивший от отца дар волшебства, силен, могуч, умен, мрачен и суров. Он положил себе задачей отнять кольцо у Зигфрида; для этого нужно, чтобы супруг Брунгильды изменил своей возлюбленной. Гутруна, сестра Гунтера, прослышав про подвиг Зигфрида, влюбилась в него, еще не видав его. По совету Гагена, она дает предмету своей страсти выпить волшебного напитка, изготовленного Гагеном. Зигфрид пьет и тотчас же забывает Брунгильду. Он хочет соединиться супружескими узами с Гутруной. Гунтер отдает ее ему, но с условием, чтобы Зигфрид помог ему овладеть Брунгильдой. При этом имени никаких воспоминаний не пробуждается в Зигфриде, и он соглашается на все условия. Он заключает с Гунтером союз кровавого братства и отправляется вместе с ним к Валькириевой горе. Гаген отстранился от клятвы братского союза и остается на берегу Рейна. Освещенная заходящим солнцем, сидит Брунгильда, с любовью взирая на кольцо, оставленное ей возлюбленным. Туда является к ней одна из валькирий и умоляет ее, от имени Вотана, отдать кольцо дочерям Рейна, чтоб освободить от проклятья богов и мир. Брунгильда, ослепленная любовью и забывшая все, что знала прежде, отказывается расстаться с залогом любви Зигфрида. Валькирия уходит и вслед за нею к Брунгильде является Зигфрид, через волшебную силу шлема принявший внешний вид Гунтера. Брунгильда, которая теперь уже не валькирия, а простая, беззащитная женщина, не имеет силы противиться смельчаку, который отнимает от нее заветное кольцо. Зигфрид разделяет ложе с Брунгильдой, но кладет между ею и собою меч свой, чтобы соблюсти клятву братского союза. Сцена переносится на берега Рейна.
Гаген, с щитом в руке, вооруженный копьем, сидит, погруженный в дремоту. Перед ним является Альберих и требует чтобы сын поклялся добыть для него кольцо нибелунгов. Гаген клянется, что добудет его для себя. Альберих исчезает. Начинает светать. Приходит Зигфрид. Отнявши кольцо у Брунгильды. он перенес ее на корабль, незаметно отдал свое место на ложе рядом с Брунгильдой настоящему Гунтеру, а сам, приняв свой прежний вид, силою волшебного шлема перенесся к Рейну. Вместе с Гагеном и Гутруной он приготовляет прием для царственной четы и распоряжается празднествами по случаю двойного свадебного торжества. Корабль приближается. Гунтер ведет супругу в чертоги свои при радостных кликах его вассалов и ратников. В то же время выходит и Зигфрид с своей невестой. Брунгильда при этом виде поражена ужасом и смущением; она замечает, что Зигфрид не узнает ее. Зигфрид указывает ей на Гунтера, как на ее настоящего супруга и защитника. Она замечает кольцо на руке Зигфрида и недоумевает, каким образом от Гунтера, отнявшего его, оно попало к Зигфриду. Смущенный Гунтер молчит. Тут Зигфрид вспоминает о борьбе своей с драконом. Гаген выступает и, обращаясь к Брунгильде, говорит: “Брунгильда, узнаешь ли ты перстень? Если он тот, который ты отдала Гунтеру, то Зигфрид получил его обманом и должен за него ответить!” Брунгильда приходит в злобную ярость; она хочет нещадно мстить Зигфриду, которого считает обманщиком, так как не с Гунтером, а с ним связана супружескими узами. Зигфрид, все еще находящийся под действием волшебного напитка, отрицает это, говоря, что их разделял на ложе Брунгильды меч его. Брунгильда не понимает его. Зигфрид, совершенно равнодушный к упрекам Брунгильды, нежно обнимает свою Гутруну и шествует к брачному алтарю; все следуют за ним. Брунгильда, Гунтер и Гаген остаются. Последний предлагает убить Зигфрида. Брунгильда, алчущая страшной мести, сожалеет теперь, что силою волшебства она заколдовала тело Зигфрида от ран. Только спину его не защитила она от ударов оружием, так как бесстрашный Зигфрид бежать от врага не может. Из этого невольного признания Гаген с радостью узнает, что Зигфрид не неуязвим. Гунтер отказывается нарушить клятву кровавого братства. Гаген сулит ему обладание кольцом ценою смерти Зигфрида. Гунтер склоняется на его увещания. Решено убить Зигфрида на другой день на охоте.
На другой день на охоте, Зигфрид, гоняясь тщетно за серной, достигает скалистого берега Рейна. К нему выплывают три дочери Рейна и обещают хорошую добычу, если он отдаст им перстень. Зигфрид не соглашается. Дочери Рейна предрекают ему смерть, если он не расстанется с кольцом своим; но и это не действует на юношу, не знакомого со страхом. Скоро охотники находят Зигфрида и собираются утолить голод и жажду пиршеством. Он сообщает им о предсказании, сделанном дочерями Рейна, которых называет водяными птичками. Гаген спрашивает Зигфрида, правда ли, что ему понятен язык птиц? Зигфрид вспоминает про вещунью-пташку, сослужившую ему в лесу дракона такую усердную службу. При этом он рассказывает товарищам о Миме, Фафнере и борьбе с ним. Гаген незаметно вливает в кубок Зигфрида сок травы, имеющей свойство восстановлять память о забытом. Зигфрид пьет и продолжает свой рассказ, вспомнив гору Валькирий, окруженную пламенем. Брунгильду и наслаждения любви, испытанные возле нее. Гунтер удивлен и смущен: неужели его возлюбленная была уже в супружеской связи с Зигфридом? Два ворона пролетают над головой рассказчика. “Знаешь ли ты, что предвещают эти вороны?” –спрашивает Гаген. Зигфрид быстро оборачивается; удар копья Гагена поражает его в спину. Гунтер, понявший теперь, что Зигфрид не нарушил клятвы, бросается в его объятия – но уже поздно; герой, тщетно попытавшись поразить врага своего Гагена, падает обессиленный. Умирая, он вспоминает с любовью о Брунгильде. Ратники Гунтера уносят тело героя. Наступила ночь; в волнах Рейна отражается блеск луны. Гутруна плачет над телом убитого: Гаген и Гунтер спорят об обладании кольцом, и последний падает смертельно сраженный братом. Гаген хочет снять перстень с руки Зигфрида, но рука эта грозно подымается над приведенным в ужас Гагеном. Приходит Брунгильда. Она поняла теперь свою ошибку и знает, что Зигфрид изменил ей невольно. Предаваясь горю, Брунгильда хочет воздать великую честь своему возлюбленному: один громадный костер должен испепелить тело Зигфрида и ее, верную, любящую его супругу. Кольцо же должно возвратиться к его первым обладателям, предварительно очистившись в том огне, который сожжет ее и Зигфрида. Брунгильда снимает кольцо с руки убитого, надевает его на свой палец, зажигает костер и на своем валькириевом коне вскакивает на вершину уже горящей кучи дерева. Внезапно костер потухает, залитый волнами взбушевавшегося Рейна. Являются дочери Рейна. Гаген хочет защитить от них кольцо, но две из них схватывают его и уносят в глубину. Третья берет кольцо. На небе занимается багровая заря исполинского пожара: это отражение пламени, которое пожирает чертоги богов – Валгаллу, со всем ее великолепием.
Так кончается тетралогия о “Перстне Нибелунгов”.
Байрейтское музыкальное торжество. Часть IV. (Пребывание в Байрейте)
Байрейт, небольшой баварский городок, лежащий в долине Красного Майна, окруженный со всех сторон живописными, обросшими густым лесом, холмами, производит на путешественника очень приятное впечатление. Улицы его правильны и широки; площади украшены красивыми фонтанами, дома высоки и нередко обращают на себя внимание изящной архитектурой, хотя в Байрейте вовсе нет того средневекового характера, который сообщает некоторым провинциальным городам Германии, например Нюренбергу, сплошь готический стиль построек.
В конце двенадцатого столетия Байрейт принадлежал герцогам Лоранским. В 1248 г. он достался по наследству Фридриху, маркграфу Нюренбергскому. В 1603 г. Христиан Бран-денбургский сделал его своей резиденцией и потратил значительные суммы на украшение и возвеличение своего города. В 1769 г. фамилия маркграфа угасла, и Байрейт был присоединен к Пруссии. В 1806 г. он был завоеван французами и отдан Наполеоном Баварии.
В Байрейте находятся два замка: старый и новый. Новый замок окружен красивым парком. Несколько бронзовых статуй украшают площади маленького городка. В числе их есть памятник писателю Жан-Полю-Рихтеру (1763— 1825). Наиболее замечательное здание Байрейта—театр, построенный в 1743 г. Внутренность его замечательна. Она — в стиле Возрождения и обильно изукрашена золотом.
К востоку от Байрейта, на расстоянии часа ходьбы, находится замок Эрмитаж, построенный в середине прошедшего столетия и стоивший его владетелям, маркграфам Вильгельму и Фридриху, три миллиона флоринов. Здесь живал неоднократно Фридрих Великий, а сестра его маркграфиня Вильгельмина здесь же написала свои знаменитые мемуары. Другой загородный замок, Фантазия, благодаря своему огромному и необычайно живописному парку, тоже обращает на себя внимание туристов.
В настоящее время вагнеровский театр, построенный на довольно высоком холме, вне пределов города, обращает на себя исключительное внимание съехавшихся сюда иностранцев. История возникновения этого громадного здания, имеющего 48 метров высоты и вмещающего в себе свободно около двух тысяч зрителей, была уже изложена мной в первой статье о “Перстне Нибелунгов”. Он построен по плану архитектора Брюквальдай, надо сознаться, обращает на себя внимание зрителя не изяществом форм, а исключительно своими колоссальными размерами. Это скорее огромный балаган, как будто наскоро выстроенный для какой-нибудь выставки промышленности, чем здание, долженствующее вместить в себе массу людей, пришедших со всех концов мира искать художественных наслаждений. В том гармоническом сочетании всех искусств, к которому стремится Вагнер, архитектуре отведено слишком скромное место. Не будучи знатоком зодчества, позволю себе, однакож, заметить, что можно было бы, удовлетворив практическим требованиям вагнеровского замысла, обратить также некоторое внимание и на художественные условия. Нововведения, придуманные Вагнером, полагаю, нисколько не могли заставить архитектора Брюквальда пожертвовать красотой здания в пользу его удобства и целесообразности.
Места для сидения устроены в подражание древним амфитеатрам; ряды идут один за другим, постепенно возвышаясь до самой вершины, на которой устроена галерея для царствующих особ. Лож в театре нет. Выше царской галереи еще находятся даровые места для байрейтских жителей, оказавших даровые услуги громадному предприятию. Оркестр, как я говорил уже. невидим: он помещается в углублении между сценой и амфитеатром. Машины находятся в ведении придворного театрального машиниста из Дармштадта, Брандта, знаменитого знатока своего дела. Декорации написаны братьями Бргокнер из Кобурга, по рисункам венского художника Гофмана. Превосходное газовое освещение устроено фирмою Штаудт из Франкфурта. Костюмы исполнены берлинским профессором Деплером, которого в Германии считают гениальным по этой части художником.
Другая первостепенная замечательность Байрейта есть дом Вагнера, построенный в 1874 г. Он стоит среди разрастающегося сада, имеет квадратную форму и украшен по фасаду следующею надписью:
Hier, wo mein Woehnen Frieden fand, Wahnfried Sei dieses Haus von mir benannt. [Здесь, где мечты мои нашли покой, “Покой мечты” я назову тебя, мой дом”].
Над этою надписью красуется фреска, исполненная художником Крауссе из Дрездена. Она изображает Вотана в виде странника (как в Зигфриде) с его двумя воронами, как бы рассказывающего свою таинственную историю двум соседним фигурам. Одна из них греческая трагедия, другая — музыка, а под этой последней изображен стремящийся к ней юноша Зигфрид, воплощающий в себе искусство будущности.
Дом выстроен по указаниям самого Рихарда Вагнера, архитектором Вельфлем. В подвальном этаже находятся помещение для прислуг, кухня и печи. Выше помещаются приемные покои, столовая и высокая зала, освещаемая сверху. В верхнем этаже находятся жилые покои. Кабинет Вагнера устроен, как, впрочем, и весь остальной дом, с необычайной роскошью. Перед домом поставлена статуя короля Людвига Баварского.
Я приехал в Байрейт 12 августа, накануне первого представления первой части тетралогии. Город представлял необычайно оживленное зрелище. И туземцы, и иностранцы, стекшиеся сюда в буквальном смысле со всех концов мира, спешили к станции железной дороги, чтобы присутствовать при встрече императора Вильгельма. Мне пришлось смотреть на эту встречу из окна соседнего дома. Перед моими глазами промелькнуло несколько блестящих мундиров, потом процессия музыкантов вагнеровского театра со своим диригентом Гансом Рихтером во главе, потом стройная, и высокая фигура аббата Листа с прекрасной типической седой головой его, столько раз пленявшей меня на его везде распространенных портретах, потом в щегольской коляске сидящий, бодрый, маленький старичок, с орлиным носиком и тонкими насмешливыми губами, составляющими характеристическую черту виновника всего этого космополитически художественного торжества, Рихарда Вагнера. [...] Какой подавляющий напор горделивых чувств наступившего наконец торжества над всеми препятствиями испытывал, должно быть, этот маленький человек, добившийся силою воли и таланта воплощения своих смелых идеалов!..
Я отправился бродить по маленькому городу. Все улицы переполнены суетливой толпой, чего-то ищущих с беспокойным выражением лиц посетителей Байрейта. Через полчаса эта черта озабоченности на всех лицах объяснилась для меня очень просто и без всякого сомнения появилась на моей собственной физиономии. Все эти торопливо снующие по улицам города люди хлопочут об удовлетворении сильнейшей из всех потребностей всего на земле живущего, потребности, которую даже жажда художественного наслаждения заглушить не может, — они ищут пищи. Маленький городок потеснился и дал приют всем приехавшим, но накормить их он не может. Таким образом, я в первый же день приезда по опыту узнал, что такое борьба из-за куска хлеба.
Отелей в Байрейте немного; большинство приезжих поместилось в частных квартирах. Имеющиеся в отелях табльдоты никак не могут вместить в себя всех голодающих. Каждый кусок хлеба, каждая кружка пива добывается с боя, ценою невероятных усилий, хитростей и самого железного терпения. Да и добившись места за табльдотом, нескоро дождешься, чтобы до тебя дошло не вполне разоренным желанное блюдо. За столом безраздельно царит самый хаотический беспорядок. Все кричат разом. Утомленные кельнеры не обращают ни малейшего внимания на ваши законные требования. Получение того или другого из кушаний есть дело чистой случайности. Существует при театре громадный балаганный ресторан, обещающий хороший обед в два часа для всех желающих, но попасть туда и достать что-нибудь в этом омуте голодающего человечества есть дело высочайшего героизма и необузданной смелости. Я нарочно так много распространяюсь об этом обстоятельстве” чтоб указать читателям на наиболее выдающуюся черту байрейтского общества меломанов. В течение всего времени, которое заняла первая серия представлений вагнеровской тетралогии, еда составляла первенствующий общий интерес, значительно заслонивший собой интерес художественный. О бифштексах, котлетах и жареном картофеле говорили гораздо больше, чем о музыке Вагнера.
Я сказал уже, что в Байрейт съехались представители всех цивилизованных национальностей. Действительно, в первый же день моего приезда я имел возможность увидеть целую массу известных представителей музыкального мира Европы и Америки. Впрочем, нужно оговориться. Самые веские музыкальные авторитеты, первостепенные знаменитости, блистают полнейшим отсутствием. Верди, Гуно, Тома, Брамс, Антон Рубинштейн, Рафф, Иоахим, Бюлов — в Байрейт не приехали. Из очень знаменитых виртуозов, не говоря о Листе, который находится с Вагнером в отношениях ближайшего родства и долголетней дружбы, можно указать только на нашего Н. Г. Рубинштейна. Кроме него, из русских музыкантов я видел здесь гг.: Кюи, Лароша, Фаминцына, а также профессоров нашей консерватории: г. Клиндворта, как известно, сделавшего фортепианное переложение всех четырех опер, составляющих тетралогию Вагнера, и г-жу Вальзек, преподавательницу пения, хорошо Москве известную.
Представление “Рейнгольда” [“Золота Рейна”] состоялось” согласно объявлению, в воскресенье, 1-го августа, в 7 ч. вечера. Оно продолжалось без перерыва два с половиною часа. Следующие три оперы: “Валькирия”, “Зигфрид” и “Гибель богов” — шли с получасовыми перерывами и занимали время от 4 до 10 часов. По болезни певца Беца, “Зигфрид” вместо вторника шел в среду, и таким образом вместо четырех дней первая серия заняла пять. Начиная с трех часов, пестрая толпа приехавших в Байрейт артистов и любителей предпринимала свое движение по направлению к театру, который, как я сказал выше, находится в значительном отдалении от города. Это была едва ли не самая тяжелая минута дня, даже и для тех немногих, которым удавалось пообедать. Дорога не защищена от лучей палящего солнца, да вдобавок идет в гору. В ожидании начала представления толпа ищет тени или добивается кружки пива в одном из двух ресторанов. Тут возобновляются старые и делаются новые знакомства; со всех сторон слышатся жалобы на неудовлетворенный голод, идут разговоры о предстоящем или состоявшемся накануне представлении.
Ровно в четыре часа раздается громкая фанфара. Вся толпа устремляется в театр. Через пять минут все уже заняли свои места. Снова слышится фанфара, говор и шум умолкают, газовые лампы, освещающие залу, внезапно тухнут, весь театр погружается в глубокий мрак, из глубины сидящего в яме оркестра раздаются красивые звуки прелюдия, занавес раздвигается и начинается представление. Каждое действие длится полтора часа. Затем следует первый антракт, довольно мучительный, так как, выйдя из театра, очень трудно найти местечко в тени: солнце еще высоко на небе. Второй антракт, напротив, составляет одну из лучших минут дня. Солнце уже спустилось к горизонту; в воздухе начинает чувствоваться вечерняя свежесть, кругом лесистые холмы и вдали хорошенький городок представляют отдохновительное зрелище. В 10-м часу представление кончается, и тут начинается самая упорная борьба из-за существования, т. е. из-за места за ужином в театральном ресторане. Потерпевшие неудачу стремятся в город, но там разочарование еще ужаснее. В отелях все места заняты. Слава богу, если найдешь кусок холодного мяса и бутылку вина или пива.
Я видел в Байрейте одну даму, супругу одного из самых высокопоставленных лиц в России, которая во все свое пребывание в Байрейте ни разу не обедала. Кофе был ее единственным пропитанием.
Байрейтское музыкальное торжество. Часть V
Теперь читатель, нашедший, может быть, что я слишком много говорил о Байрейте и байрейтском быте, ждет, чтоб я обратился, наконец, к самому существенному предмету, т. е. к оценке художественных достоинств вагнеровского творения и к изложению испытанных мною здесь музыкальных наслаждений. Если так, то я должен извиниться перед читателем и обещать ему подробный анализ “Перстня Нибелунгов” в довольно отдаленном будущем. Познакомившись довольно поверхностно с этим объемистым произведением в течение минувшей зимы, я, в наивности души своей, полагал, что достаточно будет прослушать его в настоящем исполнении один раз, дабы достаточно с ним освоиться и получить о нем прочное понятие. Я глубока ошибся. Тетралогия Вагнера произведение столь колоссальное по своим гигантским размерам, столь сложное по фактуре, столь тонко и глубоко обдуманное, обработанное, что на его изучение нужно много времени, а главное, нужно бы прослушать его несколько раз. Известно, что только через многократное прослушание уясняются качества и недостатки изучаемого музыкального произведения. Очень часто то, на что в первый раз не было обращено достаточного внимания, при вторичном исполнении вдруг поразит и неожиданно очарует вас. Наоборот, какой-нибудь эпизод, сначала прельстивший вас и найденный вами наиболее удачным, при дальнейшем изучении бледнеет перед вновь открытыми красотами. Но и этого мало; достаточно познакомившись с новою музыкой через неоднократное слышание, нужно дать улежаться непосредственным впечатлениям, предаться изучению партитуры, сравнить читаемое с слышанным и потом уже попытаться формулировать основательные и прочные суждения. Постараюсь когда-нибудь все это сделать, а покамест передам читателям только несколько общих замечаний как относительно самой музыки, так и ее сценического исполнения.
Во-первых, я должен сказать, что всякий верящий в искусство, как в цивилизующую силу, всякий поклонник художественности, независимо от утилитарных ее целей, должен испытывать весьма отрадное чувство в Байрейте при виде громадного художественного предприятия, достигшего вожделенного конца и получившего по великости своих размеров и силе возбужденного интереса значение исторической эпохи. В виду громадного здания, воздвигнутого на фундаменте присущей человечеству на всех ступенях его развития потребности в художественных наслаждениях; в виду толпы людей всех слоев общества, соединившихся в маленьком уголке Европы единственно во имя одинаково дорогого для всех искусства – в виду всего этого небывалого музыкально-драматического торжества, как смешны и жалки казались те проповедники тенденциозного искусства, которые по слепоте своей считают наш век веком полнейшего упадка чистого искусства. Байрейтское торжество есть урок для тех закоснелых гонителей искусства, которые относятся к нему с высокомерным презрением, находя, что людям цивилизованным непригодно заниматься ничем иным, кроме того, что приносит непосредственную, практическую пользу. В смысле способствования материальному благоденствию человечества байрейтское торжество не имеет, конечно, никакого значения; но в смысле искания художественных идеалов ему суждено, так или иначе, иметь громадное историческое значение. Прав ли Вагнер, до последней крайности доведший служение своей идее, или он перешел за пределы равновесия эстетических условий, могущих обеспечить прочность художественного произведения, пойдет ли искусство от точки отправления Вагнера еще дальше по тому же пути, или “Перстень Нибелунгов” должен отметить собою пункт, от которого начнется реакция, – во всяком случае, в Байрейте совершилось нечто такое, о чем наши внуки и правнуки будут хорошо помнить.
Принципы, которых упорно придерживается Вагнер в музыке “Нибелунгов”, следующие. Так как опера есть не что иное, как драма, сопровождаемая музыкой, так как действующие в драме должны говорить, а не петь, то Вагнер безвозвратно изгоняет из оперы всякие округленные музыкальные формы, т. е. изгоняет арию, ансамбли и даже хоры, которые у него эпизодически и очень умеренно употреблены только в последней части тетралогии. Он изгоняет весь тот условный элемент оперы, который только оттого не казался нам оскорбительно-ложным, что рутина закрыла нам глаза. Так как в общежитии люди, в минуты нравственных аффектов, не распевают песенки, то не может быть арии; так как два человека не говорят друг с другом разом, а выслушивают один другого, то не может быть дуэта; так как толпа также не выговаривает одних и тех же слов разом, то не может быть хора, и т. д. Вагнер, быть может, слишком забывая, что правда жизненная и правда художественная суть две правды совершенно различные гонится. одним словом, за рациональностью. Чтобы примирить эти требования правды с требованиями музыкальными. Вагнер принял исключительно форму речитатива. Вся его музыка, и музыка глубоко задуманная, всегда интересная, подчас превосходная и увлекательная, подчас суховатая и неудобопонимаемая. с технической стороны изумительно богатая и снабженная небывало красивой инструментовкой – поручена оркестру. Действующие лица поют по большей части только совершенно бесцветные мелодические последования, прилаженные к симфонии, исполняемой невидимым оркестром. Отступлений от этой системы в “Нибелунговом перстне” почти не имеется, а если имеются, то на это есть достаточно основательные причины; так например, Зигфрид в первом акте в третьей части поет две песни; благодаря тому обстоятельству, что и в действительной жизни, куя меч, кузнец может петь песню, публика получила едва ли не единственные, два вполне закругленные, превосходные нумера. Каждое действующее лицо снабжено особым, ему одному принадлежащим коротеньким мотивом, который появляется каждый раз, как оно показывается на сцене или когда говорят о нем. Беспрестанное возвращение этих мотивов заставляет Вагнера, во избежание монотонности, каждый раз представлять его в новом виде, причем он обнаруживает поразительное богатство гармонической и полифонной техники. Богатство это слишком обильно; беспрестанно напрягая ваше внимание, он, наконец, утомляет его, и в конце оперы, особенно в “Гибели богов”, усталость эта доходит до того, что музыка перестает быть для вас гармоническим сочетанием звуков, - она делается каким-то утомляющим гулом. Того ли должно добиваться искусство? Если я, по профессии музыкант, чувствовал близкое к совершенному изнеможению ощущение духовной и физической усталости, то каково должно быть утомление слушателя-дилетанта? Правда, последний гораздо более занят чудесами, происходящими на сцене, чем до поту лица неустанно работающим в своей яме оркестром и выбивающимися из сил певцами; но ведь следует предположить, что Вагнер писал свою музыку для того, чтоб ее слушали, а не пропускали мимо уха, как нечто побочное, второстепенное. Вообще, что не может не заставить призадуматься, так это та музыкальная безнравственность, которую порождает “Нибелунгов перстень”, как зрелище. Музыкант ищет в этом произведении красот музыкальных; он их находит скорее в избытке, чем в надлежащей пропорции; это – музыкальная Демьянова уха, которая очень скоро порождает ощущение пресыщенности. Как бы то ни было, но музыкант судит о музыке на основании музыкального впечатления. Дилетант любуется декорациями, пожарами, превращениями, появлениями драконов и змей, плавающими девами и т. д.
Повторяю, я имел случай встретить в Байрейте многих превосходных артистов, безгранично преданных вагнеровской музыке и в искренности которых я не имею причины сомневаться. Скорее я готов допустить, что я по собственной вине не возрос еще до полного понимания этой музыки и что, предавшись прилежному изучению ее, и я примкну когда-нибудь к обширному кругу истинных ее ценителей. В настоящее время, говоря совершенно искренно. “Перстень Нибелунгов” произвел на меня подавляющее впечатление не столько своими музыкальными красотами, которые, может быть, слишком щедрою рукою в нем рассыпаны, сколько своею продолжительностью, своими исполинскими размерами.
Эта исполинская опера требует и исполинских талантов для ее исполнения. Чтобы спеть такую партию, как партия Вотана или Зигфрида, нужно в самом деле быть титаном, а так как неоткуда было набрать певцов и певиц – титанов, то никто, за исключением, может быть, венской певицы Матэрна в роли Брунгильды. не был на высоте своей задачи. Это, впрочем, относится к ролям богов и великанов. Роли карлов, не требующие такой разительной силы роли дочерей Рейна, вообще, все почти второстепенные партии были исполнены отлично; особенно хорош был Миме, и как певец, и как актер. Оркестр выше всякой похвалы, и нельзя не удивляться совершенству его исполнения, когда подумаешь о невообразимой сложности и трудности инструментовки. Хор мужчин, эпизодически появляющийся в последней опере, превосходен до того, что, несмотря на малочисленность, заглушает оркестр. Постановка, за весьма малыми исключениями, роскошна.
Итак, скажу в заключение, что в конце концов я вынес из выслушания “Перстня Нибелунгов”. Вынес я смутное воспоминание о многих поразительных красотах, особенно симфонических, что очень странно, так как менее всего Вагнер помышлял писать оперу на симфонический лад; вынес благоговейное удивление к громадному таланту автора и к его небывало богатой технике: вынес сомнение в верности вагнеровского взгляда на оперу; вынес большое утомление, но, вместе с тем, вынес и желание продолжать изучение этой сложнейшей из всех когда-либо написанных музык.
Пусть “Перстень Нибелунгов” кажется местами скучен; пусть многое в нем на первый раз неясно и непонятно; пусть гармония Вагнера подчас страдает запутанностью и изысканностью; пусть теория Вагнера ошибочна; пусть в ней немалая доля бесцельного донкихотства; пусть громадный труд его обречен на то, чтобы покоиться вечным сном в опустелом байрейтском театре, оставив по себе сказочную память о гигантском труде, сосредоточившем на себе временно внимание всего мира, - все же “Нибелунгов перстень” составит одно из знаменательнейших явлений истории искусства. Как бы ни относиться к титаническому труду Вагнера, но никто не может отрицать великости выполненной им задачи и силы духа. подвигнувшей его довести свой труд до конца и привести в исполнение один из громаднейших художественных планов, когда-либо зарождавшихся в голове человека.
После заключительного аккорда последней сцены последней оперы Вагнер был вызван публикой. Он вышел и сказал маленькую речь, которую закончил следующими словами: “Вы видели, что мы можем; теперь вам стоит захотеть, и будет искусство”.
Предоставляю читателю комментировать эти слова как ему угодно. Я скажу только, что в публике слова эти произвели недоумение. Несколько мгновений она оставалась безмолвна. Потом начались крики, но несравненно менее восторженные, чем те, которые предшествовали появлению Вагнера. Я думаю, точно так же поступили члены парижского парламента, когда Людовик XIV-й сказал им свои знаменитые слова: L'etat c'est moi (Государство это я). Сперва молча изумились великости налагаемой им на себя задачи, а потом вспомнили, что он король, и грянули. Vive le roi! (Да здравствует король!)
Вагнер и его музыка
Меня просят высказать для читателей "Морнинг Джернал" мое мнение о Вагнере. Я это сделаю со всей прямотой и откровенностью. Но должен предупредить их, что вижу в этом вопросе две стороны. Первая - Вагнер и положение, которое он занимает среди композиторов девятнадцатого столетия; и вторая - вагнеризм. Можно сразу увидать, что, восхищаясь композитором, я питаю мало симпатии к тому, что является культом вагнеровских теорий.
Как композитор, Вагнер, несомненно, одна из самых замечательных личностей во второй половине этого столетия, и его влияние на музыку огромно.
Он был одарен не только большой силой музыкального воображения, он открыл новые формы своего искусства, он нашел пути, не известные до него; он был, можно сказать, гением, стоящим в германской музыке наряду с Моцартом. Бетховеном, Шубертом и Шуманом.
Но по моему глубокому и твердому убеждению, он был гением, следовавшим по ложному пути. Вагнер был великим симфонистом, но не оперным композитором. Если бы, вместо того, чтобы посвящать свою жизнь музыкальной иллюстрации в оперной форме персонажей из германской мифологии, этот необыкновенный человек писал симфонии, то мы, возможно, обладали бы шедеврами, достойными сопоставления с бессмертными творениями Бетховена.
Все, что нас восхищает в Вагнере, принадлежит в сущности к разряду симфонической музыки. Большое и глубокое впечатление в его музыке оставляет мастерская Увертюра, в которой он рисует доктора Фауста. Вступление к “Лоэнгрину”, в котором небесные страны Грааля вдохновили его на создание нескольких прекраснейших страниц в современной музыке. “Полет валькирий”, “Похоронный марш Зигфрида”, голубые волны Рейна в “Золоте Рейна” – разве все это не симфоническая музыка по своему существу? В Трилогии и в “Парсифале” Вагнер не заботится о певцах. В этих прекрасных и величественных симфониях они играют роль инструментов” входящих в состав оркестра.
Что же сказать о вагнеризме? Какие догмы должно исповедывать, чтобы быть вагнеристом? Нужно отрицать все, что создано не Вагнером, необходимо игнорировать Моцарта, Шуберта, Шумана, Шопена; нужно проявлять нетерпимость, ограниченность вкусов, узость, экстравагантность. – Нет! Уважая высокий гений, создавший Вступление к “Лоэнгрину” и “Полет Валькирий”, преданно склоняясь перед пророком, я не исповедую религии, которую он создал”.
Фридрих Ницше. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм.
История создания произведения такова: вначале, с 1869 по 1871 год, была написана вторая часть книги "Рождение трагедии из духа музыки", опубликованная в январе 1872 года. Это была первая, весьма наукообразная и философичная, проба пера Фридриха Ницше, и она имеет мало общего с его более поздними шедеврами, такими как "Весёлая наука", "Так говорил Заратустра" и "Антихрист". Через 15 лет духовных и стилистических поисков, после всех перипетий "дружбы-вражды" с Рихардом Вагнером, старая работа показалась самому Ницше "невозможной". В 1886 году, готовя новое издание, он предварил его разделом «Опыт самокритики» и дал книге новое название: «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм». Вторая часть с обращением к Вагнеру осталась при этом без изменений.
Издание: Фридрих Ницше, сочинения в 2-х томах, том 1, издательство «Мысль», Москва 1990.
Перевод Г. А. Рачинского.
Фридрих Ницше. Опыт самокритики.
1
Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да ещё и глубоко личный вопрос; ручательством тому — время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870-1871 годов. В то время как громы сражения при Вёрте проносились над Европой, мечтатель-мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альпийском уголке, весь погружённый в свои мысли-мечты и загадки, а следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, и записывал свои мысли о греках — зерно той странной и малодоступной книги, которой посвящено это запоздалое предисловие (или послесловие). Прошло несколько недель, как сам он уже был под стенами Меца, всё ещё не отделавшись от тех вопросительных знаков, которые он поставил к мнимой «жизнерадостности» греков и греческого искусства, пока наконец в том исполненном глубокой напряжённости месяце, когда в Версале шли переговоры о мире, он и сам не нашёл в себе примирения и, выздоравливая от полученной на поле сражения болезни, не установил для себя окончательно «Рождение трагедии из духа музыки». — Из музыки? Музыка и трагедия? Греки и трагическая музыка? Греки и художественное творение пессимизма? Самая удачная, самая прекрасная, самая завидная, более всех соблазнявшая к жизни порода людей, из всех бывших до сего времени, греки — как? они-то и нуждались в трагедии? Более того — в искусстве? Чему служило греческое искусство?..
Можно догадаться, на каком месте был тем самым поставлен великий вопросительный знак о ценности существования. Есть ли пессимизм безусловно признак падения, упадка, жизненной неудачи, утомлённых и ослабевших инстинктов — каковым он был у индийцев, каковым он, по всей видимости, является у нас, «современных» людей и европейцев? Существует ли и пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасающему, злому, загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим через край здоровьем, полнотою существования? Нет ли страдания и от чрезмерной полноты? Испытующее мужество острейшего взгляда, жаждущего ужасного, как врага, достойного врага, на котором оно может испытать свою силу? На котором оно хочет поучиться, что такое «страх»? Какое значение имеет именно у греков лучшего, сильнейшего, храбрейшего времени трагический миф? И чудовищный феномен дионисического начала? И то, что из него родилось, — трагедия? — А затем: то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство и радостность теоретического человека — как? не мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания, анархически распадающихся инстинктов? И «греческая весёлость» позднейшего эллинизма — лишь вечерней зарёю? Эпикурова воля, направленная против пессимизма, — лишь предосторожностью страдающего? А сама наука, наша наука, — что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? К чему, хуже того, откуда — всякая наука? Не есть ли научность только страх и увёртка от пессимизма? Тонкая самооборона против — истины? И, говоря морально, нечто вроде трусости и лживости? Говоря неморально, хитрость? О Сократ, Сократ, не в этом ли, пожалуй, и была твоя тайна? О таинственный ироник, может быть, в этом и была твоя — ирония?
2
То, что мне тогда пришлось схватить, нечто страшное и опасное, — проблема рогатая, не то чтобы непременно бык, но во всяком случае новая проблема; теперь бы я сказал, что это была проблема самой науки — наука, впервые понятая как проблема, как нечто достойное вопроса. Но книга, в которой я тогда дал волю моей юношеской смелости и подозрительности, — что за невозможная книга должна была вырасти тогда из столь не подходящей для юности задачи! Построенная из одних преждевременных, зелёных переживаний, которые все стояли на границе того, что может быть передано словами, поставленная на почву искусства — ибо проблема науки не может быть познана на почве науки, — быть может, книга для художников, обладающих попутно аналитическими и ретроспективными способностями (т. е. для исключительного сорта художников, которых надо поискать, да и искать-то не хочется...), полная психологических нововведений и артистических секретов, с артистической метафизикой на заднем плане, юношеское произведение, полное юношеской смелости и юношеской тоски, независимое, упрямо самостоятельное, даже там, где оно, по-видимому, подчиняется какому-либо авторитету и собственному благоговению, — короче, первый плод, также и во всяком дурном смысле этого слова, страдающий всеми ошибками молодости, несмотря на выставленную им старческую проблему, прежде всего её «длиннотами», её «бурей и натиском»; с другой стороны, в смысле успеха, который ему выпал на долю (в особенности у того великого художника, к которому он обращался, как бы вызывая на диалог, — у Рихарда Вагнера), — оправдавшая себя книга, я хочу сказать, такая, которая во всяком случае удовлетворила «лучших своего времени». Уже по одному этому к ней следовало бы отнестись с некоторой оглядкой и молчаливостью; тем не менее я не хочу вполне скрыть, насколько она теперь кажется мне неприятной и сколь чуждой она теперь, по прошествии шестнадцати лет, стоит передо мной — перед моим возмужалым, в сто раз более избалованным, но нисколько не охладевшим взглядом, которому не стала более чуждой и та задача, к решению которой впервые приступила эта дерзкая книга, — взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же — под углом зрения жизни...
3
Опять скажу, в настоящую минуту это для меня невозможная книга — я нахожу её дурно написанной, неуклюжей, тягостной, неистовой и запутанной в своей картинности, чувствительной, кое-где пересахаренной до женственности, неровной в темпе, без стремления к логической опрятности, чрезвычайно убеждённой и поэтому не считающей нужным давать доказательства, подозрительной даже по отношению к пристойности доказывания в качестве книги для посвящённых, «музыки» для сих последних, крещённых знамением музыки, соединённых от основания вещей для совместных и редких переживаний в искусстве, — знака, по которому узнают друг друга родные по крови in artibus, — высокомерная и мечтательная книга, замыкающаяся с самого начала ещё более от profanum vulgus «образованных», чем от «народа», но которая, как то доказал и доказывает её успех, знает достаточный толк и в том, как найти себе сомечтателей и заманить их на новые тропинки и места для плясок. Здесь во всяком случае говорил — это признавали и с любопытством, и с некоторым нерасположением — чуждый голос, ученик ещё «неведомого бога», который пока что прятался под капюшоном учёного, под тяжеловесностью и диалектической неохотливостью немца и даже под дурными манерами вагнерианца; тут был налицо дух с чуждыми, ещё не получившими имени потребностями, память, битком набитая вопросами, опытами, скрытностями, к которым приписано было имя Диониса, как лишний вопросительный знак; здесь вела речь — так с подозрительностью говорили себе — какая-то мистическая и чуть ли не менадическая душа, которая с напряжением и произвольно, как бы в нерешимости — открыться ли ей или скрыть себя, лепетала на чужом языке. Ей бы следовало петь, этой «новой душе», — а не говорить! Как жаль, что то, что я имел тогда сказать, я не решился сказать как поэт: я бы, пожалуй, это смог! Или по крайней мере как филолог: ведь и по сей день в этой области для филолога почти всё предстоит ещё открыть и вырыть! Прежде всего ту проблему, что здесь налицо проблема, — и что греки, пока у нас нет никакого ответа на вопрос «что такое дионисическое начало?», остаются для нас, как и прежде, совершенно непонятными и недоступными представлению...
4
Да, что такое дионисическое начало? В обсуждаемой книге можно прочесть ответ на это, — здесь говорит «знающий», посвящённый и ученик своего бога. Быть может, теперь я стал бы говорить осторожнее и менее красноречиво о таком трудном психологическом вопросе, каковой представляет происхождение трагедии у греков. Одним из коренных является вопрос об отношении греков к боли, о степени их чувствительности — оставалось ли это отношение всегда себе равным, или оно перекинулось в обратное? Тут вопрос в том, действительно ли их всё усиливавшееся стремление к красоте, к празднествам, увеселениям, новым культам — выросло из недостатка, лишения, из меланхолии, из чувства боли? Ибо, предположив, что это именно так — а Перикл (или Фукидид) даёт нам это понять в великой надгробной речи, — в чём могло бы в таком случае иметь свои корни противоположное стремление, по времени проявившееся раньше, — стремление к безобразному, добрая строгая воля старейших эллинов к пессимизму, к трагическому мифу, к образу всего страшного, злого, загадочного, уничтожающего, рокового в глубинах существования, — в чём могла бы иметь свои корни трагедия? Быть может, в удовольствии, в силе, в бьющем через край здоровье, в преизбытке полноты? И какое значение имеет в этом случае, ставя вопрос физиологически, то исступление, из которого выросло как трагическое, так и комическое искусство, — дионисическое исступление? А что, если исступление не есть необходимый симптом вырождения, падения, перезревшей культуры? Быть может, существуют — вопрос для психиатров — неврозы здоровья? Неврозы народной молодости и моложавости? На что указывает этот синтез бога и козла в сатире? На основании какого личного переживания, по какому внутреннему порыву грек должен был прийти к представлению о дионисически-исступлённом и первобытном человеке как о сатире? И что касается происхождения трагического хора, не было ли в те века, когда греческое тело цвело, когда греческая душа через край била жизнью, каких-либо эндемических восторгов? Видений и галлюцинаций, сообщавшихся целым общинам, целым культурным собраниям? А что, если греки, именно в богатстве своей юности, обладали волей к трагическому и были пессимистами? Что, если именно безумие, употребляя слово Платона, принесло Элладе наибольшие благословения? И что, если, с другой стороны и наоборот, греки именно во времена их распада и слабости становились всё оптимистичнее, поверхностнее, всё более заражались актёрством, а также всё пламеннее стремились к логике и логизированию мира, т. е. были в одно и то же время и «радостнее» и «научнее»? А что, если назло всем «современным идеям» и предрассудкам демократического вкуса победа оптимизма, выступившее вперёд господство разумности, практический и теоретический утилитаризм, да и сама демократия, современная ему, — представляют, пожалуй, только симптом никнущей силы, приближающейся старости, физиологического утомления? И именно не-пессимизм? Не был ли Эпикур оптимистом — именно в качестве страдающего? — — Как видите, тут целая связка трудных вопросов, которую взвалила на себя эта книга, прибавим к ней ещё труднейший из затронутых в книге вопросов: что означает рассмотренная в оптике жизни мораль?..
5
Уже в предисловии, обращённом к Рихарду Вагнеру, метафизической деятельностью человека по существу выставляется искусство, а не мораль; в самой книге неоднократно повторяется язвительное положение, что существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен. Действительно, вся книга признаёт только художественный смысл, явный или скрытый, за всеми процессами бытия — «Бога», если вам угодно, но, конечно, только совершенно беззаботного и неморального Бога-художника, который как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощутить свою радость и своё самовластие, который, создавая миры, освобождается от гнёта полноты и переполненности, от муки сдавленных в нём противоречий. Мир, в каждый миг своего существования достигнутое спасение Бога, как вечно сменяющееся, вечно новое видение, предносящееся преисполненному страданий, противоположностей, противоречий, который способен найти своё спасение лишь в иллюзии; вся эта артистическая метафизика может показаться произвольной, беспочвенной, фантастической — существенно в ней то, что здесь выдаёт себя дух, который когда-нибудь да решится, пренебрегая всеми опасностями, восстать против морального истолкования и морального значения существования. Здесь заявляет о себе, быть может в первый раз, пессимизм «по ту сторону добра и зла», здесь получает своё выражение и формулу та «извращённость духовного строя», против которой Шопенгауэр заблаговременно и неустанно метал свои самые гневные проклятия и громовые стрелы, — философия, осмелившаяся перенести самоё мораль в мир явлений, низвести её этим и поставить на одну доску не только с «явлениями» (в смысле идеалистического terminus technicus), но даже с «обманами», как иллюзию, мечту, заблуждение, истолкование, приспособление, искусство. По-видимому, вся глубина этой антиморальной склонности лучше всего может быть измерена, если обратить внимание на осторожное и враждебное молчание, которым на протяжении всей книги обойдено христианство, это самое необузданное проведение моральной темы в различных фигурациях, какое только дано было до сих пор услышать человечеству. Да и в самом деле, трудно найти чисто эстетическому истолкованию и оправданию мира, как оно проповедуется в этой книге, более разительную антитезу, чем христианское учение, которое и есть, и хочет быть лишь моральным, и своими абсолютными мерками, хотя бы, например, уже своей правдивостью Бога, отталкивает искусство, всякое искусство в область лжи, — т. е. отрицает, проклинает, осуждает его. За подобными образом мысли и способом оценки, которые по необходимости враждебны искусству, раз они хоть сколько-нибудь подлинны, — я искони ощущал и враждебность к жизни, свирепое мстительное отвращение к ней: ибо всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективы и заблуждения. Христианство с самого начала, по существу и в основе, было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которое только маскировалось, только пряталось, только наряжалось верою в «другую» и «лучшую» жизнь. Ненависть к «миру», проклятие аффектов, страх перед красотой и чувственностью, потусторонний мир, изобретённый лишь для того, чтобы лучше оклеветать этот, на деле же стремление к ничто, к концу, к успокоению, к «субботе суббот» — всё это всегда казалось мне, вместе с безусловной волей христианства признавать лишь моральные ценности, самой опасной и жуткой из всех возможных форм «воли к гибели» или, по крайней мере, признаком глубочайшей болезни, усталости, угрюмости, истощения, оскудения жизни, — ибо перед моралью (в особенности христианской, т. е. безусловной, моралью) жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться неправой, так как жизнь по своей сущности есть нечто неморальное; она должна, наконец, раздавленная тяжестью презрения и вечного «нет», ощущаться как нечто недостойное желания, недостойное само по себе. И сама мораль — что, если она есть «воля к отрицанию жизни», скрытый инстинкт уничтожения, принцип упадка, унижения, клеветы, начало конца? И следовательно, опасность опасностей?.. Итак, против морали обратился тогда, с этой сомнительной книгой, мой инстинкт, как заступнический инстинкт жизни, и изобрёл себе в корне противоположное учение и противоположную оценку жизни, чисто артистическую, антихристианскую. Как было назвать её? Как филолог и человек слов, я окрестил её — не без некоторой вольности, ибо кто может знать действительное имя Антихриста? — именем одного из греческих богов: я назвал её дионисической. —
6
Понятно ли теперь, какую задачу я осмелился затронуть этой книгой?.. Как жалею я теперь, что не имел ещё тогда достаточного мужества (или нескромности?), чтобы позволить себе во всех случаях для столь личных воззрений и дерзаний и свой личный язык, — что я кропотливо старался выразить шопенгауэровскими и кантовскими формулами чуждые и новые оценки, которые по самой основе своей шли вразрез с духом Канта и Шопенгауэра, не менее чем с их вкусом! Ведь как мыслил Шопенгауэр о трагедии? «То, что даёт всему трагическому его своеобразный взмах и подъём, — говорит он в «Мире, как воля и представление» II 495, — это начало осознания, что мир и жизнь не могут дать истинного удовлетворения, а посему и не стоят нашей привязанности: в этом состоит трагический дух, — он ведёт посему к отречению». О, со сколь иной речью обращался ко мне Дионис! О, как далёк был от меня именно в то время весь этот дух отречения! — Но есть ещё нечто значительно худшее в книге, о чём я теперь ещё более жалею, чем о том, что затемнил и испортил дионисические чаяния шопенгауэровскими формулами: то именно, что я вообще испортил себе грандиозную греческую проблему, как она тогда возникла передо мною, примесью современнейших вещей! Что я возлагал надежды там, где решительно не на что было надеяться, где всё более чем ясно указывало на приближающийся конец! Что я, на основании немецкой последней музыки, начал строить басни о «немецкой сущности», словно бы она именно теперь готова открыть самое себя и вновь себя найти, — и это в то самое время, когда немецкий дух, незадолго перед тем ещё имевший волю к господству над Европой, силу руководить Европой, — только что безусловно и окончательно сложил с себя владычество и, под помпезным предлогом основания империи, совершил свой переход к посредственности, к демократии и к «современным идеям»! Действительно, за это время я научился достаточно безнадёжно и беспощадно мыслить об этой «немецкой сущности», равным образом и о современной немецкой музыке, которая — сплошь романтика и самая не-греческая из всех возможных форм искусства; кроме того, перворазрядная губительница нервов, вдвойне опасная у такого народа, который любит выпить и почитает неясность за добродетель, а именно в двойном её качестве охмеляющего и вместе с тем отуманивающего наркотика. — Однако, оставляя в стороне все скороспелые надежды и ошибочные применения к ближайшей современности, которыми я тогда испортил себе свою первую книгу, — большой дионисический вопросительный знак, как он в ней поставлен, неизменно остаётся в силе и по отношению к музыке: какова должна быть музыка, которая уже была бы не романтического происхождения, подобно немецкой, — но дионисического?..
7
— Но, милостивый государь, что же такое романтика, если Ваша книга не романтика? Можно ли довести ненависть к «настоящему», к «действительности» и к «современным идеям» до более высокой степени, чем это сделано в Вашей артистической метафизике, которая скорее поверит в «ничто», скорее признает дьявола, чем «настоящее»? Не гудит ли фундаментальный бас гнева и радости уничтожения под всем Вашим искусством контрапунктического голосоведения, прельщающим уши слушателей, — бешеная решимость против всего, что есть «теперь», — воля, которая не так уж далека от практического нигилизма и как бы говорит: «Лучше уж, чтобы не было ничего истинного, чем допустить, чтобы Вы были правы, чтобы Ваша истина оправдалась!» Раскройте-ка уши и послушайте сами, господин пессимист и боготворитель искусства, одно-единственное избранное место Вашей книги, то не лишённое красноречия место об истребителях драконов, которое так же соблазнительно должно звучать для молодых ушей и сердец, как и песня пресловутого крысолова. Это ли не настоящее и подлинное признание романтика 1830 года под личиною пессимизма 1850-го? Ведь за ним уже прелюдирует и обычный романтический финал — разрыв, крушение, возвращение и падение ниц пред старой верой, пред старым Богом... Да разве Ваша пессимистическая книга не есть сама обломок антиэллинизма и романтики, сама нечто «столь же охмеляющее, сколь и отуманивающее», наркотик во всяком случае, даже некое подобие музыки, немецкой музыки? И в самом деле послушаем:
«Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашием взора, с этим героическим стремлением к чудовищному, представим себе смелую поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с которой они поворачиваются спиной ко всем этим слабосильным доктринам оптимизма, дабы в целом и в полноте «жить с решительностью»: разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры, для самовоспитания к строгости и к ужасу, возжелал нового искусства, искусства метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежащей и предназначенной Елены, и воскликнул вместе с Фаустом:
Не должен разве я стремительною мощью
Единый вечный образ вызвать к жизни?»
«Разве не представляется необходимым?»... Нет, трижды нет, о молодые романтики, это не представляется таковым! Но весьма вероятно, что это так кончится, что вы так кончите, т. е. «утешенными», как писано есть, несмотря на всё самовоспитание к строгости и к ужасу, «метафизически утешенными», короче, как кончают романтики, христианами... Нет! Научитесь сперва искусству посюстороннего утешения, — научитесь смеяться, молодые друзья мои, если вы во что бы то ни стало хотите остаться пессимистами; быть может, вы после этого, как смеющиеся, когда-нибудь да пошлёте к чёрту всё метафизическое утешительство — и прежде всего метафизику! Или, чтобы сказать всё это языком того дионисического чудовища, которое зовут Заратустрой: «Возносите сердца ваши, братья мои, выше, всё выше! И не забывайте также и ног! Возносите также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а ещё лучше: стойте на голове!
Этот венец смеющегося, этот венец из роз: я сам возложил на себя этот венец, я сам признал священным свой смех. Никого другого не нашёл я теперь достаточно сильным для этого.
Заратустра-танцор, Заратустра лёгкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-легко-готовый: —
Заратустра, вещий словом, Заратустра, вещий смехом, не нетерпеливый, не безусловный, любящий прыжки и вперёд, и в сторону; я сам возложил на себя этот венец!
Этот венец смеющегося, этот венец из роз: вам, братья мои, кидаю я этот венец! Смех признал я священным; о высшие люди, научитесь же у меня — смеяться!»
Так говорил Заратустра, четвёртая часть
Сильс-Мария, Верхний Энгадин,
в августе 1886 года
Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.
Предисловие к Рихарду Вагнеру.
Чтобы отдалить от себя все возможные сомнения, волнения и недоразумения, к которым, при своеобразном характере нашей эстетической общественности, могут подать повод сопоставленные в этом сочинении мысли, и чтобы иметь возможность написать и эти вводные слова с тем же созерцательным блаженством, отпечаток которого, как окаменелость счастливых и возвышенных часов, лежит на каждой странице, — я вызываю перед взором моим тот миг, когда Вы, мой глубокоуважаемый друг, получите эту книгу: я вижу, как Вы, быть может после вечерней прогулки по зимнему снегу, разглядываете раскованного Прометея на заглавном листе, читаете моё имя и сразу же проникаетесь убеждением, что, каково бы ни было содержание этого сочинения, — автор его несомненно имеет сказать что-либо серьёзное и внушительное, равным образом что он при всём, что он измыслил здесь, видел Вас перед собою и обращался к Вам, а следовательно, мог написать лишь нечто соответствующее Вашему присутствию. При этом Вы припомните, что я в то же время, когда создавалось Ваше чудное юбилейное сочинение о Бетховене, т. е. среди ужасов и величия только что разгоревшейся войны, — готовился к этим мыслям. Но в ошибку впали бы те, которые усмотрели бы в этом совпадении наличность противоречия между патриотическим возбуждением и эстетическим сибаритством, между мужественной серьёзностью и весёлой игрой; напротив, при действительном прочтении этой книги им станет до изумительности ясным, с какой строго немецкой проблемой мы здесь имеем дело, поставленной нами как раз в средоточие немецких надежд, как точка апогея и поворота. Но, быть может, этим самым лицам покажется вообще неприличным столь серьёзное отношение к эстетической проблеме, раз они не в состоянии видеть в искусстве чего-либо большего, чем весёлой побочности, или, пожалуй, звона бубенчиков, сопровождающего «серьёзность существования», но, в сущности, излишнего; словно никто не знает, что уже само противопоставление искусства «серьёзности существования» — грубое недоразумение. Этим серьёзным я позволю себе сказать, что моё убеждение и взгляд на искусство, как на высшую задачу и собственно метафизическую деятельность в этой жизни, согласны с воззрением того мужа, которому я, как передовому великому бойцу на этом пути, посвящаю эту книгу.
Базель, конец 1871 года
1
Было бы большим выигрышем для эстетической науки, если бы не только путём логического уразумения, но и путём непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов, при непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении. Названия эти мы заимствуем у греков, разъясняющих тому, кто в силах уразуметь, глубокомысленные эсотерические учения свои в области воззрений на искусство не с помощью понятий, но в резко отчётливых образах мира богов. С их двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов — аполлоническим — и непластическим искусством музыки — искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко всё новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей, только по-видимому соединённых общим словом «искусство»; пока наконец чудодейственным метафизическим актом эллинской «воли» они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность и в этой двойственности не создадут наконец столь же дионисического, сколь и аполлонического произведения искусства — аттической трагедии.
Чтобы уяснить себе оба этих стремления, представим их сначала как разъединённые художественные миры сновидения и опьянения, между каковыми физиологическими явлениями подмечается противоположность, соответствующая противоположности аполлонического и дионисического начал. В сновидениях впервые предстали, по мнению Лукреция, душам людей чудные образы богов; во сне великий ваятель увидел чарующую соразмерность членов сверхчеловеческих существ; и эллинский поэт, спрошенный о тайне поэтических зачатий, также вспомнил бы о сне и дал бы поучение, сходное с тем, которое Ганс Сакс даёт в «Мейстерзингерах»:
Мой друг, поэты рождены,
Чтоб толковать свои же сны.
Всё то, чем грезим мы в мечтах,
Раскрыто перед нами в снах:
И толк искуснейших стихов
Лишь в толкованье вещих снов.
Прекрасная иллюзия видений, в создании которых каждый человек является вполне художником, есть предпосылка всех пластических искусств, а также, как мы увидим, одна из важных сторон поэзии. Мы находим наслаждение в непосредственном уразумении такого образа; все формы говорят нам: нет ничего безразличного и ненужного. Но и при всей жизненности этой действительности снов у нас всё же остаётся ещё мерцающее ощущение её иллюзорности, но крайней мере таков мой опыт, распространённость и даже нормальность которого я мог бы подтвердить рядом свидетельств и показаний поэтов. Философски настроенный человек имеет даже предчувствие, что и под этой действительностью, в которой мы живём и существуем, лежит скрытая, вторая действительность, во всём отличная, и что, следовательно, и первая есть иллюзия; а Шопенгауэр прямо считает тот дар, по которому человеку и люди, и все вещи представляются временами только фантомами и грёзами, признаком философского дарования. Но как философ относится к действительности бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов; он охотно и зорко всматривается в них: ибо по этим образам он толкует себе жизнь, на этих событиях готовится к жизни. И не одни только приятные, ласкающие образы являются ему в такой ясной простоте и понятности: всё строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, боязливые ожидания, короче, вся «божественная комедия» жизни, вместе с её Inferno, проходит перед ним, не только как игра теней — ибо он сам живёт и страдает как действующее лицо этих сцен, — но всё же не без упомянутого мимолетнего ощущения их иллюзорности; и быть может, многим, подобно мне, придёт на память, как они в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием: «Ведь это — сон! Что ж, буду грезить дальше!» Мне рассказывали также про лиц, могших продлевать один и тот же сон на три и более последовательные ночи, не нарушая его причинной связи, — факты, ясно свидетельствующие о том, что наша внутренняя сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким наслаждением и радостной необходимостью.
Эта радостная необходимость сонных видений также выражена греками в их Аполлоне; Аполлон, как бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. Он, по корню своему «блещущий», божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний в противоположность отрывочной и бессвязной действительности дня, затем глубокое сознание врачующей и вспомоществующей во сне и сновидениях природы, представляют в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной и жизнедостойной. Но и та нежная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия — ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, — и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона: как полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой бога — творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно быть «солнечно»; даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нём. И таким образом про Аполлона можно было бы сказать в эксцентрическом смысле то, что Шопенгауэр говорит про человека, объятого покрывалом Майи («Мир, как воля и представление» I 416): «Как среди бушующего моря, с рёвом вздымающего и опускающего в безбрежном своём просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье, — так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis». Про Аполлона можно было бы даже сказать, что в нём непоколебимое доверие к этому принципу и спокойная неподвижность охваченного им существа получили своё возвышеннейшее выражение, и Аполлона хотелось бы назвать великолепным божественным образом principii individuationis, в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость «иллюзии», вместе со всей её красотой.
В приведённом месте Шопенгауэр описывает нам также тот чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он внезапно усомнится в формах познавания явлений, и закон достаточного основания в одном из своих разветвлений окажется допускающим исключение. Если к этому ужасу прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда наступает такое же нарушение principii individuationis, то это даст нам понятие о сущности дионисического начала, более всего, пожалуй, нам доступного по аналогии опьянения. Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъёме коих субъективное исчезает до полного самозабвения. Ещё в немецком Средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились всё возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св. Иоанна и св. Витта мы узнаём вакхические хоры греков с их историческим прошлым в Малой Азии, восходящим до Вавилона и оргиастических сакеев. Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или с сожалением отворачиваются, в сознании собственного здоровья, от подобных явлений, считая их «народными болезнями»: бедные, они и не подозревают, какая мертвецкая бледность почиет на этом их «здоровье», как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев.
Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчуждённая, враждебная или порабощённая природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном — человеком. Добровольно предлагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери скал и пустыни. Цветами и венками усыпана колесница Диониса; под ярмом его шествуют пантера и тигр. Превратите ликующую песню «К Радости» Бетховена в картину и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидать «миллионы, трепетно склоняющиеся во прахе», то вы можете подойти к Дионису. Теперь раб — свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и «дерзкой модой». Теперь, при благой вести о гармонии миров, каждый чувствует себя не только соединённым, примирённым, сплочённым со своим ближним, но единым с ним, словно разорвано покрывало Майи и только клочья его ещё развеваются перед таинственным Первоединым. В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова и земля истекает молоком и мёдом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный; такими он видел во сне шествовавших богов. Человек уже больше не художник: он сам стал художественным произведением; художественная мощь целой природы открывается здесь, в трепете опьянения, для высшего, блаженного самоудовлетворения Первоединого. Благороднейшая глина, драгоценнейший мрамор — человек здесь лепится и вырубается, и вместе с ударами резца дионисического миротворца звучит элевсинский мистический зов: «Вы повергаетесь ниц, миллионы? Мир, чуешь ли ты своего Творца?» —
2
Мы рассматривали до сих пор аполлоническое начало и его противоположность — дионисическое как художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника-человека, и как силы, в коих художественные позывы этой природы получают ближайшим образом и прямым путём своё удовлетворение; это, с одной стороны, мир сонных грёз, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения, которая также нимало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства. Противопоставленный этим непосредственным художественным состояниям природы, каждый художник является только «подражателем», и притом либо аполлоническим художником сна, либо дионисическим художником опьянения, либо, наконец, — чему пример мы можем видеть в греческой трагедии — одновременно художником и опьянения и сна; этого последнего мы должны себе представить примерно так: в дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения.
После этих общих предпосылок и сопоставлений подойдём теперь поближе к грекам и посмотрим, в какой степени эти художественные инстинкты природы были у них развиты и какой высоты они достигли, чем мы и предоставим себе возможность глубже понять и оценить отношение греческого художника к своим прообразам, или, по аристотелевскому выражению, его «подражание природе». О снах греков, несмотря на их обширную литературу и анекдоты о снах, приходится говорить только предположительно, хотя и с довольно значительной степенью достоверности; при невероятной пластической точности и верности их взгляда и их искренней любви к светлым и смелым краскам, несомненно, придётся, к стыду всех рождённых после, предположить и в их снах логическую причинность линий и очертаний, красок и групп, сходную с их лучшими рельефами — смену сцен, совершенство коих, если вообще в данном случае уместно сравнение, дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером и Гомера грезящим греком; и это в более глубоком смысле, чем когда современный человек в отношении к своим снам осмеливается сравнивать себя с Шекспиром.
Напротив того, нам не приходится опираться на одни предположения, когда мы имеем в виду показать ту огромную пропасть, которая отделяет дионисического грека от дионисического варвара. Во всех концах древнего мира — оставляя здесь в стороне новый, — от Рима до Вавилона — можем мы указать существование дионисических празднеств, тип которых в лучшем случае относится к типу греческих, как бородатый сатир, заимствовавший от козла своё имя и атрибуты, к самому Дионису. Почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями; тут спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того отвратительного смешения сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным «напитком ведьмы». От лихорадочных возбуждений этих празднеств, знание о которых проникало в Грецию по всем сухопутным и морским путям, греки были, по-видимому, некоторое время вполне защищены и охранены царившим здесь во всём своём гордом величии образом Аполлона, который не мог противопоставить голову Медузы более опасной силе, чем этот грубый, карикатурный дионисизм. Эта величественно отказчивая осанка Аполлона увековечена дорическим искусством. Сомнительным и даже невозможным стало названное противодействие, когда наконец подобные же стремления пробились из тех недр, где заложены были глубочайшие корни эллинской природы; теперь влияние дельфийского бога ограничивалось своевременным заключением мира, позволявшим вырвать из рук могучего противника его губительное оружие. Это перемирие представляет важнейший момент в истории греческого культа: куда ни взглянешь, всюду видны следы переворота, произведённого этим событием. То было перемирие двух противников с точным отграничением подлежавших им отныне сфер влияния и с периодической пересылкой почётных подарков; в сущности же через пропасть не было перекинуто моста. Но если теперь мы бросим взгляд на то, как под давлением этого мирного договора проявлялось дионисическое могущество, мы должны будем, по сравнению с упомянутыми вавилонскими сакеями и возвращением в них человека на ступень тигра и обезьяны, признать за дионисическими оргиями греков значение празднеств искупления мира и дней духовного просветления. У них впервые природа достигает своего художественного восторга, впервые у них разрушение principii individuationis становится художественным феноменом.
Здесь бессилен отвратительный напиток ведьмы из сладострастия и жестокости: лишь странное смешение и двойственность аффектов у дионисических мечтателей напоминает о нём — как снадобья исцеления напоминают смертельные яды, — выражаясь в том явлении, что страдания вызывают радость, что восторг вырывает из души мучительные стоны. В высшей радости раздаётся крик ужаса или тоскливой жалобы о невознаградимой утрате. В этих греческих празднествах прорывается как бы сентиментальная черта природы, словно она вздыхает о своей раздробленности на индивиды. Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей были для гомеровско-греческого мира чем-то новым и неслыханным; в особенности возбуждала в нём страх и ужас дионисическая музыка. Если музыка отчасти и была уже знакома ему, как аполлоническое искусство, то, строго говоря, лишь как волнообразный удар ритма, пластическая сила которого была развита в применении к изображению аполлонических состояний. Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, но в тонах, едва означенных, как они свойственны кифаре. Тщательно устранялся, как неаполлонический, тот элемент, который главным образом характерен для дионисической музыки, а вместе с тем и для музыки вообще, — потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифирамб побуждает человека к высшему подъёму всех его символических способностей; нечто ещё никогда не испытанное ищет своего выражения — уничтожение покрывала Майи, единобытие, как гений рода и даже самой природы. Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение; необходим новый мир символов, телесная символика во всей её полноте, не только символика уст, лица, слова, но и совершенный, ритмизирующий все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах: дифирамбический служитель Диониса тем самым может быть понят лишь себе подобным! С каким изумлением должен был взирать на него аполлонический грек! С изумлением тем большим, что к нему примешивалось жуткое сознание, что всё это, в сущности, не так уж чуждо ему, что его аполлоническое сознание, пожалуй, лишь покрывало, скрывающее от него этот дионисический мир.
3
Чтобы понять сказанное, нам придётся как бы снести камень за камнем всё это художественно возведённое здание аполлонической культуры, пока мы не увидим фундамента, на котором оно построено. Здесь, во-первых, нашему взгляду представятся чудные образы олимпийских богов, водружённые на фронтон этого здания, деяния коих, в сияющих издали рельефах, украшают его фризы. Если между ними мы усмотрим и Аполлона как отдельное божество, наряду с другими и не претендующее на первое место, то пусть это не вводит нас в заблуждение. Тот же инстинкт, который нашёл своё воплощение в Аполлоне, породил и весь этот олимпийский мир вообще, и в этом смысле Аполлон может для нас сойти за отца его. Какова же была та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ?
Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, — тот неизбежно и скоро с недовольством и разочарованием отвернётся от них. Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге; здесь всё говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором всё наличное обожествляется, безотносительно к тому — добро оно или зло. И зритель, глубоко поражённый, остановится перед этим фантастическим преизбытком жизни и спросит себя: с каким же волшебным напитком в теле прожили, наслаждаясь жизнью, эти заносчивые люди, что им, куда они ни глянут, отовсюду улыбается облик Елены, как «в сладкой чувственности парящий» идеальный образ их собственного существования. Этому готовому уже отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако: «Не уходи, а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь раскинулась перед тобой в такой необъяснимой ясности. Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон; наконец, принуждаемый царём, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: «Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя — скоро умереть».
Как относится к этой народной мудрости олимпийский мир богов? Как исполненное восторгов видение истязуемого мученика к его пытке.
Теперь перед нами как бы расступается олимпийская волшебная гора и показывает нам свои корни. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грёз — олимпийцами. Необычайное недоверие к титаническим силам природы, безжалостно царящая над всем познанным Мойра, коршун великого друга людей — Прометея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, проклятие, тяготевшее над родом Атридов и принудившее Ореста к матереубийству, короче — вся эта философия лесного бога, со всеми её мифическими примерами, от которой погибли меланхолические этруски, — непрестанно всё снова и снова преодолевалась греками при посредстве того художественного междумирия олимпийцев или во всяком случае прикрывалась им и скрывалась от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей необходимости, создать этих богов; это событие мы должны представлять себе приблизительно так: из первобытного титанического порядка богов ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты путём медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости; так розы пробиваются из тернистой чащи кустов. Как мог бы иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах озарённым в столь ослепительном ореоле. Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, — создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской «волей». Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, — единственная удовлетворительная теодицея! Существование под яркими солнечными лучами таких богов ощущается как нечто само по себе достойное стремления, и действительное страдание гомеровского человека связано с уходом от жизни, прежде всего со скорым уходом; так что теперь можно было бы сказать об этом человеке обратное изречению силеновской мудрости: «Наихудшее для него — скоро умереть, второе по тяжести — быть вообще подверженным смерти». И если когда раздаётся жалоба, то плачет она о краткой жизни Ахилла, о подобной древесным листьям смене преходящих людских поколений, о том, что миновали времена героев. И для величайшего героя не ниже его достоинства стремиться продолжать жизнь, хотя бы и в качестве подёнщика. Так неистово стремится «воля» на аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему.
Здесь необходимо сказать, что вся эта, с таким вожделением и тоской созерцаемая новым человеком, гармония, это единство человека с природой, для обозначения которого Шиллер пустил в ход термин «наивное», — ни в коем случае не представляет простого, само собой понятного, как бы неизбежного состояния, с которым мы необходимо встречаемся на пороге каждой культуры, как с раем человечества: чему-либо подобному могла поверить лишь эпоха, желавшая видеть в Эмиле Руссо художника и думавшая, что нашла в Гомере такого выросшего на лоне природы художника — Эмиля. Там, где мы в искусстве встречаемся с «наивным», мы вынуждены признать высшее действие аполлонической культуры, которой всегда приходится разрушать царство титанов, поражать насмерть чудовищ и при посредстве могущественных фантасмагорий и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию. Но как редко достигается эта наивность, эта полная поглощённость красотой иллюзии! Как невыразимо возвышен поэтому Гомер, который, как отдельная личность, относится ко всей аполлонической народной культуре так же, как отдельный художник сновидения ко всем сновидческим способностям народа и природы вообще. Гомеровская «наивность» может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии: это — та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей. Действительная цель прячется за образом химеры: мы простираем руки к этой последней, а природа своим обманом достигает первой. В греках хотела «воля» узреть самоё себя, в преображении гения и в мире искусства; для своего самопрославления её создания должны были сознавать себя достойными такой славы, они должны были узреть и узнать себя в некоей высшей сфере, но так, чтобы этот совершенный мир их созерцаний не мог стать для них императивом или укором. Таковой была сфера красоты, в которой они видели свои отражения — олимпийцев. Этим отражением красоты эллинская «воля» боролась с коррелятивным художественному таланту талантом страдания и мудрости страдания; и как памятник её победы стоит перед нами Гомер, наивный художник.
4
Об этом наивном художнике мы можем получить некоторое поучение из аналогии сна. Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзии мира грёз, не нарушая их, обращается к себе с увещанием: «Ведь это сон; что ж, буду грезить дальше»; если мы отсюда можем заключить о глубокой внутренней радостности сновидения; если мы, с другой стороны, для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания должны вполне забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковывать себе все эти явления, под руководством снотолкователя Аполлона, примерно следующим образом. Сколь ни несомненно то, что из двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам без всякого сравнения более предпочтительной, важной, достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я тем не менее решаюсь, при всей видимости парадокса, утверждать с точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление коей мы представляем, — прямо обратную оценку сновидения. Действительно, чем более я подмечаю в природе её всемогущие художественные инстинкты, а в них страстное стремление к иллюзии, к избавлению путём иллюзии, тем более чувствую я необходимость метафизического предположения, что Истинно-Сущее и Первоединое, как вечно страждущее и исполненное противоречий, нуждается вместе с тем для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии; каковую иллюзию мы, погружённые в него и составляющие часть его, необходимо воспринимаем как истинно не-сущее, т. е. как непрестанное становление во времени, пространстве и причинности, другими словами, как эмпирическую реальность. Итак, если мы отвлечёмся на мгновенье от нашей собственной «реальности», примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление Первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение «иллюзии в иллюзии» и тем самым ещё более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии. По этой самой причине внутреннему ядру природы доставляет такую неописуемую радость наивный художник и наивное произведение искусства, которое также есть лишь «иллюзия в иллюзии». Рафаэль, сам один из этих бессмертных «наивных», изобразил нам в символической картине такое депотенцирование иллюзии в иллюзию, этот первопроцесс наивного художника, а вместе с тем и аполлонической культуры.
В его Преображении мы видим на нижней половине в бесноватом отроке, отчаявшихся вожатых, беспомощно перепуганных учениках отражение вечного и изначального страдания, единой основы мира: иллюзия здесь отражение вечного противоречия — отца вещей. И вот из этой иллюзии подымается, как дыхание амброзии, новый, видению подобный, иллюзорный мир, невидимый тем, кто внизу охвачены первой иллюзией, — сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании, сверкающем в широко открытых очах. Здесь перед нашими взорами в высшей символике искусства распростёрт аполлонический мир красоты и его подпочва, страшная мудрость Силена, и мы интуицией понимаем их взаимную необходимость. Аполлон же опять выступает перед нами как обоготворение principii individuationis, в котором только и находит своё свершение вечно достигаемая задача Первоединого — его избавление через иллюзию: возвышенным жестом он указует нам на необходимость всего этого мира мук, дабы под давлением его каждая отдельная личность стремилась к созданию спасительного видения и затем, погружённая в созерцание его, спокойно держалась бы средь моря на своём шатком челне.
Это обоготворение индивидуации, если вообще представлять себе его императивным и дающим предписания, знает лишь один закон — индивида, т. е. сохранение границ индивида, меру в эллинском смысле. Аполлон, как этическое божество, требует от своих меры и, дабы иметь возможность соблюдать таковую, самопознания. И таким образом, рядом с эстетической необходимостью красоты стоят требования «Познай самого себя» и «Сторонись чрезмерного!». Самопревозношение и чрезмерность рассматривались как враждебные демоны не-аполлонической сферы по существу, а посему и как свойства до-аполлонического времени, века титанов, и вне-аполлонического мира, т, е. мира варваров. За свою титаническую любовь к человеку Прометей подлежал отдаче на растерзание коршунам; чрезмерность мудрости, разрешившей загадку сфинкса, должна была повергнуть Эдипа в затянувший его водоворот злодеяний; так истолковывал дельфийский бог греческое прошлое.
«Титаническим» и «варварским» представлялось аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Мало того, он должен был ощущать ещё и то, что всё его существование, при всей красоте и умеренности, покоится на скрытой подпочве страдания и познания, открывавшейся ему вновь через посредство этого дионисического начала. И вот же — Аполлон не мог жить без Диониса! «Титаническое» и «варварское» начала оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое! И представим себе теперь, как в этот, построенный на иллюзии и самоограничении и искусственно ограждённый плотинами, мир — вдруг врываются экстатические звуки дионисического торжества с его всё более и более манящими волшебными напевами, как в этих последних изливается вся чрезмерность природы в радости, страдании и познании, доходя до пронзительного крика; подумаем только, какое значение мог иметь в сравнении с этими демоническими народными песнями художник-псалмопевец Аполлона и призрачные звуки его лиры! Музы искусств «иллюзии» поблекли перед искусством, которое в своём опьянении вещало истину; мудрость Силена взывала: горе! горе! — радостным олимпийцам! Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал аполлонические законоположения. Чрезмерность оказывалась истиной; противоречие, в муках рождённое блаженство говорило о себе из самого сердца природы. И таким образом везде, куда ни проникало дионисическое начало, аполлоническое упразднялось и уничтожалось. Но столь же несомненно и то, что там, где первый натиск бывал отбит, престиж и величие дельфийского бога выступали непреклоннее и строже, чем когда-либо. Я именно и могу только объяснить себе дорическое государство и дорическое искусство как постоянный воинский стан аполлонического начала: лишь в непрерывном противодействии титанически-варварской сущности дионисического начала могли столь долго продержаться такое упорно-неподатливое, со всех сторон ограждённое и укреплённое искусство, такое воинское и суровое воспитание, такая жестокая и беспощадная государственность.
До сих пор я детально излагал то, что было мною замечено в самом начале этого рассуждения, а именно: как дионисическое и аполлоническое начала во всё новых и новых последовательных порождениях, взаимно побуждая друг друга, властвовали над эллинством; как из «бронзового» века с его битвами титанов и его суровой народной философией под властью аполлонического стремления к красоте развился гомеровский мир; как это «наивное» великолепие вновь было поглощено ворвавшимся потоком дионисизма и как в противовес этой новой власти поднялся аполлонизм, замкнувшись в непоколебимом величии дорического искусства и миропонимания. Если таким образом древнейшая эллинская история в борьбе указанных двух враждебных принципов распадается на четыре большие ступени искусства, то теперь мы испытываем побуждение к дальнейшим вопросам о конечном плане всего этого становления и всей этой деятельности, если только мы не станем считать последний по времени период дорического искусства за вершину и цель этих художественных стремлений, и здесь нашему взору открывается величественное и достославное художественное создание аттической трагедии и драматического дифирамба как совместная цель обоих инстинктов, таинственный брак которых, после долгой предварительной борьбы, возвеличен был рождением первенца, соединившего в себе Антигону и Кассандру.
5
Теперь мы приближаемся к истинной цели нашего исследования, направленного к познанию дионисически-аполлонического гения и его художественного создания или по меньшей мере к исполненному чаяния прозрению в эту вступительную мистерию. Здесь ближайшим образом мы поставим себе вопрос: где именно впервые подмечается в эллинском мире этот новый росток, развивающийся впоследствии в трагедию и в драматический дифирамб? Образное разрешение этого вопроса даёт нам сама древность, когда она сопоставляет на своих барельефах, геммах и т. д. Гомера и Архилоха как праотцев и священноносцев греческой поэзии в ясном ощущении того, что только эти оба могут рассматриваться как вполне и равно оригинальные натуры, изливающие пламенный поток на всю совокупность греческого будущего. Гомер, погружённый в себя престарелый сновидец, тип аполлонического, наивного художника, с изумлением взирает на страстное чело дико носящегося в вихре жизни, воинственного служителя муз — Архилоха, а новейшей эстетике удалось только прибавить своё толкование, что здесь противопоставляется «объективному» художнику первый «субъективный». Нам от этого толкования немного проку, так как мы знаем субъективного художника только как плохого художника, и мы во всех родах и степенях искусства во-первых и прежде всего требуем победы над субъективизмом, избавления от Я и молчания всякой индивидуальной воли и похоти; мало того, вне объективности, вне чистого, бескорыстного созерцания мы не можем уверовать в малейшее истинно художественное творчество. Поэтому наша эстетика должна сначала разрешить проблему, как вообще возможен «лирик» как художник: он, по свидетельству всех времён, постоянно твердящий Я и пропевающий перед нами всю хроматическую гамму своих страстей и желаний. Именно этот Архилох, рядом с Гомером, пугает нас криком ненависти и презрения, пьяными вспышками своей страсти; не является ли поэтому он, первый художник, получивший наименование субъективного, — по существу не-художником? Но откуда тогда уважение, высказанное ему, поэту, дельфийским оракулом, этим очагом «объективного» искусства, в весьма знаменательных изречениях?
На процесс своего поэтического творчества пролил свет Шиллер в одном ему самому необъяснимом, но, по-видимому, не вызывающем у него сомнений психологическом наблюдении: он признаётся именно, что в подготовительном к акту поэтического творчества состоянии не имел в себе и перед собою чего-либо похожего на ряд картин со стройной причинной связью мыслей, но скорее некоторое музыкальное настроение («Ощущение у меня вначале является без определённого и ясного предмета; таковой образуется лишь впоследствии. Некоторый музыкальный строй души предваряет всё, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея»). Присоединим теперь к этому важнейший феномен всей античной лирики — везде признававшееся вполне естественным соединение, даже тождественность лирика с музыкантом, по сравнению с которой наша новейшая лирика предстаёт изваянием божества без головы, — и мы можем теперь на основании нашей изложенной выше эстетической метафизики объяснить себе лирика следующим образом. Он вначале, как дионисический художник, вполне сливается с Первоединым, его скорбью и противоречием, и воспроизводит образ этого Первоединого как музыку, если только последняя по праву была названа повторением мира и вторичным слепком с него; но затем эта музыка становится для него как бы зримой в символическом сновидении под аполлоническим воздействием сна. Прежнее, лишённое образов и понятий отражение изначальной скорби в музыке, с её разрешением в иллюзии, создаёт теперь вторичное отражение в форме отдельного уподобления или примера. Свою субъективность художник сложил уже с себя в дионисическом процессе; картина, которая являет ему теперь его единство с сердцем мира, есть сонная греза, воплощающая как изначальное противоречие и изначальную скорбь, так и изначальную радость иллюзии. Я лирика звучит, таким образом, из бездн бытия: его «субъективность» в смысле новейших эстетиков — одно воображение. Когда Архилох, первый лирик греков, выражает свою бешеную любовь и вместе с тем своё презрение дочерям Ликамба, то не его страсть пляшет перед нами в оргиастическом хмеле: мы видим Диониса и его менад, мы видим опьянённого мечтателя-безумца Архилоха, погружённого в сон, упавшего на землю — как нам это описывает Еврипид в «Вакханках», — спящего на высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему лавром. Дионисически-музыкальная зачарованность спящего мечет теперь вокруг себя как бы искры образов, лирические стихи, которые в своём высшем развитии носят название трагедий и драматических дифирамбов.
Пластик, а равно и родственный ему эпик погружен в чистое созерцание образов. Дионисический музыкант — без всяких образов, сам во всей своей полноте — изначальная скорбь и изначальный отзвук её. Лирический гений чувствует, как из мистических состояний самоотчуждения и единства вырастает мир образов и символов, имеющий совсем другую окраску, причинность и быстроту, чем тот мир пластика и эпика. В то время как последний с радостной отрадой живёт среди этих образов, и только среди них, и не устаёт любовно созерцать их в мельчайших их подробностях; в то время как даже образ гневного Ахилла для него не более как образ, гневным выражением которого он наслаждается с радостью, вызываемой иллюзией снов — так что он этим зеркалом иллюзии ограждён от соединения и слияния со своими образами, — образы лирика, напротив, не что иное, как он сам и только как бы различные объективации его самого, отчего он, будучи центром, вокруг которого вращается этот мир, и вправе вымолвить Я, но только это Я не сходно с Я бодрствующего эмпирически-реального человека, а представляет собою единственное вообще истинно-сущее и вечное, покоящееся в основе вещей Я, сквозь отображения которого взор лирического гения проникает в основу вещей. Теперь представим себе, что он среди этих отображений увидел и самого себя, как не-гения, т. е. свой «субъект», всю толпу субъективных, направленных на определённый и кажущийся ему реальным предмет страстей и движений воли; если теперь может показаться, что лирический гений и соединённый с ним не-гений представляют одно целое, и первый высказывает о себе самом упомянутое словечко «я», то нас эта видимость уже не может ввести в заблуждение, как она, несомненно, ввела тех, которые определили лирика как субъективного поэта. В действительности Архилох, сжигаемый страстью, любящий и ненавидящий человек, лишь видение того гения, который теперь уже не Архилох, но гений мира и символически выражает изначальную скорбь в подобии человека-Архилоха; между тем как тот субъективно-желающий и стремящийся человек-Архилох вообще никак и никогда не может быть поэтом. Но нет и никакой нужды, чтобы лирик имел перед собой как отражение вечного бытия именно только феномен человека-Архилоха; и трагедия доказывает, насколько далеко может отойти мир видений лирика от этого действительно ближе всего стоящего феномена.
Шопенгауэр, от которого не скрылась трудность, представляемая лириком для философии искусства, полагает, что нашёл выход, по которому я, однако, не считаю возможным следовать за ним, между тем как одному ему, в его глубокомысленной метафизике музыки, дано было в руки средство к окончательному устранению указанной трудности, что, как я полагаю, здесь в его духе и во славу его мною и сделано. Что до него самого, то он, в противовес сказанному мною, даёт нижеследующее определение собственной сущности песни («Мир как воля и представление» I 295): «Субъект воли, т. е. собственное хотение, — вот что наполняет сознание поющего, часто как свободная от оков, удовлетворённая воля (радость), ещё чаще, пожалуй, как задержанная воля (печаль), но всегда как аффект, страсть, возбуждённое состояние души. Рядом же с этим и вместе с этим певец, при взгляде на окружающую природу, осознаёт себя как субъекта чистого, безвольного познания, неколебимый душевный покой которого приходит теперь в столкновение с напором всегда ограниченного, всё ещё недостаточного хотения; ощущение этого контраста, этого взаимодействия и есть то, что выражается в целостности песни и что является сущностью лирического состояния вообще. В нём как бы подходит к нам чистое познание, дабы спасти нас от воли и её напора; мы следуем за ним, но лишь на мгновенья: всё вновь и вновь хотение и воспоминание о наших личных целях вырывают нас из спокойной созерцательности; но и близкая красота окружающего нас, в которой нам дано чистое безвольное познание, всё снова выманивает нас у воли. Поэтому-то в песне и лирическом настроении так странно смешиваются воля (личный интерес целей) и чистое созерцание всего нас окружающего; начинают искать соотношения между обеими или воображать таковые; субъективное настроение, аффект воли придают созерцанию окружающего своеобразную окраску, а эта последняя в рефлексе, в свою очередь, переносится на волю; истинная песня и будет отпечатком всего этого столь смешанного и в то же время раздельного душевного состояния».
Кто мог бы не заметить в этом описании, что лирика здесь характеризуется как не вполне достигнутое, как бы скачками, и то редко, приводящее к цели искусство, даже как полуискусство, сущность которого будто бы состоит в том, что хотение и чистое созерцание, т. е. неэстетическое и эстетическое состояния, как-то странно перемешаны между собой? Мы же скорее утверждаем, что вся эта противоположность, которую Шопенгауэр кладёт в основу своего деления искусств как мерило ценности, противоположность субъективного и объективного, вообще неуместна в эстетике, так как субъект, водящий и преследующий свои эгоистические цели индивид, мыслим только как противник искусства, а не как его источник. Поскольку же субъект — художник, он уже свободен от своей индивидуальной воли и стал как бы медиумом, средой, через которую единый истинно-сущий субъект празднует своё освобождение в иллюзии. Ибо прежде всего — для нашего унижения и возвеличения — нам должно быть ясно то, что вся эта комедия искусства разыгрывается вовсе не для нас, как бы для нашего исправления и образования, что мы даже ничуть не являемся действительными творцами этого мира искусства, но вправе, конечно, предположить о себе, что для действительного творца этого мира мы уже — образы и художественные проекции и что в этом значении художественных произведений лежит наше высшее достоинство, ибо только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности, хотя, конечно, наше сознание об этом своём значении едва ли чем отличается от того, которое написанные на полотне воины имеют о представленной на нём битве. А если так, то и всё наше художественное знание по существу своему вполне иллюзорно, ибо мы, как знающие, не едины и не тождественны с тем существом, которое, будучи единственным творцом и зрителем этой комедии искусства, в ней создаёт и находит себе вечное наслаждение. Лишь поскольку гений в акте художественного порождения сливается с тем Первохудожником мира, он и знает кое-что о вечной сущности искусства, ибо в этом последнем состоянии он чудесным образом уподобляется жуткому образу сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя; теперь он в одно и то же время субъект и объект, в одно и то же время поэт, актёр и зритель.
6
По отношению к Архилоху учёными изысканиями обнаружено, что он ввёл народную песню в литературу и что это деяние и доставило ему, по общей оценке греков, то исключительное место, которое он занимает рядом с Гомером. Но что представляет собою сама народная песня в её противоположности к вполне аполлоническому эпосу? Что же иное, как не perpetuum vestigium соединения аполлонического и дионисического начал; её огромное, простирающееся на все народы и непрестанно увеличивающееся во всё новых и новых порождениях распространение свидетельствует нам о том, сколь могущественно это двойственное художественное стремление природы, оставляющее в народной песне следы, аналогичные тем, которые подмечаются в музыке народа, увековечивающей его оргиастические волнения. Да, вероятно, и историческим путём может быть доказано, что каждая богатая народными песнями и продуктивная в этом отношении эпоха в то же время сильнейшим образом была волнуема и дионисическими течениями, на которые необходимо всегда смотреть как на подпочву и предпосылку народной песни.
Но ближайшим образом народная песня имеет для нас значение музыкального зеркала мира, первоначальной мелодии, ищущей себе теперь параллельного явления в грезе и выражающей эту последнюю в поэзии. Мелодия, таким образом, есть первое и общее, отчего она и может испытать несколько объективаций, в нескольких текстах. Она и представляется в наивной оценке народа без всяких сравнений более важной и необходимой стороной дела. Мелодия рождает поэтическое произведение из себя, и притом всё снова и снова; не что иное говорит нам и деление народной песни на строфы: я всегда с удивлением рассматривал этот феномен, пока наконец не нашёл ему такого объяснения. Кто взглянет на собрание народных песен, например на «Des Knaben Wunderhorn», с точки зрения этой теории, найдёт бесчисленные примеры того, как непрестанно рождающая мелодия мечет вокруг себя искры образов; их пестрота, их внезапная смена, подчас даже бешеная стремительность являют силу, до крайности чуждую эпической иллюзии и её спокойному течению. С точки зрения эпоса этот неравномерный и беспорядочный мир образов лирики попросту заслуживает осуждения; и так наверняка и относились к нему торжественные эпические рапсоды аполлонических празднеств в эпоху Терпандра.
Итак, мы имеем в поэтическом творчестве народной песни высшее напряжение языка, стремящегося подражать музыке; поэтому с Архилохом выступает новый мир поэзии, в глубочайшем основании своём противоречащий гомеровскому. Вместе с тем мы описали единственно возможное отношение между поэзией и музыкой, словом и звуком: слово, образ, понятие ищет некоторого выражения, аналогичного музыке, и само испытывает теперь на себе её могущество. В этом смысле мы можем различать в истории языка греческого народа дна главных течения, смотря по тому, подражал ли язык миру явлений и образов или миру музыки. Стоит только поглубже призадуматься над словесным различием окраски синтаксического строя, материала слов у Гомера и Пиндара, чтобы понять значение этой противоположности; при этом каждому станет осязаемо ясно, что между Гомером и Пиндаром должны были прозвучать оргиастические мелодии флейты Олимпа, которые ещё в век Аристотеля, среди бесконечно более развитой музыки, влекли к опьянённому воодушевлению и, казалось, своим первоначальным воздействием возбуждали к подражанию все поэтические средства выражения современных им людей. Я напомню здесь об одном всем знакомом феномене наших дней, представляющемся с точки зрения нашей эстетики только предосудительным. Мы постоянно встречаемся с тем, как та или другая симфония Бетховена побуждает отдельных слушателей к передаче впечатления в ряде образов, хотя бы сопоставление различных порождённых музыкальным произведением образных миров и казалось при этом весьма фантастическим, пёстрым, а подчас даже и противоречивым; изощрять своё убогое остроумие над такими сопоставлениями и при этом не замечать феномена поистине достойного истолкования — совершенно в духе названной эстетики. И даже если композитор воспользовался образами для толкования своего произведения, если, к примеру, он обозначил симфонию как пасторальную и одну какую-либо её часть — как «сцену у ручья», а другую — как «весёлую сходку поселян», то и это равным образом только уподобления, рождённые из музыки представления — и никак не предметы, служившие образцами для подражания в музыке, — представления, которые ни с какой стороны не могут быть поучительными для нас по отношению к дионисическому содержанию музыки и даже не имеют какой-либо исключительной ценности в ряду других подобных же образов. Этот процесс разряжения музыки в образы перенесём теперь на молодую, свежую, проявляющую своё творчество в языке народную массу, и тогда мы будем в состоянии догадаться, каким путём возникла строфическая народная песня и как вся творческая сила народа в области речи должна была быть напряжена этим новым принципом подражания музыке.
Если мы таким образом можем рассматривать лирическую поэзию как подражательное излучение музыки в образах и понятиях, то мы приходим теперь к вопросу: «Чем является музыка в зеркале образности и понятий?» Она является как воля в шопенгауэровском смысле этого слова, т. е. как противоположность эстетическому, чисто созерцательному, безвольному настроению. Здесь нужно возможно строже различать понятие сущности и понятие явления: ибо музыка по сущности своей ни в коем случае не может быть волей; как таковая она должна была быть решительно изгнана из пределов искусства, поскольку воля есть нечто неэстетическое по существу; но музыка является — как воля. Ибо для выражения её явления в образах лирик пользуется всеми движениями страсти — от шёпота симпатии до раскатов безумия; стремясь инстинктивно выразить музыку в аполлонических символах, он представляет себе всю природу и себя в ней лишь как вечную волю, вожделение, стремление. Но поскольку он толкует музыку в образах, сам он покоится в неподвижности морской тиши аполлонического созерцания, сколько бы ни волновалось вокруг него в напоре и порыве всё то, что он созерцает через медиум музыки. И даже когда он видит себя самого сквозь тот же медиум, его собственный образ является ему в состоянии неудовлетворённого чувства: его собственная воля, стремление, стон, ликование оказываются для него подобием, с помощью которого он толкует себе музыку. Вот в чём феномен лирика: в качестве аполлонического гения он истолковывает музыку в образе воли, между тем как сам он, вполне свободный от алчности воли, является чистым, неомрачённым оком солнца.
Всё это рассуждение построено на том, что лирика столь же зависима от духа музыки, сколь сама музыка в своей полнейшей неограниченности не нуждается в образе и понятии, но лишь выносит их рядом с собою. Поэзия лирика не может высказать ничего такого, что с безграничной всеобщностью и охватом не было бы уже заложено в той музыке, которая принудила поэта к образной речи. Мировую символику музыки никоим образом не передашь поэтому на исчерпывающий лад в слове, ибо она связана с исконным противоречием и исконной скорбью в сердце Первоединого и тем самым символизирует сферу, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому явлению. По сопоставлению с нею скорее всякое явление представляется только подобием, поэтому язык, как орган и символ явлений, нигде и никогда не может обнажить перед нами внутреннюю сторону музыки, но при всех попытках подражать музыке всегда соприкасается с нею лишь внешним образом; сокровеннейший же её смысл, несмотря на всё лирическое красноречие, нимало не становится нам ближе.
7
Теперь нам нужно призвать на помощь все расследованные до сих пор принципы искусства, чтобы разобраться в лабиринте, каковым мы принуждены признать происхождение греческой трагедии. Я думаю, что не будет абсурдом, если я скажу, что проблема этого происхождения ни разу не была ещё даже серьёзно поставлена, не говоря вовсе о её разрешении, хотя уже неоднократно то сшивали летучие лоскутки античного предания в различных комбинациях, то вновь разрывали их. Это предание говорит нам с полной определённостью, что трагедия возникла из трагического хора и первоначально была только хором, и не чем иным, как хором; отсюда на нас ложится обязанность заглянуть в душу этого трагического хора, представляющего собственно первоначальную драму, не довольствуясь ни в коем случае ходячими оборотами речи вроде того, что он, мол, идеальный зритель или представляет собой народ в противоположность царственной области сцены. Пусть это последнее толкование, для многих политиков звучащее возвышенно — а именно что в этом хоре-народе, всегда остающемся правым при столкновении со страстными порывами и распутством царей, нашёл своё выражение неизменный моральный закон демократических афинян, — представляется нам как бы подсказанным одной мыслью Аристотеля; для первоначальной формации трагедии оно не может иметь никакого значения, так как из её религиозного начала всё это противопоставление народа и властителя совершенно исключено, как и вообще всякая политико-социальная сфера; но и в отношении знакомой нам классической формы хора у Эсхила и Софокла мы сочли бы за богохульство говорить о каком-то предчувствии «конституционного народного представительства», хотя и нашлись люди, не испугавшиеся подобной хулы. Конституционное народное представительство не было известно in praxi античному государственному строю, и будем надеяться, что и в его трагедии оно не являлось ему, даже в виде «чаяния».
Значительно большей славой, чем это политическое истолкование хора, пользуется мысль А. В. Шлегеля, который предлагает нам смотреть на хор как на некоторую сущность и как бы экстракт толпы зрителей, как на «идеального зрителя». Этот взгляд при сопоставлении с упомянутой выше исторической традицией, по которой первоначально трагедию представлял один хор, оказывается тем, что он и есть, т. е. грубым, ненаучным, хотя и блестящим, утверждением, которое получило, однако, свой блеск исключительно от сжатой формы его выражения, а также ввиду чисто германского пристрастия ко всему, что зовётся «идеальным», и минутного удивления, которое это утверждение в нас вызывает. Мы бываем изумлены, как только начинаем сравнивать хорошо знакомую нам театральную публику с подобным хором, и спрашиваем себя, как вообще возможно извлечь путём идеализации из этой публики что-либо аналогичное трагическому хору. В глубине своей души мы отрицаем эту возможность и удивляемся при этом как смелости шлегелевского утверждения, так равным образом абсолютно отличной от нас природе греческой публики. Ведь мы всегда были того мнения, что настоящий зритель, кто бы он ни был, всегда отлично должен сознавать, что перед ним художественное произведение, а не эмпирическая реальность. А между тем трагический хор греков принужден принимать образы сцены за живые существа. Хор Океанид полагает, что действительно видит перед собой титана Прометея, и считает себя самого столь же реальным, как и бога на сцене. И разве чистейшим и высшим типом зрителя оказывается тот, кто, подобно Океанидам, признаёт телесную наличность и реальность Прометея? И что же, признаком идеального зрителя было бы взбежать на сцену и освободить бога от его терзаний? А мы-то верили в эстетическую публику и полагали, что каждый отдельный зритель тем даровитее, чем он более способен воспринимать художественное произведение как искусство, т. е. эстетически; и вот теперь шлегелевское выражение намекает нам на то, что совершенно идеальный зритель дозволяет миру сцены действовать на себя совсем не эстетически, а телесно-эмпирически. «Уж эти нам греки! — вздыхаем мы. — Они ставят нам всю нашу эстетику вверх ногами!» Но мы уже привыкли к этому и повторяем шлегелевское изречение всякий раз, как заходит речь о хоре.
Но приведённое нами столь ясное предание свидетельствует здесь против Шлегеля: хор сам по себе, без сцены, т. е. форма трагедии, и обсуждаемый нами хор идеальных зрителей не могут быть согласованы между собой. Что бы это был за род искусства, если бы он имел в своём основании понятие о зрителе и если бы подлинной формой его должен был бы считаться «зритель в себе». Зритель без зрелища есть лишённое смысла понятие. Итак, мы полагаем, что рождение трагедии не найдёт себе объяснения ни в высоком уважении к моральному интеллекту массы, ни в понятии зрителя без зрелища, и считаем эту проблему слишком глубокой, чтобы её можно было только задеть, исходя из столь плоских соображений.
Бесконечно более ценное прозрение в смысл хора проявил уже Шиллер в знаменитом предисловии к «Мессинской невесте»; он рассматривает хор как живую стену, воздвигаемую трагедией вокруг себя, чтобы начисто замкнуться от мира действительности и тем сохранить себе свою идеальную почву и свою поэтическую свободу.
Шиллер борется этим главным своим оружием против опошленного понятия естественности, против распространённого требования драматической иллюзии. Несмотря на то что самый день на сцене является только искусственным, что архитектура только символическая и метрическая речь носит идеальный характер, относительно трагедии как целого всё ещё распространено заблуждение. Недостаточно допускать только как поэтическую вольность то, что составляет сущность всякой поэзии. И вот он во введении хора усматривает решительный шаг, которым открыто и честно объявляется война всякому натурализму в искусстве. — Это, как мне представляется, и есть та самая точка зрения, для обозначения которой наше уверенное в своём превосходстве столетие употребляет презрительную кличку «псевдоидеализм». Я боюсь, что мы, со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности достигли как раз обратного всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур. И в этих последних есть своеобразное искусство, так же как и в известных, пользующихся всеобщей любовью романах современности; только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолён гёте-шиллеровский «псевдоидеализм».
Но действительно, «идеальной» была та почва, по которой, согласно верному взгляду Шиллера, привык шествовать греческий хор сатиров — хор первоначальной трагедии, и высоко приподнята она над действительным путём смертных. Грек сколотил для этого хора лёгкий помост измышленного естественного состояния и поставил на него измышленные природные существа. Трагедия выросла на этой основе и действительно была этим с самого начала избавлена от кропотливого портретирования действительности. При всём том это всё же не произвольно созданный фантазией мир между небом и землёю; это скорее мир, равно вероятный и реальный, подобный тому, который уже имели верующие эллины в Олимпе и его обитателях. Сатир, как дионисический хоревт, живёт в религиозно-призрачной действительности под санкцией мифа и культа. Что с него начинается трагедия, что из него говорит дионисическая мудрость трагедии, — это в данном случае столь же странный и удивительный для нас феномен, как и вообще возникновение трагедии из хора. Быть может, нам удастся получить исходную точку для рассмотрения вопроса, если я выскажу утверждение, что этот сатир, измышленное природное существо, стоит в таком же отношении к культурному человеку, в каком дионисическая музыка стоит к цивилизации. О последней Рихард Вагнер говорит, что она так же теряет своё значение перед музыкой, как свет лампы перед дневным светом. Равным образом, думаю я, греческий культурный человек чувствовал себя уничтоженным перед лицом хора сатиров, и ближайшее действие дионисической трагедии заключается именно в том, что государство и общество, вообще все пропасти между человеком и человеком исчезают перед превозмогающим чувством единства, возвращающего нас в лоно природы. Метафизическое утешение, с которым, как я уже намекал здесь, нас отпускает всякая истинная трагедия, то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна, — это утешение с воплощённой ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными.
Этот хор служил утешением глубокомысленному и особенно предрасположенному к утончённейшему и тягчайшему страданию эллину, острый взгляд которого проник в странное дело уничтожения, производимого так называемой всемирной историей, а также и в жестокость природы; ему грозила опасность отдаться стремлению к буддийскому отрицанию воли, и вот, его спасает искусство, а через искусство его для себя спасает — жизнь.
Дело в том, что восторженность дионисического состояния, с его уничтожением обычных пределов и границ существования, содержит в себе, пока оно длится, некоторый летаргический элемент, в который погружается всё лично прожитое в прошлом. Таким образом, между жизнью повседневной и дионисической действительностью пролегает пропасть забвения. Но как только та повседневная действительность вновь выступает в сознании, она ощущается как таковая с отвращением; аскетическое, отрицающее волю настроение является плодом подобных состояний. В этом смысле дионисический человек представляет сходство с Гамлетом: и тому и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей, они познали — и им стало противно действовать; ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей, им представляется смешным и позорным обращённое к ним предложение направить на путь истинный этот мир, «соскочивший с петель». Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии — вот наука Гамлета, не та дешёвая мудрость Ганса-мечтателя, который из-за излишка рефлексии, как бы из-за преизбытка возможностей, не может добраться до дела; не рефлексия, нет! — истинное познание, взор, проникший ужасающую истину, получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом как у Гамлета, так и у дионисического человека. Здесь уже не поможет никакое утешение, страстное желание не останавливается на каком-то мире после смерти, даже на богах; существование отрицается во всей его целости, вместе с его сверкающим отражением в богах или в бессмертном потустороннем будущем. В осознании раз явившейся взорам истины человек видит теперь везде лишь ужас и нелепость бытия, теперь ему понятна символичность судьбы Офелии, теперь познал он мудрость лесного бога — Силена; его тошнит от этого.
Здесь, в этой величайшей опасности для воли, приближается, как спасающая волшебница, сведущая в целебных чарах, — искусство; оно одно способно обратить эти вызывающие отвращение мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми ещё можно жить; таковы представления о возвышенном как художественном преодолении ужасного и о комическом как художественном освобождении от отвращения, вызываемого нелепым. Сатирический хор дифирамба есть спасительное деяние греческого искусства; о срединный мир этих спутников Диониса разбивались описанные выше припадки угнетённого душевного состояния.
8
Сатир, как и идиллический пастух новейших времён, — оба суть порождения тоски по первоначальному и естественному; но с какой твёрдостью, с какой неустрашимостью ухватился грек за своего лесного человека и как стыдливо, как нерешительно заигрывал современный человек со своим приукрашенным созданием — трогательно наигрывающим на флейте, изнеженным пастушком! Природу, которой ещё не коснулось познание, в которой ещё замкнуты затворы культуры, — вот что видел грек в своём сатире, но из-за этого он ещё не совпадал для него с обезьяной. Напротив: то был первообраз человека, выражение его высших и сильнейших побуждений, человека как воодушевлённого мечтателя, приведённого в восторг близостью бога, — сердобольного товарища, в котором отражаются муки божества, вещателя мудрости из глубин природного лона, олицетворения полового всемогущества природы, к которому грек привык относиться с благоговейным изумлением. Сатир был чем-то возвышенным и божественным; таковым он должен был в особенности представляться затуманенному печалью взору дионисического человека. Его бы оскорбил вид разряженного, лживо измышлённого пастуха: на неприкрытых и беззаботно величественных письменах природы покоился его взор с возвышенным удовлетворением; здесь иллюзия культуры была стёрта с первообраза человека, здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, ликующий пред ликом своего бога. По сравнению с ним культурный человек сморщивался в лживую карикатуру. И по отношению к этим началам трагического искусства Шиллер прав: хор — живая стена, воздвигнутая против напора действительности, ибо он — хор сатиров — отражает бытие с большей полнотой, действительностью и истиной, чем обычно мнящий себя единственною реальностью культурный человек. Сфера поэзии лежит не вне пределов мира, как фантастическая невозможность, порождённая поэтически настроенной головой: она стремится быть чем-то прямо противоположным этой невозможности, неприкрашенным выражением истины, и оттого-то и должна отбрасывать лживый наряд мнимой действительности культурного человека. Контраст этой подлинной истины природы и культурной лжи, выдающей себя за единственную реальность, подобен контрасту между вечным ядром вещей, вещью в себе, и всей совокупностью мира явлений: и как трагедия с её метафизическим утешением указует на вечную жизнь этого ядра бытия при непрестанном уничтожении явлений, так уже и символика сатирического хора выражает в подобии это изначальное отношение между вещью в себе и явлением. Упомянутый нами идиллический пастух, созданный современными людьми, представляет лишь точное изображение суммы книжных иллюзий, принимаемых ими за природу; дионисический грек ищет истины и природы в её высшей мощи — он чувствует себя заколдованным в сатира.
Охваченная такими настроениями и проникнутая такими познаниями, ликует и носится толпа служителей Диониса, могущество которого изменило их в их собственных глазах: они как бы видят в себе вновь возрождённых гениев природы — сатиров. Позднейший состав хора трагедии есть искусственное подражание этому естественному феномену; при этом, конечно, стало необходимым отделение дионисических зрителей от зачарованных Дионисом. Но только при этом нужно всегда иметь в виду, что публика аттической трагедии узнавала себя в хоре орхестры, что в сущности никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо всё являло собою лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров или людей, которых представляли эти сатиры. Шлегелевское изречение получает для нас теперь новый и более глубокий смысл. Хор — «идеальный зритель», поскольку он единственный созерцатель — созерцатель мира видений сцены. Публика зрителей в том виде, как мы её знаем, была незнакома грекам: в их театрах — с концентрическими дугами повышавшихся террасами мест, отведённых зрителям, — каждый мог безусловно отвлечься от всего окружающего его культурного мира и в насыщенном созерцании мнить себя хоревтом. С этой точки зрения мы имеем право назвать хор, на примитивной его ступени в первобытной трагедии, самоотражением дионисического человека, — каковой феномен лучше всего прослеживается в актёре, который, при действительном даровании, видит образ исполняемой им роли с полной ясностью, как нечто осязаемое, перед своими глазами. Хор сатиров есть прежде всего видение дионисической массы, как в свою очередь мир сцены есть видение этого хора сатиров; сила этого видения достаточна, чтобы сделать наш взор тупым и невосприимчивым к впечатлению «реальности», к культурным людям, расположившимся вокруг на местах для зрителей. Форма греческого театра напоминает уединённую горную долину: архитектура сцены представляется картиной пронизанных светом облаков, созерцаемой с высоты носящимися по горам вакхантами; в этой дивной обстановке встаёт перед ними образ Диониса.
Это основное художественное явление, которое мы привлекли здесь для объяснения хора трагедии, представляется с точки зрения наших учёных воззрений на элементарные художественные процессы почти что неприличным; между тем ничто не может быть достовернее, чем то, что поэт только тогда и поэт, если видит себя окружённым образами, живущими и действующими перед его глазами, и созерцает их сокровеннейшую сущность. Ввиду одной характерной для наших современных способностей слабости мы склонны представлять себе эстетический первофеномен слишком сложным и абстрактным. Метафора для подлинного поэта — не риторическая фигура, но замещающий образ, который действительно носится перед ним, замещая понятия. Характер для него не есть некоторое, сложенное из отовсюду подысканных черт, целое, но навязчиво живущее перед его глазами живое лицо, отличающееся от подобного же видения живописца лишь непрерывностью его дальнейшей жизни и дальнейшего действия. Почему описания Гомера так превосходят своей наглядностью описания других поэтов? Потому, что он больше видит. Мы говорим о поэзии в таких абстрактных выражениях именно потому, что все мы обычно плохие поэты. В сущности, эстетический феномен прост; надо только иметь способность постоянно видеть перед собой живую игру и жить непрестанно окружённым толпою духов — при этом условии будешь поэтом; стоит только почувствовать стремление превращаться в различные образы и говорить из других душ и тел — и будешь драматургом.
Дионисическое возбуждение способно сообщить целой массе это художественное дарование, этот дар видеть себя окружённым толпой духов и чувствовать своё внутреннее единство с нею. Этот процесс трагического хора есть драматический первофеномен: видеть себя самого превращённым и затем действовать, словно ты действительно вступил в другое тело и принял другой характер. Этот процесс стоит во главе развития драмы. Здесь происходит нечто другое, чем с рапсодом, который не сливается со своими образами, но, подобно живописцу, видит их вне себя созерцающим оком; здесь налицо отказ от своей индивидуальности через погружение в чужую природу. И при этом названный феномен выступает эпидемически: целая толпа чувствует себя зачарованной таким образом. Поэтому дифирамб по существу своему отличен от всякого другого хорового пения. Девы, торжественно шествующие с ветвями лавра в руках ко храму Аполлона и поющие при этом торжественную песнь, остаются тем, что они есть, и сохраняют свои имена гражданок: дифирамбический хор есть хор преображённых, причём их гражданское прошлое, их социальное положение совершенно забываются. Они стали вневременными, вне всяких сфер общества живущими служителями своего бога. Вся остальная хоровая лирика эллинов есть только огромное усиление роли единичного аполлонического певца; между тем как в дифирамбе мы имеем перед собой общину бессознательных актёров, которые смотрят и на себя, и друг на друга как на преображённых.
Очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства. Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром и затем, как сатир, видит бога, т. е. в своём превращении зрит новое видение вне себя, как аполлоническое восполнение его состояния. С этим новым видением драма достигает своего завершения.
На основании всего нами узнанного мы должны представлять себе греческую трагедию как дионисический хор, который всё снова и снова разряжается аполлоническим миром образов. Партии хора, которыми переплетена трагедия, представляют, таким образом, в известном смысле материнское лоно всего так называемого диалога, т. е. совокупного мира сцены, собственно драмы. В целом ряде следующих друг за другом разряжений эта первооснова трагедии излучает вышеуказанное видение драмы, которое есть исключительно сновидение и в силу этого имеет эпическую природу, но, с другой стороны, как объективация дионисического состояния, представляет собой не аполлоническое спасение в иллюзии, а, напротив, разрушение индивидуальности и объединение её с изначальным бытием. Таким образом, драма есть аполлоническое воплощение дионисических познаний и влияний и тем отделена от эпоса как бы огромной пропастью.
Хор греческой трагедии, символ дионисически возбуждённой массы в её целом, находит в этом нашем воззрении своё полное объяснение. В то время как мы — исходя из той роли, которую играет хор на современной сцене, в особенности в опере, — совершенно не могли понять, каким образом трагический хор греков может быть древнее, первоначальнее и даже важнее собственного «действия», что нам, однако, ясно указано в предании; в то время как мы опять-таки не могли совместить в своём представлении утверждаемую преданием высокую его важность и первоначальность с тем обстоятельством, что он тем не менее состоит из одних низких служебных существ, первоначально даже из козлообразных сатиров; в то время как орхестра перед сценой оставалась для нас всегда загадкой, — теперь мы пришли к пониманию того, что сцена совместно с происходящим на ней действием в сущности и первоначально была задумана как видение и что единственной «реальностью» является именно хор, порождающий из себя видение и говорящий о нём всею символикою пляски, звуков и слова. Этот хор созерцает в видении своего господина и учителя — Диониса, и поэтому он извечно — хор служителей: он видит, как бог страждет и возвеличивается, и поэтому сам не принимает участия в действии. При этом решительно служебном по отношению к богу положении он всё же остаётся высшим и именно дионисическим выражением природы и изрекает поэтому в своём вдохновении, как и она, слова мудрости и оракулы; как сострадающий, он в то же время и мудрый, из глубин мировой души вещающий истину. Таким образом возникает эта фантастическая и представляющаяся столь странной и предосудительной фигура мудрого и вдохновенного сатира, который в противоположность богу есть в то же время «простец» — отображение природы и её сильнейших порывов, даже символ её и вместе с тем провозвестник её мудрости и искусства: музыкант, поэт, плясун и духовидец в одном лице.
Диониса, доподлинного героя сцены и средоточия видения, соответственно этому анализу и сообразно преданию вначале, в наидревнейший период трагедии, в действительности нет налицо, он лишь предполагается как наличный, т. е. первоначально трагедия есть только «хор», а не «драма». Позднее делается опыт явить бога в его реальности и представить образ видения, вместе со всей преображающей обстановкой его, как видимый всем взорам — тем самым возникает «драма» в более узком смысле. Теперь на долю дифирамбического хора выпадает задача поднять настроение зрителей до такой высоты дионисического строя души, чтобы они, как только на сцене появится трагический герой, усмотрели в нём не уродливо замаскированного человека, но как бы рождённое из их собственной зачарованности и восторга видение. Представим себе Адмета, в глубоком размышлении вспоминающего о своей недавно почившей жене Алкесте и снедаемого тоскою в духовном созерцании её, — и вот, внезапно к нему подводят похожую по виду и по походке закутанную женщину; представим себе внезапно охватывающее его трепетное беспокойство, его бурное сравнивание, его инстинктивную уверенность — нашему взору предстанет нечто аналогичное тому ощущению, с которым дионисически возбуждённый зритель созерцал шествовавшего по сцене бога, чьи страдания он уже воспринимал как собственные. Непроизвольно переносил он весь этот магически трепетавший перед его душой образ божества на замаскированную фигуру и как бы разрешал её реальность в некоторую призрачную недействительность. Здесь мы имеем аполлоническое состояние сна, в котором дневной мир затуманивается, и перед нашими очами в постоянной смене вновь и вновь рождается другой мир, более отчётливый, более понятный, более поразительный, чем тот прежний мир, и всё же подобный тени. На основании сказанного мы замечаем в трагедии последовательно проведённую противоположность стилей: язык, окраска, движение, динамика речи совершенно расходятся в дионисической лирике хора, с одной стороны, и в аполлоническом мире снов на сцене, как в двух отдельных сферах выражения. Аполлонические явления, в которых объективируется Дионис, не представляют уже «вечного моря, непрестанной смены, пылающей жизни», как музыка хора; это уже не те данные лишь в ощущении, не сгущённые ещё в образ силы, в которых вдохновенный служитель Диониса чует приближение бога, — теперь со сцены говорит отчётливость и устойчивость эпических образов, теперь Дионис ведёт свою речь уже не через посредство сил, но как эпический герой, почти языком Гомера.
9
Всё, что в аполлонической части греческой трагедии, в диалоге, выступает на поверхность, имеет простой, прозрачный, прекрасный вид. В этом смысле диалог есть отображение эллина, природа которого открывается в пляске, ибо в пляске наивысшая сила лишь потенциальна, хотя и выдаёт себя в гибкости и роскоши движений. Поэтому речь софокловских героев и поражает нас своей аполлонической определённостью и ясностью, так что нам кажется, что мы сразу проникаем в сокровеннейшую сущность их естества и при этом несколько удивлены, что дорога к этой сущности так коротка. Но если отвлечься на время от этого выступающего на поверхность и явного характера героя, который, в сущности, не более как брошенный на тёмную стену световой образ, т. е. сплошное явление, — если, напротив, проникнуть в миф, проекцией которого являются эти светлые отражения, то мы переживаем внезапно феномен, стоящий в обратном отношении к одному известному оптическому явлению. Когда после смелой попытки взглянуть на солнце мы, ослеплённые, отвращаем взор, то, подобно целебному средству, перед нашими глазами возникают тёмные пятна; наоборот, явление световых образов софокловских героев — короче, аполлоническая маска — есть необходимое порождение взгляда, брошенного в страшные глубины природы, как бы сияющие пятна, исцеляющие взор, измученный ужасами ночи. Только в этом смысле мы можем решиться утверждать, что правильно поняли строгое и значительное понятие «греческая весёлость», между тем как на всех путях и перекрёстках современности мы постоянно встречаемся с ложно воспринятым понятием этой весёлости в форме ничем не нарушаемого благополучия.
Наиболее отягчённый страданиями образ греческой сцены, злосчастный Эдип, был задуман Софоклом как тип благородного человека, который, несмотря на всю его мудрость, предназначен к заблуждениям и к бедствиям, но в конце концов безмерностью своих страданий становится источником магической благодати для всего, что его окружает, — благодати, не теряющей своей действительности даже после его кончины. Благородный человек не согрешает, — вот что хочет нам сказать глубокомысленный поэт; пусть от его действий гибнут всякий закон, всякий естественный порядок и даже нравственный мир — этими самыми действиями очерчивается более высокий магический круг влияний, создающих на развалинах сокрушённого старого мира мир новый. Это хочет сказать нам поэт, поскольку он вместе с тем и религиозный мыслитель: как поэт он с самого начала показывает нам изумительно завязанный узел процесса, разрешая который судья шаг за шагом медленно движется к собственной гибели; чисто эллинское наслаждение диалектикой этого разрешения столь велико, что от него лежит на всём произведении какой-то налёт высокомерной весёлости, отбивающий везде острия у ужасающих предпосылок этого процесса. В «Эдипе в Колоне» мы находим ту же весёлость, но внесённую в бесконечное просветление; удручённому чрезмерностью бедствий старцу, который во всём, что с ним случается, представляет исключительно страдательное лицо, противопоставлена — неземная радостность, нисходящая из божественной сферы и указующая нам, что герой в своём чисто пассивном отношении достиг высшей активности, простирающейся далеко за пределы его жизни, между тем как вся его сознательная деятельность и стремления в прошлой жизни привели его лишь к пассивности. Так для взора смертного медленно распутывается неразрешимо запутанный узел процесса легенды об Эдипе — и глубочайшая человеческая радость охватывает нас при этом божественном подобии диалектики. Если в этом объяснении мы точно передали намерение поэта, то всё же может ещё возникнуть вопрос, исчерпали ли мы тем содержание мифа, и тогда окажется, что всё воззрение поэта — не что иное, как тот упомянутый выше световой образ, который целительница-природа воздвигает перед нами после того, как мы бросили взгляд в бездну. Эдип — убийца своего отца, муж своей матери, Эдип — отгадчик загадок сфинкса! Что говорит нам таинственная троичность этих роковых дел? Существует древнее, по преимуществу персидское, народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения; по отношению к разрешающему загадки и вступающему в брак со своей матерью Эдипу можем мы тотчас же истолковать себе это в том смысле, что там, где пророческими и магическими силами разбиты власть настоящего и будущего, неизменный закон индивидуации и вообще чары природы, — причиной этому могла быть лишь необычайная противоестественность, так же как в том персидском поверье кровосмешение; ибо чем можно было бы понудить природу выдать свои тайны, как не тем, что победоносно противостоит ей, т. е. совершает нечто противоестественное? Это познание выражено, на мой взгляд, в упомянутой выше ужасающей тройственности судеб Эдипа: тот, кто разрешил загадку природы — этого двуобразного сфинкса, — должен был нарушить и её священнейшие законоположения, как убийца своего отца и супруг своей матери. Мало того, миф как бы таинственно шепчет нам, что мудрость, и именно дионисическая мудрость, есть противоестественная скверна, что тот, кто своим знанием низвергает природу в бездну уничтожения, на себе испытывает это разложение природы. «Острие мудрости обращается против мудреца; мудрость — преступное действие по отношению к природе» — вот те страшные положения, с которыми обращается к нам миф; но эллинский поэт, как луч солнца, прикасается к величественной и страшной Мемноновой статуе мифа, и она внезапно начинает звучать — софокловскими мелодиями!
Лучезарному венцу пассивности я противопоставлю теперь венец активности, сияющий вокруг главы эсхиловского Прометея. То, что мыслитель Эсхил имел нам сказать здесь, но что как поэт он даёт нам лишь почувствовать в своём символическом образе, молодой Гёте сумел открыть нам в смелых словах своего Прометея:
Я здесь сижу, творю людей
По своему подобию,
Мне равное по духу племя —
Страдать и слёзы лить,
И ликовать и наслаждаться,
И ни во что тебя не ставить,
Как я!
Человек, поднявшийся до титанического, сам завоёвывает себе свою культуру и принуждает богов вступить с ним в союз, ибо в своей самоприобретённой мудрости он держит в руке их существование и пределы. Но самое удивительное в этой драме о Прометее, по основной мысли своей подлинно представляющей гимн неблагочестия, — это глубокая эсхиловская жажда справедливости: неизмеримое страдание смелого «одиночника», с одной стороны, и нужда богов, даже предчувствие их сумерек — с другой, понуждающая к примирению, к метафизическому объединению мощь этих миров страдания, — всё это сильнейшим образом напоминает средоточие и основное положение эсхиловского мировоззрения, усматривающего вечную правду, царящую над богами и людьми, Мойру. При суждении об изумительной смелости, с которой Эсхил кладёт олимпийский мир на весы своей справедливости, мы всегда должны помнить, что глубокомысленный грек имел в своих Мистериях устойчивую и крепкую подпочву метафизического мышления и что в случае припадков скептицизма он мог облегчать свою душу на олимпийцах. Греческий художник в особенности испытывал по отношению к этим божествам тёмное чувство взаимной зависимости, и именно в Прометее Эсхила символизировано это чувство. Титанический художник носил в себе упрямую веру в свои силы создать людей, а олимпийских богов по меньшей мере уничтожить, и это путём своей высшей мудрости, за каковую, правда, он принуждён был расплачиваться вечным страданием. Дивная «творческая сила» великого гения, за которую недорого было заплатить даже и вечным страданием, суровая гордость художника, — вот в чём душа и содержание эсхиловской поэзии, между тем как Софокл в своём Эдипе, прелюдируя, запевает победную песнь святого. Но и в том толковании, которое Эсхил даёт мифу, не исчерпана его изумительная и ужасающая глубина: художническая радость становления, пренебрегающая всякими бедствиями весёлость художественного творчества — скорее светлый, облачный и небесный образ, играющий на поверхности чёрного озера печали. Сказание о Прометее — исконная собственность всей семьи арийских народов и документ, свидетельствующий об их одарённости сознанием глубокомысленно-трагического, и даже не лишено вероятности, что этот миф имеет для определения сущности всего арийского мира такое же характерное значение, как миф о грехопадении для всего семитического, и что оба мифа находятся между собою в той же степени родства, как и брат с сестрой.
Предпосылкой мифа о Прометее является та чрезмерная ценность, которую наивное человечество придаёт огню как истинному палладиуму всякой растущей культуры; но то, что человек свободно распоряжается огнём и получает его не только как дар небес, в зажигающей молнии и согревающем пламени солнца, — это представлялось созерцательности первобытного человека злодеянием, ограблением божественной природы. И таким образом, с самого начала первая же философская проблема ставит мучительно неразрешимое противоречие между человеком и богом и подкатывает его, как камень, к воротам всякой культуры. Лучшее и высшее, чего может достигнуть человечество, оно вымогает путём преступления и затем принуждено принять на себя и его последствия, а именно всю волну страдания и горестей, которую оскорблённые небожители посылают, должны послать, на благородное, стремящееся ввысь человечество, — суровая мысль, странно отличающаяся по тому достоинству, которое она придаёт преступлению, от семитического мифа о грехопадении, где любопытство, лживость притворства, склонность к соблазну, похотливость — короче, ряд женских аффектов по преимуществу — рассматриваются как источник зла. То, что отличает арийское представление, — это возвышенный взгляд на активность греха как на прометеевскую добродетель по существу, причём тем самым найдена этическая подпочва пессимистической трагедии — как оправдание зла в человечестве, и притом как человеческой вины, так и неизбежно следующего за ней страдания. Несчастье, коренящееся в сущности вещей, которого созерцательный ариец не склонен отрицать путём кривотолков, противоречие, лежащее в самом сердце мира, открывается ему как взаимное проникновение двух различных миров, например божественного и человеческого, из коих каждый как индивид прав, но, будучи отдельным и рядом с каким-либо другим, неизбежно должен нести страдание за свою индивидуацию. При героическом порыве отдельного ко всеобщности, при попытке шагнуть за грани индивидуации и самому стать единым существом мира — этот отдельный на себе испытывает скрытое в вещах изначальное противоречие, т. е. он вступает на путь преступлений и страданий. Так, арийцы представляют себе грех как мужа, семиты — вину как женщину; изначальный грех был совершён мужем, а изначальную вину допустила женщина. А впрочем — недаром поёт хор колдунов:
Ещё довольно это спорно,
Как ваша баба ни проворна,
Её мужчина, хоть и хром,
Опередит одним прыжком.(Гёте)
Кому понятно это сокровеннейшее ядро сказания о Прометее — а именно заповеданная титанически стремящемуся индивиду необходимость преступления, — тот должен ощутить вместе с тем и неаполлонический элемент этого пессимистического представления: ибо Аполлон тем и хочет привести отдельные существа к покою, что отграничивает их друг от друга, и тем, что он постоянно всё снова и снова напоминает об этих границах как о священнейших мировых законах своими требованиями самопознания и меры. Но дабы при этой аполлонической тенденции форма не застыла в египетской окоченелости и холодности, дабы в стараниях предписать каждой отдельной волне её путь и пределы не замерло движение всего озера, — прилив дионисизма время от времени снова разрушал все эти маленькие круги, в которые односторонне аполлоническая «воля» стремилась замкнуть эллинский мир. Этот внезапно подымавшийся прилив дионисизма брал тогда на себя отдельные маленькие валы индивидов, как брат Прометея, титан Атлант, — небесный свод.
Титаническое стремление стать как бы Атлантом всех отдельных существ и на сильных плечах нести их всё выше и выше, всё дальше и дальше и есть то, что объединяет прометеевское начало с дионисическим. Эсхиловский Прометей в этом отношении — дионисическая маска, между тем как в упомянутой выше глубокой склонности Эсхила к справедливости выдаёт себя в глазах понимающих людей его происхождение от Аполлона, бога индивидуации и границ справедливости. И таким образом, двойственная сущность эсхиловского Прометея, его одновременно дионисическая и аполлоническая природа, может быть в отвлечённой формуле выражена приблизительно нижеследующим образом: «Всё существующее и справедливо и несправедливо — и в обоих видах равно оправдано».
Таков твой мир! И он зовётся миром! —
10
Неопровержимое предание утверждает, что греческая трагедия в её древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса и что в течение довольно продолжительного времени единственный сценический герой был именно Дионис. Однако с той же степенью уверенности можно утверждать, что никогда, вплоть до Еврипида, Дионис не переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые фигуры греческой сцены — Прометей, Эдип и т. д. — являются только масками этого первоначального героя — Диониса. То, что за всеми этими масками скрывается божество, представляет одно из существенных оснований для вызывавшей столь часто удивление типичной «идеальности» этих знаменитых фигур. Не помню, кто утверждал, что все индивиды, как индивиды, комичны и посему непригодны для трагедии, из чего пришлось бы заключить, что греки вообще не могли выносить индивидов на трагической сцене. И действительно, их чувство было, по-видимому, таково; да и вообще это платоновское различение и оценка «идеи» в её противоположности к «идолу», к отображению, коренится в глубочайшем существе эллинизма. Если мы вздумаем воспользоваться терминологией Платона, то о трагических образах эллинской сцены можно было бы сказать приблизительно следующее: единственный действительно реальный Дионис является во множественности образов, под маской борющегося героя, как бы запутанный в сети индивидуальной воли. И как только этот являющийся бог начинает говорить и действовать, он получает сходство с заблуждающимся, стремящимся, страдающим индивидом, а то, что он вообще является с такой эпической определённостью и отчётливостью, есть результат воздействия толкователя снов — Аполлона, истолковывающего хору его дионисическое состояние через посредство указанного символического явления. В действительности же герой сцены есть сам страдающий Дионис мистерий, тот на себе испытывающий страдания индивидуации бог, о котором чудесные мифы рассказывают, что мальчиком он был разорван на куски титанами и в этом состоянии ныне чтится как Загрей; при этом намекается, что это раздробление, представляющее дионисическое страдание по существу, подобно превращению в воздух, воду, землю и огонь, что, следовательно, мы должны рассматривать состояние индивидуации как источник и первооснову всякого страдания, как нечто само по себе достойное осуждения. Из улыбки этого Диониса возникли олимпийские боги, из слёз его — люди. В этом существовании раздробленного бога Дионис обладает двойственной природой жестокого, одичалого демона и благого, кроткого властителя. Надежда эпоптов была связана с возрождением Диониса, которое мы в настоящее время должны истолковывать себе как предчувствие конца индивидуации; в честь этого грядущего третьего Диониса гремел бурный, ликующий гимн эпоптов. И только эта надежда может вызвать луч радости на лице разорванного, разбитого на индивиды мира, что и олицетворено мифом о погруженной в вечную печаль Деметре, которая впервые вновь познала радость лишь тогда, когда ей сказали, что она может ещё раз родить Диониса. В приведённых нами воззрениях мы уже имеем в наличности все составные части глубокомысленного и пессимистического мировоззрения и вместе с тем мистериальное учение трагедии — основное познание о единстве всего существующего, взгляд на индивидуацию как изначальную причину зла, а искусство — как радостную надежду на возможность разрушения заклятия индивидуации, как предчувствие вновь восстановленного единства. —
Мы уже раньше намекнули на то, что гомеровский эпос есть то поэтическое творение олимпийской культуры, в котором она спела свою песнь победы над ужасами борьбы с титанами. Теперь, при первенствующем влиянии трагической поэзии, гомеровские мифы вновь перерождаются и удостоверяют этой метемпсихозой, что тем временем и олимпийская культура была побеждена некоторым ещё более глубоким миропониманием. Упорный титан Прометей возвестил своему олимпийскому мучителю, что его власть со временем подвергнется высшей опасности, если он своевременно не вступит с ним в союз. В Эсхиле мы узнаём союз испуганного, трепещущего за свой конец Зевса с Титаном. Таким образом минувший век титанов снова, как дополнение, поднимается из мрака Тартара на свет. Философия дикой и нагой природы обращает к проносящемуся мимо неё хороводу мифов гомеровского мира непокровенный лик истины: они бледнеют, они дрожат перед молниеносным оком этой богини, пока могучая рука дионисического художника не принудит их наконец выступить служителями нового божества. Дионисическая истина овладевает всей областью мифа как символикой её познаний и выражает эти последние частью в доступном для всех культе трагедии, частью в таинственных отправлениях драматических празднеств мистерий, но как тут, так и там, под покровом старого мифа. Что это была за сила, освободившая Прометея от его коршунов и обратившая миф в носителя дионисической мудрости? То была равная по силе Гераклу мощь музыки; достигнув в трагедии своего высшего проявления, она сумела истолковать миф, придав ему новую глубокомысленную значительность; на это мы уже раньше указывали как на характерное в своей могущественности свойство музыки. Ибо такова судьба каждого мифа, что он постепенно как бы вползает в тесную оболочку мнимо исторической действительности и затем воспринимается какой-либо позднейшей эпохой, подходящей к нему с историческими запросами, как однажды бывший факт, и греки уже окончательно были на пути к остроумной и произвольной переделке всего мифического сна, приснившегося их юности, в историко-прагматическое сказание об этой юности. Ибо таким образом обычно и отмирают религии, а именно, когда мифические предпосылки какой-нибудь религии под строгим, рассудочным руководством ортодоксального догматизма систематизируются как готовая сумма исторических событий и когда начинают боязливо защищать достоверность этих мифов, но в то же время всячески противиться их дальнейшему естественному разрастанию и дальнейшей их жизни, когда, таким образом, отмирает чутьё к мифу и на его место вступает претензия религии на исторические основы. Этот отмирающий миф и был теперь охвачен новорождённым гением дионисической музыки, и в его руке он ещё раз расцвёл красками, каких он ещё никогда не являл, ароматом, пробуждающим томительное предчувствие некоего метафизического мира. После этого последнего выблеска он падает, листья его вянут, и вскоре насмешливые Лукианы древности начинают ловить гонимые всеми ветрами, поблекшие, измятые цветы. В трагедии миф раскрывает своё глубочайшее содержание, находит свою выразительнейшую форму; в трагедии он ещё раз подымается, как раненый герой, и весь сохранившийся ещё остаток силы вместе с мудрым спокойствием умирающего загорается в его очах последним могучим светом.
Что тебе нужно было, кощунствующий Еврипид, когда ты пытался ещё раз принудить этого умирающего к рабскому труду на пользу тебе? Он умер в твоих руках — руках насильника, и вот ты пустил в дело подложный, маскированный миф, который, как обезьяна Геракла, только рядился в древнее великолепие. И как для тебя умер миф, так умер для тебя и гений музыки; как бы ни грабил ты жадными руками все сады музыки, ты и тут был в силах создать только поддельную, маскированную музыку. И так как ты покинул Диониса, то и Аполлон покинул тебя: буди, поднимай с их ложа все страсти, замыкай их своими чарами в свой круг, точи и налаживай для речей своих героев софистическую диалектику — и у героев твоих только поддельные, маскированные страсти, и они говорят только поддельным, маскированным языком.
11
Греческая трагедия испытала другой конец, чем более древние родственные ей виды искусства: она покончила самоубийством вследствие неразрешимого конфликта, — следовательно, трагически, между тем как те, достигнув преклонного возраста, опочили все прекраснейшей и тихой смертью. Если вообще сообразно счастливому природному состоянию — покидать жизнь без мучительной агонии и оставляя по себе прекрасное потомство, то конец всех этих старейших родов искусства являет нам такое счастливое природное состояние: они тихо погружались в небытие, и перед их гаснущими очами уже стояли прекрасные молодые отпрыски и в смелом движении бодро и нетерпеливо поднимали свои головы. По смерти греческой трагедии возникала, напротив, огромная, повсюду глубоко ощущаемая пустота; как однажды греческие мореходцы во времена Тиберия услыхали с одинокого острова потрясающий вопль: «Великий Пан умер», так теперь слышалась во всем эллинском мире печальная, мучительная жалоба: «Умерла трагедия! Сама поэзия пропала вместе с нею! Прочь, прочь ступайте, вы — пропащие тощие эпигоны! Ступайте в обитель Аида, чтобы там хоть раз досыта наесться крохами былых художников!»
Но когда, несмотря на всё, расцвёл-таки ещё новый род искусства, почитавший трагедию за свою предшественницу и учительницу, то со страхом можно было заметить, что он действительно похож чертами на свою мать, но теми чертами, которые она являла в долгой своей агонии. Эта агония трагедии — Еврипид, тот более поздний род искусства известен как новейшая аттическая комедия. В ней выродившийся образ трагедии продолжал жить как памятник её из ряда вон тяжкой и насильной кончины.
В этой связи становится понятной та страстная тяга, которую авторы новейшей комедии питали к Еврипиду; так что не представляется особенно удивительным желание, выраженное Филемоном, который соглашался тотчас быть повешенным, только бы иметь возможность навестить в преисподней Еврипида, — впрочем, в том лишь случае, если бы он мог быть уверенным, что покойный и теперь еще сохранил свой ум. Но если мы пожелаем в немногих словах и без всякой претензии сказать нечто исчерпывающее, обозначить то, что у Еврипида было общего с Менандром и Филемоном и что для этих последних являлось в нём столь заслуживающим подражания, то достаточно будет сказать, что Еврипидом был выведен на сцену зритель. Тому, кто понял, из какого материала лепили прометеевские трагики до Еврипида своих героев и как далеко было от них намерение выводить на сцену точную маску действительности, будет безусловно ясна и отклоняющаяся в совершенно другую сторону тенденция Еврипида. Человек, живущий повседневной жизнью, проник при его посредстве со скамьи для зрителей на сцену; зеркало, отражавшее прежде лишь великие и смелые черты, стало теперь к услугам той кропотливой верности, которая добросовестно передаёт и неудачные линии природы. Одиссей, типичный эллин древнейшего искусства, опустился теперь под руками новейших поэтов до фигуры graeculus'a, представляющего отныне в качестве добродушно-пронырливого домашнего раба средоточие драматического интереса. То, что Еврипид ставит себе в заслугу в «Лягушках» Аристофана, а именно что он вылечил своими домашними средствами трагическое искусство от его помпезной тучности, можно прежде всего почувствовать на его собственных трагических героях. В общем зритель видел и слышал теперь на еврипидовской сцене своего двойника и радовался тому, что этот последний умел так красиво говорить. Но одной только радостью не довольствовались: у Еврипида зритель учился сам говорить, чем Еврипид и хвастается в состязании с Эсхилом: от него, мол, научился теперь народ искусно и при помощи хитрейших софизмов наблюдать, рассуждать и делать выводы. Этим переворотом в общественной речи он вообще сделал новейшую комедию возможной. Ибо с этих самых пор перестало быть тайной, как и с помощью каких сентенций повседневная жизнь может быть представлена на сцене. Мещанская посредственность, на которой Еврипид строил все свои политические надежды, получила теперь право речи, между тем как дотоле характер речей определялся в трагедии полубогом, в комедии — пьяным сатиром или получеловеком. И поэтому аристофановский Еврипид похваляется, как он изобразил всеобщую, знакомую всем, повседневную жизни с её суетой, о которой каждый способен высказать своё суждение. И если теперь вся масса философствует и с неслыханной рассудительностью распоряжается своим достоянием и ведёт свои процессы, то это — его заслуга и результат привитой им народу мудрости.
К подобным образом подготовленной и просвещённой массе смело могла теперь обратиться новейшая комедия, для которой Еврипид стал в известном смысле учителем хора, но только на этот раз приходилось обучать хор зрителей. Как только последний научился петь в еврипидовской тональности, выступил вперёд этот похожий на шахматную игру род драмы — новейшая комедия с её непрерывным торжеством хитрости и пронырства. Еврипида же — учителя хора — непрестанно хвалили; мало того — готовы были убить себя, чтобы ещё большему от него научиться, если бы только не знали, что трагические поэты так же мертвы, как и трагедия. А с этой последней эллин потерял и веру в своё бессмертие, не только веру в некоторое идеальное прошлое, но и веру в некоторое идеальное будущее. Слова известной надгробной надписи: «Старцем — легкомыслен и причудлив» — справедливы и по отношению к старческой поре эллинизма. Минута, острота, легкомыслие, причуда — вот его высшие божества; пятое сословие — сословие рабов — получает теперь господство по крайней мере в отношении душевного строя, и если вообще теперь ещё можно говорить о «греческой весёлости», то это — веселье раба, не знающего никакой тяжёлой ответственности, не стремящегося ни к чему великому, не умеющего ценить что-либо прошлое или будущее выше настоящего. Эта иллюзия «греческой весёлости» и была тем, что возмущало вдумчивые и грозные натуры первых четырёх веков христианства: им это женственное бегство от всего строгого и страшного, это трусливое довольство привольем наслаждения казалось не только достойным презрения, но и антихристианским по существу строем души. И их влиянию нужно приписать, что из столетия в столетие переходящее и продолжающее жить воззрение на греческую древность с почти непреодолимым упорством удерживает эту розоватую в своей окраске весёлость, — словно и не было шестого века с его рождением трагедии, его мистериями, его Пифагором и Гераклитом, словно художественные создания великого времени и вовсе отсутствовали — произведения, из которых каждое, взятое в отдельности, решительно необъяснимо на почве подобного старческого и рабского наслаждения существованием и предполагает наличность совершенно другого миропонимания как основание своего появления.
Моё последнее утверждение, что Еврипид ввёл зрителя на сцену, чтобы тем самым дать зрителям и возможность с действительным пониманием дела произнести своё суждение о драме, может вызвать мнение, что старое трагическое искусство так и не нашло исхода из некоторого неправильного отношения к зрителю; и легко можно впасть в искушение и начать расхваливать радикальную тенденцию Еврипида, направленную на установление надлежащего отношения между художественным произведением и публикой, усматривая в ней шаг вперёд по отношению к Софоклу. Но дело в том, что «публика» — только слово, а решительно не однородная и пребывающая неизменной в себе величина. Что должно обязывать художника прилаживаться к силе, могущество которой основано только на численности? И если он в своём даровании и в своих намерениях чувствует превосходство над каждым из этих зрителей в отдельности, то как может он испытывать большее уважение к совокупному выражению всех этих подчинённых ему умов, чем к относительно наиболее одарённому отдельному зрителю? В действительности ни один греческий художник не обращался со своей публикой с большей дерзостью и самодовольством, чем Еврипид за долгие годы своей жизни: он, который даже тогда, когда масса пала к его ногам, с возвышенной смелостью открыто насмеялся над своей собственной тенденцией — той самой, которая доставила ему победу над массой. Если бы этот гениус имел малейшее благоговение перед пандемониумом публики, то он задолго до половины своего пути пал бы, сокрушённый, под ударами своих неудач.
Из этих соображений мы усматриваем, что наше утверждение о Еврипиде, будто он ввёл зрителя на сцену, чтобы сделать его способным с действительным знанием дела произносить свои суждения, было только предварительным, и нам надлежит поискать более глубокого объяснения его тенденции. С другой стороны, нам отовсюду известно, что Эсхил и Софокл, в течение всей своей жизни и даже далеко за пределами её, пользовались во всей полноте народным расположением и что, таким образом, у этих предшественников Еврипида отнюдь не может быть речи о несоответствии между художественным произведением и публикой. Что могло так насильственно согнать богато одарённого и непрестанно стремившегося к творчеству художника с того пути, над которым сияли солнца великих имён поэзии и безоблачное небо народного расположения? Что это было за странное внимание к зрителю, которое настроило его против зрителя? Как мог он от столь высокого уважения к своей публике — презирать свою публику?
Еврипид чувствовал себя — таково разрешение только что поставленной нами загадки — поэтом, стоящим выше массы, но не выше двух лиц из числа своих зрителей; массу он ввёл на сцену, в тех двух зрителях он почитал единственных способных вынести правильное решение судей и наставников во всём, что касалось его искусства: следуя их советам и указаниям, он переносил на сцену, в души своих героев весь тот мир ощущений, страстей и переживаний, которые дотоле, как невидимый хор, появлялись на скамьях зрителей при каждом торжественном представлении; их требованиям уступал он, когда искал для этих новых характеров и новых слов, и нового тона; только в их голосах слышались ему законные приговоры о достоинстве его творчества, а также и возвещающее грядущую победу одобрение, когда случалось, что суд публики лишний раз выносил ему обвинительный приговор.
Из этих двух зрителей одним был сам Еврипид — Еврипид как мыслитель, не как поэт. О последнем можно было бы сказать, как и о Лессинге, что необычайная полнота его критического таланта если не вызывала, то по крайней мере постоянно оплодотворяла некоторое побочное продуктивно-художественное стремление. Это дарование, вся эта ясность и быстрота его критического мышления не покидали сидевшего в театре Еврипида, и он напряжённо пытался уловить, разгадать в мастерских произведениях своих великих предшественников, как в потемневших картинах, черту за чертой, линию за линией. И вот при этом с ним случилось нечто, что не должно показаться неожиданным тем, кто посвящены в более глубокие тайны эсхиловской трагедии: он заметил нечто несоизмеримое в каждой черте и в каждой линии, некоторую обманчивую определённость и в то же время некоторую загадочную глубину, даже бесконечность заднего плана. Самая ясная фигура всегда имела за собой, как комета, какой-то хвост, указующий куда-то в неопределённое, неуяснимое. Тот же сумеречный полусвет лежал на всём строении драмы, в особенности на значении хора. И каким сомнительным оставалось для него, в конце концов, разрешение этических проблем! Каким спорным отношение к мифу и обработка его! Каким неравномерным распределение счастья и невзгод! Даже в языке старой трагедии многое казалось ему предосудительным, по меньшей мере загадочным; в особенности наталкивался он на излишнюю торжественность при самых простых отношениях, на преизбыток тропов и чудовищностей при простоте характеров. Так, беспокойный, сидел он в театре, ломая себе голову, и он, зритель, принуждён был сознаться, что не понимает своих великих предшественников.
Но так как рассудок имел для него значение существенного корня всякого наслаждения и всякого творчества, то ему и приходилось спрашивать и оглядываться, нет ли ещё кого, кто бы думал так же, как он, и, подобно ему, сознавал эту несоизмеримость. Но большинство, и в том числе единицы, отделывалось от него недоверчивой улыбкой; объяснить же ему, отчего при всех его сомнениях и возражениях великие мастера всё-таки были правы, никто не мог. И в этом мучительном состоянии он напал на другого зрителя, который не понимал трагедии и поэтому не уважал её. С ним в союзе он мог осмелиться повести яростную борьбу из своего одиночества против художественных творений Эсхила и Софокла — не путём полемических сочинений, но как драматург, который своё представление о трагедии противопоставляет традиционному. —
12
Прежде чем назвать по имени этого другого зрителя, остановимся здесь на мгновение, чтобы вызвать в памяти описанное нами выше впечатление двойственности и несоизмеримости, присущее эсхиловской трагедии. Припомним наше собственное удивление при встрече с хором и трагическим героем этой трагедии; ни того, ни другого мы не могли согласовать ни с нашими привычками, ни с данными предания, пока мы не открыли этой двойственности, данной в самом происхождении и существе греческой трагедии, как выражения двух переплетённых между собой художественных инстинктов — аполлонического и дионисического.
Выделить этот коренной и всемогущий дионисический элемент из трагедии и построить её заново и в полной чистоте на недионисическом искусстве, обиходе и миропонимании — вот в чём заключалась открывающаяся нам теперь в ярком освещении тенденция Еврипида.
Еврипид сам на склоне лет весьма выразительно поставил современникам своим в форме мифа вопрос о ценности и значении этой тенденции. Имеет ли дионисическое начало вообще право на существование? Не следует ли его насильственно и с корнем вырвать из эллинской почвы? Несомненно, говорит нам поэт, если бы только это было возможно. Но бог Дионис слишком могуществен: самый рассудительный противник — каков Пенфей в «Вакханках» — неприметно для него самого поддаётся чарам бога и затем в этом состоянии зачарованности спешит навстречу своей злосчастной судьбе. Суждение обоих старцев, Кадма и Тиресия, по-видимому, есть и суждение старого поэта: размышлениям отдельных лиц, как бы последние ни были умны, не опрокинуть древней народной традиции, этого из поколения в поколение переходящего поклонения Дионису, и следовало бы даже по отношению к таким чудесным силам выказывать по меньшей мере некоторое дипломатически осторожное участие, причём, однако, не исключён и тот случай, что бог найдёт оскорбительным такое прохладное участие и обратит в конце концов дипломата в дракона, что в данном случае и случилось с Кадмом. Это говорит нам поэт, который в течение долгой жизни с героическим напряжением сил боролся с Дионисом, чтобы на склоне этой жизни закончить свой путь прославлением противника и самоубийством, подобно человеку, который, истомлённый головокружением, бросается вниз с башни, чтобы как-нибудь спастись от ужасного, невыносимого дольше вихря. Эта трагедия представляет протест против выполнимости его тенденции; но — увы! — она была уже проведена на деле! Чудесное совершилось: когда поэт выступил со своим отречением, его тенденция уже одержала победу. Дионис уже был прогнан с трагической сцены, а именно некоторой демонической силой, говорившей через Еврипида. И Еврипид был в известном смысле только маской: божество, говорившее его устами, было не Дионисом, не Аполлоном также, но некоторым во всех отношениях новорожденным демоном: имя ему было — Сократ. Здесь мы имеем новую дилемму: дионисическое и сократическое начала, и художественное создание — греческая трагедия — погибло через неё. Напрасно Еврипид старается утешить нас своим отречением, это ему не удаётся: чудеснейший храм лежит в развалинах. Что пользы нам от жалобных криков разрушителя, от его признания, что это был прекраснейший из храмов? И даже то, что Еврипид судьями искусства всех времён в наказание превращён был в дракона, — кого может удовлетворить эта жалкая компенсация? —
Подойдём теперь поближе к этой сократовской тенденции, с помощью которой Еврипид боролся с эсхиловской трагедией и победил её.
Какую цель — так должны мы спросить себя теперь — могло бы вообще иметь еврипидовское намерение основать драму исключительно на недионисическом начале, если бы таковое намерение было проведено им идеальнейшим образом? Какая форма драмы оставалась ещё неиспользованной, если не признавать её рождения из лона музыки в таинственном сумраке дионисизма? Единственно только драматизированный эпос: хотя, конечно, в этой аполлонической области искусства трагическое действие недостижимо. И дело тут не в содержании изображаемых событий: я готов утверждать даже, что Гёте не смог бы в замысленной им «Навсикае» дать трагически потрясающее изображение самоубийства этого идиллического существа, как то было предположено у него в пятом акте; могущество эпически-аполлонического начала столь велико, что самые ужасные вещи под влиянием наслаждения иллюзией и спасения через иллюзию принимают в наших глазах характер чего-то волшебного. Творец драматизированного эпоса так же мало, как эпический рапсод, в состоянии слиться вполне со своими образами: он всегда только спокойно неподвижный, широко раскрытыми очами взирающий созерцатель, для которого образы постоянно перед ним. Актёр в этом драматизированном эпосе остаётся в глубочайшей основе всё ещё рапсодом, священство сокровенных грёз покоится на всех его действиях, так что он никогда не становится вполне актёром.
Итак, в каком же отношении к этому идеалу аполлонической драмы стоит еврипидовская трагедия? В том же отношении, в каком к величественному рапсоду древних времён — тот более молодой рапсод, который излагает нижеследующим образом сущность своего характера в платоновском «Ионе»: «Когда я веду речь о чём-либо печальном, глаза мои наполняются слезами; если же то, что я говорю, страшно и ужасно, то волосы на голове моей встают дыбом от ужаса, и сердце моё бьётся». Здесь мы не видим уже упомянутого выше эпического самопогружения и забвения в иллюзии, лишённой аффектов холодности истинного актёра, который, именно в высшем подъёме своей деятельности, весь иллюзия и радость иллюзии. Еврипид — актёр с бьющимся сердцем, с волосами, вставшими дыбом; как сократический мыслитель — он набрасывает план, как страстный актёр — выполняет его. Но он не бывает чистым художником ни при разработке плана, ни при выполнении его. Поэтому еврипидовская драма в одно и то же время и нечто холодное, и нечто пламенное, равно способное и заморозить, и спалить; она не может достигнуть аполлонического действия эпоса, между тем как, с другой стороны, она порвала, где только можно, со всеми дионисическими элементами, и теперь, чтобы произвести хоть какое-нибудь действие, ей приходится искать новых средств возбуждения, которые, понятно, не могут уже лежать в пределах единственных двух художественных стремлений — аполлонического и дионисического. Этими средствами возбуждения служат холодные парадоксальные мысли — вместо аполлонических созерцаний — и пламенные аффекты — вместо дионисических восторгов, и притом мысли и аффекты, в высшей степени реалистично подделанные, а не погруженные в эфир искусства.
Если, таким образом, нам стало ясно, что Еврипиду вообще не удалось основать драму исключительно на аполлоническом элементе и что его недионисическая тенденция завела его, напротив того, на натуралистическую и антихудожественную дорогу, то мы можем теперь ближе подойти к эстетическому сократизму, верховный закон которого гласит приблизительно так: «Всё должно быть разумным, чтобы быть прекрасным» — как параллельное положение к сократовскому: «Лишь знающий добродетелен». С этим каноном в руке Еврипид измерял каждую частность и выправлял её сообразно этому принципу — язык, характеры, драматургическое построение, хоровую музыку. То, что мы при сравнении с софокловской трагедией столь часто ставим в укор Еврипиду как поэтический недостаток и регресс, есть в большинстве случаев продукт этого упорного критического процесса, этой дерзкой рассудочности. Еврипидовский пролог может послужить нам примером продуктивности названного рационалистического метода. Трудно себе представить что-либо более противоречащее нашей сценической технике, чем пролог в драме Еврипида. Что какое-нибудь действующее лицо выходит в начале пьесы одно на сцену и рассказывает, кого оно из себя представляет, что имело место до сего времени и даже что произойдёт в течение пьесы, — это современный драматург назвал бы причудливым и непростительным пренебрежением эффектами напряженного ожидания. Ведь сообщается всё, что случится; кто же после этого станет сидеть и ждать, пока всё это осуществится в действительности? — ведь здесь ни в коем случае не имеет места действительно возбуждающее отношение вещего сна к наступающей позднее действительности. Совершенно иначе рассуждал Еврипид. Действие трагедии никогда не основывалось на эпическом напряжённом ожидании, на возбуждающей неизвестности того, что произойдёт сейчас или в непродолжительном времени; суть дела заключалась скорее в тех великих риторико-лирических сценах, где страсть и диалектика главного героя разливались широким и могучим потоком. Всё служило подготовлением к пафосу, а не к действию, а что не служило подготовкой к пафосу, то считалось негодным. Но что наиболее мешает свободно отдаться сладостному созерцанию таких сцен, так это те случаи, если зрителю недостаёт какого-нибудь промежуточного звена, если есть разрыв в ткани предшествующих событий; пока зрителю приходится ещё вычислять и соображать, какой смысл может иметь то или другое действующее лицо и на каких предпосылках основан тот или другой конфликт чувств или намерений, он не может вполне погрузиться в страдания и действия главных действующих лиц, ему недоступны захватывающие дух сострадание и страх. Эсхило-софокловская трагедия пускает в ход остроумнейшие приёмы, чтобы дать зрителю в первых сценах как бы невзначай в руки все необходимые для понимания нити: здесь сказывается то благородное мастерство, которое как бы маскирует всё формально необходимое и придаёт ему вид случайного. Еврипид, надо полагать, замечал у зрителей во время этих первых сцен своеобразное беспокойство, вызванное необходимостью решения задачи, представляемой предшествовавшими событиями, так что поэтические красоты и пафос экспозиции пропадали для них. Поэтому он и помещает пролог ещё перед экспозицией и влагает его в уста персонажу, заслуживающему доверия: какому-нибудь божеству приходилось зачастую как бы гарантировать публике ход трагедии и рассеивать все сомнения в реальности мифа; подобным же образом, как Декарт мог доказать реальность эмпирического мира только ссылкою на правдивость Бога и на его неспособность ко лжи. Той же божественной правдивостью пользуется Еврипид ещё раз в конце своей драмы, чтобы поставить для публики судьбу своих героев вне возможных сомнений: в этом задача пресловутого deus ex machina. Между эпическим взглядом на прошлое и взглядом в будущее лежит драматико-лирическое настоящее, собственно «драма».
Таким образом, Еврипид как поэт есть прежде всею отголосок собственных сознательных уразумений, и именно это даёт ему такое знаменательное положение в истории греческого искусства. В своём критико-продуктивном творчестве он часто должен был чувствовать себя так, словно его задача — жизненно воплотить в драме начало того сочинения Анаксагора, первые слова которого гласят: «Вначале всё было смешано; тогда явился рассудок и создал порядок». И если Анаксагор со своим Nus представлял среди философов первого трезвого среди поголовно пьяных, то и Еврипиду, пожалуй, его отношение к другим трагическим поэтам могло представляться в подобном же виде. До тех пор, пока единственный устроитель и властелин всего, Nus, был отстранён от художественного творчества, всё пребывало ещё в безразличии хаотического первозданного развара; таково должно было быть суждение Еврипида, так должен был он, первый «трезвый», судить о «пьяных» поэтах, осуждая их. То, что Софокл сказал об Эсхиле, а именно что этот последний всегда действует правильно, хотя и бессознательно, не должно было прийтись по душе Еврипиду, который в данном случае мог признать только, что Эсхил, раз он творит бессознательно, — творит не то, что следует. И божественный Платон также говорит о творческой способности поэта, поскольку это не есть сознательное уразумение, в большинстве случаев иронически и уподобляет эту способность дару прорицателя и снотолкователя; поэт, мол, способен начать творить не прежде, чем он станет бессознательным и рассудок его покинет. Еврипид поставил себе задачею, как ту же задачу поставил себе и Платон, явить обратный образец, некоторую противоположность «безрассудного» поэта; его основное эстетическое положение «Всё должно быть сознательным, чтобы быть прекрасным» есть, как я уже сказал, положение, параллельное сократовскому «Всё должно быть сознательным, чтобы быть добрым». Ввиду этого Еврипид может считаться для нас поэтом эстетического сократизма. Сократ же и был тот второй зритель, который не понимал древнейшей трагедии и потому не ценил её; в союзе с ним Еврипид отважился стать герольдом нового художественного творчества. Если же от этого погибла старая трагедия, то, следовательно, эстетический сократизм — смертоносный принцип, но, поскольку борьба была направлена против дионисизма в древнем искусстве, мы узнаём в Сократе противника Диониса, нового Орфея, восстающего против Диониса и, хотя и предназначенного к растерзанию менадами афинского судилища, всё же обращающего в бегство самого могущественного бога; этот бог некогда, когда он бежал от эдонского царя Ликурга, спасся в глубину моря — теперь он погрузился в мистические волны мало-помалу охватившего весь мир таинственного культа.
13
Что Сократ имел в тенденции тесную связь с Еврипидом, не ускользнуло от современной ему древности, и самое красноречивое выражение этого счастливого чутья представляет ходившая по Афинам легенда, что Сократ имеет обыкновение помогать Еврипиду в его творчестве. Оба имени произносились приверженцами «доброго старого времени» вместе, когда им приходилось перечислять современных им соблазнителей народа, влиянию которых приписывалось, что старая марафонская несокрушимая крепость тела и духа всё более и более уступает место сомнительному просвещению при постоянно растущем захирении телесных и душевных сил. В таком полунегодующем, полупрезрительном тоне говорит обычно аристофановская комедия об этих мужах, к ужасу современников, которые, правда, охотно жертвуют Еврипидом, но не могут надивиться на то, что Сократ является у Аристофана первым и верховным софистом, зеркалом и выразителем сущности всех софистических стремлений; причём единственное утешение, которое остаётся, — выставить у позорного столба самого Аристофана, как изолгавшегося и распутного Алкивиада поэзии. Не становясь здесь на защиту глубоких инстинктов Аристофана от подобных нападений, я буду продолжать моё доказательство тесной связи Сократа с Еврипидом, основываясь на чувстве древних; в этом отношении следует в особенности напомнить, что Сократ, как противник трагического искусства, воздерживался от посещений трагедии и появлялся среди зрителей, лишь когда шла новая пьеса Еврипида. Наиболее же знаменито близкое сопоставление обоих имён в изречении дельфийского оракула, который назвал Сократа мудрейшим из людей, одновременно высказав, что вторая награда на состязании в мудрости должна принадлежать Еврипиду.
Третьим в этой градации был назван Софокл: он, который похвалялся перед Эсхилом, что делает то, что надо, и притом оттого, что знает, что надо делать. Очевидно, что именно степень ясности этого знания есть то общее, что даёт названным мужам право именоваться — тремя «знающими» своего времени.
Но самое острое слово, характеризующее эту новую и неслыханно высокую оценку знания и разумения, было сказано Сократом, когда он заявил, что нашёл только одного себя, сознающегося в том, что он ничего не знает, между тем как в своих критических странствованиях по Афинам он, заговаривая с величайшими государственными людьми, ораторами, поэтами и художниками, везде находил уверенность в своём знании. С изумлением убеждался он, что все эти знаменитости не имели даже правильного понимания своего собственного призвания и выполняли его исключительно по инстинкту. «Только по инстинкту» — этими словами мы затрагиваем самое сердцевину и средоточие сократической тенденции. Ими сократизм произносит приговор как искусству, так и этике своего времени; куда он ни обращает свои испытующие взоры, везде видит он недостаток разумения и могущество обманчивой мечты и заключает из этого недостатка о внутренней извращённости и негодности всего существующего. Лишь с этой стороны полагал Сократ необходимым исправить существование: он, исключительный, с выражением презрения и превосходства, как предтеча совершенно иного рода культуры, искусства и морали, вступает в мир, благоговейно ухватиться за краешек которого мы сочли бы величайшим нашим счастьем.
Вот где источник тех огромных сомнений, которые охватывают нас каждый раз, как мы созерцаем образ Сократа, и всё снова и снова побуждают нас понять смысл и цель этого загадочнейшего явления древности. Кто этот человек, дерзающий в одиночку отрицать греческую сущность, которая в лице Гомера, Пиндара и Эсхила, Фидия, Перикла, Пифии и Диониса неизменно вызывает в нас чувства изумления и преклонения, как глубочайшая бездна и недостижимая вершина? Какая демоническая сила могла осмелиться выплеснуть на землю этот волшебный напиток? Кто этот полубог, к которому хор благороднейших духов человечества принужден взывать: «Горе! Горе! Ты сокрушил его, этот прекрасный мир, могучей дланью, он падает, он рушится!»
Ключ к природе Сократа даёт нам то удивительное явление, которое известно под именем «демон Сократа». В тех исключительных положениях, когда его чудовищный ум приходил в колебание, он находил себе твёрдую опору в божественном голосе внутри себя. Этот голос всегда только отговаривал. Инстинктивная мудрость показывалась в этой совершенно ненормальной натуре только для того, чтобы по временам проявлять своё противодействие сознательному познаванию. Между тем как у всех продуктивных людей именно инстинкт и представляет творчески-утвердительную силу, а сознание обычно критикует и отклоняет, — у Сократа инстинкт становится критиком, а сознание творцом — воистину чудовищность per defectum! А именно: мы замечаем здесь чудовищный дефект всякого мистического предрасположения, так что Сократа можно было бы обозначить как специфического не-мистика, в котором логическая природа путём гипертрофии так же чрезмерно развилась, как в мистике — его инстинктивная мудрость. С другой же стороны, этому проявляющемуся в Сократе логическому стремлению совершенно отказано было в способности обращаться на себя; в этом своём необузданном течении он являет природную мощь, какую мы встречаем обычно с изумлением и ужасом только в величайших инстинктивных силах. Кому удалось ощутить в сочинениях Платона хотя бы только слабое веяние этой божественной наивности и уверенности сократовской жизнедеятельности, тот почувствует и то, как это огромное маховое колесо логического сократизма вертится, в сущности, как бы за Сократом и как это движение приходится созерцать сквозь Сократа, как сквозь некую тень. А что он сам догадывался об этом соотношении, это видно из той исполненной достоинства строгости, с которой он постоянно и даже перед судьями ссылается на своё божественное призвание. Опровергнуть его в этом случае было, в сущности, столь же невозможно, как и одобрить его разлагающее инстинкты влияние. Ввиду этого неразрешимого конфликта была предуказана, раз он был поставлен перед судилищем греческой государственности, лишь одна форма возможного приговора — изгнание: как нечто во всех отношениях загадочное, не подходящее ни под какую рубрику, необъяснимое, его следовало изгнать за пределы общины, причём никакое потомство не было бы вправе за это обвинять афинян. Но что его приговорили к смерти, а не к изгнанию, этого, по-видимому, добился сам Сократ, с полным сознанием и без естественного страха перед смертью: он пошёл на смерть с тем же спокойствием, с каким он, по описанию Платона, как последний сотрапезник, покидает при брезжущем рассвете дня пир, чтобы начать новый день, между тем как за его спиной на скамьях и на земле остаются заспавшиеся гости, чтобы грезить о Сократе, этом истинном эротике. Умирающий Сократ стал новым, никогда дотоле невиданным идеалом для благородного эллинского юношества: впереди всех пал ниц перед этим образом типичный эллинский юноша — Платон со всей пламенной преданностью своей мечтательной души.
14
Представим себе теперь единое огромное циклопическое око Сократа обращённым на трагедию; око, в котором никогда не сверкало прекрасное безумие художнического вдохновения; представим себе, насколько этому оку был недоступен благорасположенный взгляд в дионисические глубины — что в сущности должно было увидать оно в «возвышенном и высокославном» трагическом искусстве, как называет его Платон? Нечто весьма неразумное, где причины как бы не имеют действия, а действия не имеют причин; к тому же всё в целом так пёстро и многообразно, что на рассудительные натуры оно должно действовать отталкивающим образом, а для чувствительных и впечатлительных душ быть своего рода огнеопасным веществом. Мы знаем тот единственный род искусства, который был доступен его пониманию, — это была эзоповская басня, да и тут, наверное, играла роль та добродушная покладистость, с которой добрый, честный Геллерт в своей басне о пчеле и курице воспевает поэзию:
Её ты пользу зришь на мне;
Кому Бог отказал в уме,
Тот на примерах понимает.
Но по-видимому, Сократ не находил даже, чтобы трагическое искусство «на примерах» поучало истине, не говоря уже о том, что оно обращается к тому, «кому Бог отказал в уме», следовательно, не к философам, что составляет двойной повод держаться от него подальше. Как и Платон, он причислял его к льстивым искусствам, изображающим только приятное, а не полезное, и требовал поэтому от своих учеников воздержания и строгой самоизоляции от подобных нефилософских развлечений; и это с таким успехом, что молодой трагический поэт Платон первым делом сжёг свои творения, чтобы иметь возможность стать учеником Сократа. Там же, где в борьбу с сократовскими положениями вступали непобедимые наклонности, у его учения всё же хватало силы, чтобы, совместно с мощью этого огромного характера, вытолкнуть самое поэзию на новые и до тех пор неизведанные пути.
Примером этому может служить только что названный Платон: он, который в осуждении трагедии и искусства вообще во всяком случае не уступает наивному цинизму своего учителя, всё же принуждён был, покоряясь полной художественной необходимости, создать форму искусства, внутренне родственную этим уже существующим и отрицаемым им формам искусства. Главный упрёк, который Платон мог сделать старому искусству, а именно что оно есть подражание призраку и, следовательно, относится к ещё более низменной сфере, чем эмпирический мир, — этот упрёк прежде всего не должен был иметь места по отношению к новому художественному произведению; и вот мы видим, как Платон старается стать выше действительности и изобразить лежащую в основе этой псевдодействительности идею. Но таким образом Платон как мыслитель пришёл окольными путями туда же, где как поэт он всегда чувствовал себя дома, — к той самой плоскости, с которой Софокл и всё старое искусство торжественно протестовали против брошенного им выше упрёка. Если трагедия впитала в себя все прежние формы искусства, то аналогичное может в эксцентрическом смысле быть сказано и о платоновском диалоге, который, как результат смешения всех наличных стилей и форм, колеблется между рассказом, лирикой, драмой, между прозой и поэзией и нарушает тем самым также и строгий древний закон единства словесной формы; ещё дальше по этому пути пошли цинические писатели, которые крайней пестротой стиля и постоянными переходами от прозаической формы к метрической и обратно осуществили и литературный образ «неистовствующего Сократа», служившего им образцом для подражания в жизни. Платоновский диалог был как бы тем челном, на котором потерпевшая крушение старая поэзия спаслась вместе со всеми своими детьми: стеснённые на узкой ладье и боязливо покорные единому кормчему — Сократу, пустились они теперь в новый мир, который не мог наглядеться на фантастическую картину этого плавания. Поистине Платон дал всем последующим векам образец новой формы искусства — образец романа, который может быть назван возведённой в бесконечность эзоповской басней, где поэзия живёт в подобном же отношении подчинения к диалектической философии, в каком долгие века жила философия к богословию, а именно, как ancilla. Таково было новое положение поэзии, в которое насильственно поставил её Платон под давлением демонического Сократа.
Здесь философская мысль перерастает искусство и принуждает его более тесно примкнуть к стволу диалектики и ухватиться за него. В логический схематизм как бы переродилась аполлоническая тенденция; нечто подобное нам пришлось заметить у Еврипида, где, кроме того, мы нашли переход дионисического начала в натуралистический аффект. Сократ, диалектический герой платоновской драмы, напоминает нам родственные натуры еврипидовских героев, принуждённых защищать свои поступки доводами «за» и «против», столь часто рискуя при этом лишиться нашего трагического сострадания; ибо кто может не заметить оптимистического элемента, скрытого в существе диалектики, торжественно ликующего в каждом умозаключении и свободно дышащего лишь в атмосфере холодной ясности и сознательности? — И этот оптимистический элемент, раз он проник в трагедию, должен был мало-помалу захватить её дионисические области и по необходимости толкнуть её на путь самоуничтожения, вплоть до смертельного прыжка в область мещанской драмы. Достаточно будет представить себе все следствия сократовских положений: «добродетель есть знание», «грешат только по незнанию», «добродетельный есть и счастливый», — в этих трёх основных формах оптимизма лежит смерть трагедии. Ибо в таком случае добродетельный герой должен быть диалектиком, между добродетелью и знанием, верой и моралью должна быть необходимая и видимая связь; в таком случае трансцендентальная справедливость в развязке Эсхила должна быть унижена до плоского и дерзкого принципа «поэтической справедливости» с его обычным deus ex machina.
Чем же является теперь сопоставленный с этим новым сократически-оптимистическим миром сцены хор и вообще весь музыкально-дионисический фон трагедии? Чем-то случайным, некоторым, пожалуй и не необходимым, воспоминанием о первоисточнике трагедии, между тем как мы ведь видели, что хор может быть понятен и объясним только как причина трагедии и трагизма вообще. Уже у Софокла сказывается эта неуверенность по отношению к хору — важный признак того, что уже у него дионисическая почва трагедии начинает давать трещины. Он уже не решается доверять хору главную долю участия в действии, а, напротив, настолько ограничивает его область, что хор теперь является почти координированным с актёрами, словно он из орхестры возведён на сцену, чем, конечно, его сущность окончательно разрушена, хотя Аристотель и высказывает своё одобрение именно такому пониманию хора. Этот сдвиг в положении хора, который Софокл во всяком случае рекомендовал своей практикой, а по преданию — даже в отдельном сочинении, есть первый шаг к уничтожению хора, фазы которого у Еврипида, Агафона и в новейшей комедии следовали друг за другом с ужасающей быстротой. Оптимистическая диалектика гонит бичом своих силлогизмов музыку из трагедии, т. е. разрушает существо трагедии, которое может быть толкуемо исключительно как манифестация и явление в образах дионисических состоянии, как видимая символизация музыки, как мир грёз дионисического опьянения.
Если, таким образом, мы принуждены допустить некоторую антидионисическую тенденцию, действовавшую ещё до Сократа и получившую в лице его лишь неслыханно величественное выражение, то нам не следует бояться вопроса — на что указывает такое явление, как Сократ; на таковое явление мы ведь не можем смотреть только как на разлагающую, отрицательную силу, раз имеем перед собой диалоги Платона. И хотя ближайшее действие сократического инстинкта, несомненно, было направлено на разложение дионисической трагедии, тем не менее одно глубокое душевное переживание самого Сократа побуждает нас поставить вопрос: необходимо ли относятся сократизм и искусство друг к другу только как антиподы и представляет ли рождение «художника Сократа» вообще нечто в себе противоречивое?
Дело в том, что этот деспотический логик испытывал временами по отношению к искусству ощущение какого-то пробела, какой-то пустоты, какого-то полуукора, быть может, чувство невыполненного долга. Зачастую являлось ему во сне, как он сам в тюрьме рассказывал о том друзьям, одно и то же видение, постоянно повторявшее: «Сократ, займись музыкой!» До последних дней своих он успокаивал себя мыслью, что его философствование и есть высшее искусство муз, и не решался поверить, чтобы какое-нибудь божество могло напоминать ему о той «простой, народной музыке». Наконец в тюрьме, чтобы окончательно облегчить свою совесть, он соглашается заняться этой мало ценимой им музыкой; и в таком настроении он сочиняет вводный гимн Аполлону и перелагает несколько басен Эзопа в стихи.
Здесь играло роль нечто подобное предупреждающему голосу демона: к этим упражнениям побудило его аполлоническое прозрение, что он, как варварский царь, не понимает некоего божественного образа и находится в опасности оскорбить своё божество — непониманием. Приведённые выше слова о сократовском сновидении — единственный признак некоторого сомнения в нём относительно границ логической природы; быть может, — так должен был он спросить себя — непонятное мне не есть тем самым непременно и нечто неосмысленное? Быть может, существует область мудрости, из которой логик изгнан? Быть может, искусство — даже необходимый коррелят и дополнение науки?
15
В духе этих последних предвосхищающих вопросов следует теперь поговорить о том, как влияние Сократа простерлось вплоть до нашего времени, да и на всё далёкое будущее, словно растущая и покрывающая потомство тень в лучах заходящего солнца; как это влияние постоянно побуждает к воссозданию искусства — и притом искусства уже в метафизическом, широчайшем и глубочайшем смысле — и своей собственной бесконечностью ручается за его бесконечность.
До тех пор пока мы не были в состоянии понять это, до тех пор пока внутренняя зависимость всякого искусства от греков — от греков, начиная с Гомера и кончая Сократом, — не была нам убедительно доказана, до тех пор мы поневоле должны были относиться к этим грекам, как афиняне к Сократу. Каждая эпоха и каждая ступень образования хоть раз пыталась с глубоким неудовольствием отделаться от этих греков, ибо перед лицом их всё самодельное, по-видимому вполне оригинальное и вызывающее совершенно искреннее удивление, внезапно теряло, казалось, жизнь и краски и сморщивалось до неудачной копии, даже до карикатуры. И вот всё снова прорывается при случае искренняя злоба против этого претенциозного народца, осмеливающегося называть всё чуждое «варварским» на все времена; кто это такие, спрашиваешь себя, что, при всей кратковременности своего исторического блеска, при потешной ограниченности своих политических учреждений, при сомнительной доброкачественности нравов, запятнанных даже безобразными пороками, — тем не менее претендуют на то достоинство и особое положение среди народов, которое гений занимает в толпе? К сожалению, так и не посчастливилось найти того кубка с отравой, которым можно было бы попросту отделаться от подобной мании, ибо всего яда, источаемого завистью, клеветой и злобой, не хватило на то, чтобы уничтожить это самодовлеющее великолепие. И вот мы стыдимся и боимся греков; разве что кто-нибудь ставит истину выше всего и посему отваживается сознаться себе и в той истине, что греки — возницы нашей и всяческой культуры, но что по большей части колесница и кони неважного разбора и недостойны славы своего возницы, который посему и считает за шутку вогнать такую запряжку в пропасть, через которую он сам переносится прыжком Ахилла.
Чтобы доказать, что и Сократу принадлежит почётное звание такого возницы, достаточно познать в нём тип неслыханной до него формы бытия, тип теоретического человека, понять значение и цель коего составляет нашу ближайшую задачу. Теоретический человек, не менее чем художник, находит удовлетворение в наличной действительности и, как последний, ограждён этим чувством довольства от практической этики пессимизма и от его зорких линкеевых глаз, светящихся лишь во тьме. Ибо если художник при всяком разоблачении истины остаётся всё же прикованным восторженными взорами к тому, что и теперь, после разоблачения, осталось от её покрова, — то теоретический человек радуется сброшенному покрову и видит для себя высшую цель и наслаждение в процессе всегда удачного, собственной силой достигаемого разоблачения. Не было бы никакой науки, если бы ей было дело только до одной этой нагой богини, и ни до чего другого. Ибо тогда у её учеников было бы на душе нечто подобное тому, что чувствуют люди, вознамерившиеся прорыть дыру прямо сквозь землю: каждый из них ясно видит, что он, при величайшем и пожизненном напряжении, в состоянии прорыть лишь самую незначительную часть этой чудовищной глубины, которая притом на его же глазах снова засыпается работой соседа, так что третий, пожалуй, прав, когда на собственный страх избирает новое место для своих опытов бурения. Если теперь кто-нибудь убедительно докажет, что этим прямым путём не доберёшься до антиподов, то кому будет ещё охота работать в старых шахтах, — разве только он попутно найдёт себе удовлетворение в находке драгоценных камней и в открытии законов природы. Поэтому Лессинг, честнейший из теоретических людей, и решился сказать, что его более занимает искание истины, чем она сама, и тем, к величайшему изумлению и даже гневу научных людей, выдал основную тайну науки. Но конечно, рядом с этим единичным взглядом на суть дела, представляющим некоторый эксцесс честности, если только не заносчивости, — стоит глубокомысленная мечта и иллюзия, которая впервые появилась на свет в лице Сократа, — та несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в глубочайшие бездны бытия и что это мышление не только может познать бытие, но даже и исправить его. Эта возвышенная метафизическая мечта в качестве инстинкта присуща науке и всё снова и снова приводит её к её границам, у коих она принуждена превратиться в искусство, — что и было собственной целью этого механизма.
Взглянем теперь, при свете этой мысли, на Сократа — и он явится нам как первый, который, руководясь указанным инстинктом науки, сумел не только жить, но — что гораздо более — и умереть; оттого-то образ умирающего Сократа как человека, знанием и доводами освободившегося от страха смерти, есть щит с гербом на вратах науки, напоминающий каждому о её назначении, а именно — делать нам попятным существование и тем его оправдывать, чему, правда, когда доводов не хватает, должен в конце концов служить и миф, который я только что признал за необходимый результат и даже за конечную цель науки.
Кто хоть раз наглядно представит себе, как после Сократа, этого мистагога науки, одна философская школа сменяет другую, как волна волну; как неведомая дотоле универсальность жажды знания, охватив широкие круги образованного общества и сделав науку основной задачей для всякого одарённого человека, вывела её в открытое море, откуда она с тех пор никогда не могла быть вполне изгнана; как эта универсальность впервые покрыла всеохватывающей сетью мысли весь земной шар и даже открывала перспективы на закономерность целой Солнечной системы, — кто представит себе всё это, а вместе с тем и удивительную в своём величии пирамиду современного знания, тот принуждён будет увидеть в Сократе одну из поворотных точек и осей так называемой всемирной истории. Ибо если представить себе, что вся эта неизмеримая сумма сил, потраченная на вышеназванную мировую тенденцию, обращена была бы не на службу познания, но на практические, т. е. эгоистические, цели индивидов и народов, то, по всей вероятности, инстинктивная любовь к жизни так ослабла бы среди всеобщей губительной борьбы и непрестанного блуждания народов, что при привычке к самоубийству человек просто в силу оставшегося у него чувства долга, подобно жителям островов Фиджи, как сын задушил бы своих родителей, а как друг — своего друга; практический пессимизм, способный, даже из чувства милосердия, породить ужасающую этику народоубийства; последняя, впрочем, и была всегда налицо на этом свете, и наличествует везде, где искусство в каких-либо формах, преимущественно же в виде религии и науки, не являлось целебным средством и защитой против такой чумы.
В противоположность этому практическому пессимизму Сократ является первообразом теоретического оптимиста, который, опираясь на упомянутую выше веру в познаваемость природы вещей, приписывает знанию и познанию силу универсального лечебного средства, а в заблуждении видит зло как таковое. Проникать в основания вещей и отделять истинное познание от иллюзии и заблуждения казалось сократическому человеку благороднейшим и единственным истинно человеческим призванием, в силу чего этот механизм понятий, суждений и умозаключений, начиная с Сократа, ценился выше всех других способностей, как высшая деятельность и достойнейший удивления дар природы. Даже самые возвышенные моральные деяния, аффекты сострадания, самоотвержения, героизма и та трудно достигаемая морская тишь души, которую аполлонический грек называл sophrosyne, — были выводимы Сократом и его единомышленниками и последователями вплоть до наших дней из диалектики знания и вследствие этого считались предметами, доступными изучению. Кто на себе испытал радость сократического познания и чувствует, как оно всё более и более широкими кольцами пытается охватить весь мир явлений, тот уже не будет иметь более глубокого и сильнее ощущаемого побуждения и влечения к жизни, чем страстное желание завершить это завоевание и непроницаемо крепко сплести эту сеть. Человеку, настроенному подобным образом, платоновский Сократ представится учителем совершенно новой формы «греческой весёлости» и блаженства существования, стремящейся найти себе разрядку в действиях и обретающей таковую главным образом в маевтических и воспитательных воздействиях на благородное юношество в целях порождения гения.
И вот наука, гонимая вперёд своею мощной мечтой, спешит неудержимо к собственным границам — здесь-то и терпит крушение её, скрытый в существе логики, оптимизм. Ибо окружность науки имеет бесконечно много точек, и в то время, когда совершенно ещё нельзя предвидеть, каким путём когда-либо её круг мог бы быть окончательно измерен, благородный и одарённый человек ещё до середины своего существования неизбежно наталкивается на такие пограничные точки окружности и с них вперяет взор в неуяснимое. Когда он здесь, к ужасу своему, видит, что логика у этих границ свёртывается в кольцо и в конце концов впивается в свой собственный хвост, тогда прорывается новая форма познания — трагическое познание, которое, чтобы быть вообще выносимым, нуждается в защите и целебном средстве искусства.
Если мы обратим теперь укреплённый и ублаженный греками взор в высшие сферы мира, волны которого объемлют нас, — то мы увидим, как нашедшая свой прообраз в Сократе ненасытная жадность оптимистического познания превращается в трагическую покорность судьбе и жажду искусства, причём, конечно, эта же самая жадность на её низших ступенях должна принять враждебное искусству направление и по преимуществу внутренне возненавидеть дионисическое трагическое искусство, что мы и видели при описании борьбы сократизма против эсхиловской трагедии.
И вот мы стучимся со взволнованною душой в двери настоящего и будущего: приведёт ли это превращение ко всё новым и новым конфигурациям гения и именно — отдавшегося музыке Сократа? Будет ли набросанная на бытие сеть искусства, всё равно, хотя бы под именем религии или науки, сплетаться всё крепче и нежнее, или ей предназначено в не знающих покоя варварских вихре и суете, именуемых «современностью», быть разорванной в клочки? — Озабоченные, но небезутешные, постоим с мгновение в стороне, как созерцающие, которым дано быть свидетелями этих чудовищных битв и переходов. Ах! В том и волшебство этих битв, что, кто их видит, тот не может не участвовать в них.
16
На этом обстоятельном историческом примере мы пытались уяснить, что трагедия при исчезновении духа музыки так же неизбежно гибнет, как и рождена она может быть только из этого духа. Чтобы смягчить необычность этого утверждения, а с другой стороны, выяснить происхождение указанного вывода, мы должны теперь, оставив в стороне всякую предвзятость, стать лицом к лицу с аналогичными явлениями современности; мы должны принять участие в тех битвах, которые, как я только что сказал, ведутся между ненасытным оптимистическим познаванием и трагической потребностью в искусстве в высших сферах окружающего нас мира. При этом я намерен отвлечься от всех других враждебных стремлений, которые во все времена восстают против искусства, и в частности именно против трагедии, и которые также и в наше время с такой победоносной уверенностью захватывают всё вокруг себя, что из театральных искусств, например, только фарс и балет до некоторой степени буйно разрослись своими — быть может, не для всякого благоухающими — цветами. Я буду говорить лишь о сиятельнейшем противнике трагического мировоззрения и понимаю под таковым в глубочайшем существе своём оптимистическую науку — с её праотцем Сократом во главе. Я не замедлю назвать по имени и те силы, которые, на мой взгляд, служат залогом возрождения трагедии — и других, о, сколь блаженных, надежд для германского духа!
Прежде чем мы ринемся в этот бой, возложим на себя латы доселе завоёванных нами познаний. В противоположность всем тем, кто старается вывести искусства из одного-единственного принципа как необходимого источника жизни всякого художественного произведения, — я фиксирую свой взор на обоих известных нам богах искусства у греков, Аполлоне и Дионисе, и опознаю в них живых и образных представителей двух миров искусства, различных в их глубочайшем существе и в их высших целях. Аполлон стоит передо мной как просветляющий гений principii individuationis, при помощи которого только и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии; между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации, и широко открывается дорога к Матерям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей. Этот чудовищный контраст, раскрывающийся, как пропасть, между аполлоническим пластическим искусством и дионисической музыкой, лишь одному великому мыслителю явился с такой степенью ясности, что он, даже не руководствуясь указанием означенной эллинской символики богов, признал за музыкой другой характер и другое происхождение, чем у всех прочих искусств: она не есть, подобно тем другим, отображение явления, но непосредственный образ самой воли и, следовательно, представляет по отношению ко всякому физическому началу мира — метафизическое начало, ко всякому явлению — вещь в себе (Шопенгауэр, «Мир, как воля и представление» I 310). К этому важнейшему для всей эстетики воззрению, с которого, строго говоря, эстетика только и начинается, Рихард Вагнер, дабы утвердить вечную его истинность, приложил печать, установив в своём «Бетховене», что к оценке музыки должны прилагаться совсем другие эстетические принципы, чем ко всем пластическим искусствам, и что к ней вообще неприложима категория красоты, хотя ошибочная эстетика, основываясь на неудачном и выродившемся искусстве, привыкла, исходя из того понятия красоты, которое получило право гражданства в мире пластики, требовать от музыки действия, подобного действию произведений пластического искусства, а именно: возбуждения чувства наслаждения прекрасными формами. Убедившись в упомянутом выше огромном контрасте, я почувствовал сильнейшее побуждение ближе ознакомиться с существом греческой трагедии и тем воспринять глубочайшее откровение эллинского гения: ибо лишь теперь, как полагал я, в моей власти были чары, дававшие мне силу преодолеть фразеологию нашей обычной эстетики и узреть духовно в живом образе изначальную проблему трагедии; тем самым мне был дарован такой своеобразный и сбивающий с толку взгляд на всё эллинское, после которого я уже не мог отделаться от впечатления, что наша столь гордо выступающая классическая наука об эллинизме пробавлялась до сих пор главным образом лишь игрой теней да всякими внешними мелочами.
К этой коренной проблеме мы, пожалуй, могли бы подойти со следующим вопросом: какое эстетическое действие возникает, когда эти сами по себе разъединённые силы искусства — аполлоническое и дионисическое — вступают в совместную деятельность? Или короче: в каком отношении стоит музыка к образу и понятию? — Шопенгауэр, чьё изложение именно этого пункта Рихард Вагнер восхваляет как неподражаемое по ясности и прозрачности, наиболее обстоятельно высказывается на сей счёт в следующем месте, которое я приведу здесь целиком. «Мир, как воля и представление» I 309: «Вследствие всего этого мы можем рассматривать мир явлений, или природу, и музыку как два различных выражения одной и той же вещи, которая сама поэтому представляет единственное посредствующее звено в аналогии двух понятий, природы и музыки, и познать которую необходимо, если хочешь уразуметь эту аналогию. Музыка, стало быть, если рассматривать её как выражение мира, есть в высшей степени обобщённый язык, который даже ко всеобщности понятий относится приблизительно так же, как эти последние к отдельным вещам. Но её всеобщность не представляет никоим образом пустой всеобщности абстракции; она — совершенно другого рода и связана везде и всегда с ясной определённостью. В этом отношении она сходна с геометрическими фигурами и числами, которые, как общие формы возможных объектов опыта, будучи применимы ко всем этим объектам a priori, тем не менее не абстрактны, но наглядны и во всех своих частях определённы. Все возможные стремления, возбуждения и выражения воли, все те происходящие в человеке процессы, которые разум объединяет обширным отрицательным понятием «чувство», могут быть выражены путём бесконечного множества возможных мелодий, но всегда во всеобщности одной только формы, без вещества, всегда только как некое «в себе», не как явление, представляя как бы сокровеннейшую душу их, без тела. Из этого тесного соотношения, существующего между музыкой и истинной сущностью всех вещей, может объясняться и то, что, когда какая-либо сцена, действие, событие, обстановка сопровождаются подходящей музыкой, нам кажется, что эта последняя открывает нам сокровеннейший их смысл и выступает как самый верный и ясный комментарий к ним; равным образом и то, что человеку, безраздельно отдающемуся впечатлению какой-нибудь симфонии, представляется, словно мимо него проносятся всевозможные события жизни и мира; и всё же, когда он одумается, он не может указать на какое-либо сходство между этой игрой звуков и теми вещами, которые пронеслись в его уме. Ибо музыка, как сказано, тем и отличается от всех остальных искусств, что она не есть отображение явления или, вернее, адекватной объективности воли, но непосредственный образ самой воли и поэтому представляет по отношению ко всякому физическому началу мира — метафизическое начало, ко всякому явлению — вещь в себе. Сообразно с этим мир можно было бы с равным правом назвать как воплощённой музыкой, так и воплощённой волей; из чего понятно, почему музыка тотчас же придаёт повышенную значительность всякой сцене действительной жизни и мира; и это, конечно, тем более, чем более аналогична её мелодия внутреннему духу данного явления. На этом основывается и то, что можно положить на музыку стихотворение в виде песни, или наглядное представление в виде пантомимы, или и то и другое в виде оперы. Такие отдельные картины человеческой жизни, переложенные на общий язык музыки, никогда не бывают во всех своих частях необходимо связаны с нею или необходимо соответствующими ей; но они стоят с ней лишь в той же связи, как любой частный пример с общим понятием: они изображают в определённых образах действительности то, что музыка высказывает в одних общих формах. Ибо мелодии представляют, подобно общим понятиям, абстракт действительности. Последняя, т. е. мир отдельных вещей, даёт нам наглядное, обособленное и индивидуальное явление, отдельный случай как по отношению ко всеобщности понятий, так и по отношению ко всеобщности мелодий, каковые две всеобщности, однако, в известном смысле противоположны друг другу; ибо понятия содержат в себе только отвлечённые от данного созерцания формы, как бы совлечённую с вещей внешнюю скорлупу их, а посему суть по существу абстракты; тогда как музыка даёт нам внутреннее предшествующее всякому приятию формы ядро, или сердце, вещей. Это отношение можно было бы отлично выразить на языке схоластиков, сказав: понятия суть universalia post rem, музыка же даёт universalia ante rem, а действительность — universalia in re. — А что вообще возможно отношение между композицией и наглядным изображением, это покоится, как сказано, на том, что оба они суть лишь совершенно различные выражения одного и того же внутреннего существа мира. И когда в отдельном случае подобное отношение действительно имеется налицо и композитор сумел, следовательно, выразить на всеобщем языке музыки те движения воли, которые составляют ядро известного события, тогда мелодия песни, музыка оперы бывает выразительной. Подысканная же композитором аналогия между миром явлений и музыкой должна, бессознательно для его разума, проистекать из непосредственного уразумения сущности мира и не должна быть сознательным и преднамеренным подражанием при посредстве понятий; иначе музыка выразит не внутреннюю сущность, не самое волю, а будет лишь неудовлетворительным подражанием её явлению, — что и делает вся собственно подражательная музыка». —
Итак, мы понимаем, по учению Шопенгауэра, музыку как непосредственный язык воли и чувствуем потребность воссоздать нашей возбуждённой фантазией и воплотить в аналогичном примере этот говорящий нам, незримый и всё же столь полный жизни и движения мир духов. С другой стороны, образ и понятие получают, под воздействием действительно соответствующей им музыки, некоторую повышенную значительность. Таким образом, дионисическое искусство действует обычно на аполлонический художественный дар двояко: музыка побуждает к символическому созерцанию дионисической всеобщности, музыка затем придаёт этому символическому образу высшую значительность. Из этих самопонятных и не ускользающих от более глубокого наблюдения фактов я заключаю о способности музыки порождать миф, т. е. значительнейший пример, и именно трагический миф: миф, вещающий в подобиях о дионисическом познании. На феномене лирика я представил, как музыка борется в душе лирика, стремясь выразить свою сущность в аполлонических образах; и если мы допускаем, что музыка в её высшем подъёме должна стремиться дать и своё высшее воплощение в образах, то мы вынуждены признать возможным и то, что она сумела найти и для коренной своей дионисической мудрости символическое выражение; и где же нам искать этого выражения, как не в трагедии и понятии трагического вообще?
Из существа искусства, как оно обычно понимается на основании единственной категории иллюзии и красоты, честным образом трагедии не выведешь; лишь исходя из духа музыки, мы понимаем радость об уничтожении индивида. Ибо на отдельных примерах такого уничтожения нам лишь становится яснее вечный феномен дионисического искусства, выражающего волю в её всемогуществе, как бы позади principii individuationis, вечную жизнь за пределами всякого явления и наперекор всякому уничтожению. Метафизическая радость о трагическом есть перевод инстинктивно бессознательной дионисической мудрости на язык образов: герой, высшее явление воли, на радость нам отрицается, ибо он всё же только явление, и вечная жизнь воли не затронута его уничтожением. «Мы верим в вечную жизнь!» — так восклицает трагедия, между тем как музыка есть непосредственная идея этой жизни. Совершенно другую цель имеет пластическое искусство: в нём Аполлон преодолевает страдание индивида лучезарным прославлением вечности явления, здесь красота одерживает победу над присущим жизни страданием, скорбь в некотором смысле извирается прочь из черт природы. В дионисическом искусстве и его трагической символике та же природа говорит нам своим истинным, неизменным голосом: «Будьте подобны мне! В непрестанной смене явлений я — вечно творческая, вечно побуждающая к существованию, — вечно находящая себе удовлетворение в этой смене явлений Праматерь!»
17
И дионисическое искусство также хочет убедить нас в вечной радостности существования; но только искать эту радостность мы должны не в явлениях, а за явлениями. Нам надлежит познать, что всё, что возникает, должно быть готово к страданиям и гибели; нас принуждают бросить взгляд на ужасы индивидуального существования — и всё же мы не должны оцепенеть от этого видения: метафизическое утешение вырывает нас на миг из вихря изменяющихся образов. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим Первосущим и чувствуем его неукротимое жадное стремление к жизни, его радость жизни; борьба, муки, уничтожение явлений нам кажутся теперь как бы необходимыми при этой чрезмерности бесчисленных стремящихся к жизни и сталкивающихся в ней форм существования, при этой через край бьющей плодовитости мировой воли: свирепое жало этих мук пронзает нас в то самое мгновенье, когда мы как бы слились в одно с безмерной изначальной радостью бытия и почувствовали в дионисическом восторге неразрушимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, мы являемся счастливо-живущими, не как индивиды, но как единое-живущее, с оплодотворяющей радостью которого мы слились.
История возникновения греческой трагедии говорит нам теперь с ясной определённостью, что создания трагического искусства греков действительно рождены из духа музыки; и эта мысль впервые, как мы думаем, дала нам возможность правильно понять первоначальный и столь удивительный смысл хора. Но вместе с тем мы должны признать, что установленное выше значение трагического мифа никогда не было с логической отчётливостью и полной ясностью осознано греческими поэтами, не говоря уже о греческих философах; их герои говорят в известном смысле поверхностнее, чем действуют; миф решительно не находит в словесной форме своей адекватной объективации. Связь сцен и созерцаемые образы обнаруживают более глубокую мудрость, чем та, которую сам поэт в силах охватить словами и понятиями; то же наблюдаем мы у Шекспира, Гамлет которого, например, в подобном же смысле поверхностнее говорит, чем действует, так что не из слов, а лишь глубже всматриваясь и озирая целое, можно извлечь упомянутую нами выше гамлетовскую доктрину. По отношению к греческой трагедии, которая, к сожалению, знакома нам лишь как словесная драма, я даже указывал, что это несовпадение мифа и слова легко может ввести нас в искушение считать её более плоской и менее значительной по своему смыслу, чем она есть на самом деле, и вследствие этого предположить, что и действие её было более поверхностным, чем оно, по-видимому, должно было быть, по свидетельству древних; ибо как легко забывается, что не удавшаяся творцу слов идеализация и высшее одухотворение мифа могли в каждую данную минуту удаться ему как музыкальному творцу! Мы, правда, принуждены теперь чуть ли не путём учёных изысканий восстанавливать эту мощь музыкального действия, чтобы воспринять хоть долю того несравненного утешения, которое должно быть свойственно истинной трагедии. Но и эту музыкальную мощь мы ощутили бы как таковую лишь в том случае, если бы мы были греки; между тем как теперь во всём развитии греческой музыки нам слышится, по сравнению со знакомой и близкой нам неизмеримо более богатой музыкой, лишь песнь юности музыкального гения, которую он запевает в робком сознании своих сил. Греки, как говорили египетские жрецы, — вечные дети; они и в трагическом искусстве только дети, не знающие, что за величественная игрушка была создана их руками и затем — разбита.
Это упорное стремление духа музыки к откровению в образах и мифах, постоянно возрастая от начатков лирики и кончая аттическою трагедией, вдруг прерывается, едва достигнув роскошного расцвета, и как бы исчезает с поверхности эллинского искусства; между тем как порождённое этим упорным стремлением дионисическое миропонимание продолжает и дальше жить в Мистериях и среди удивительнейших превращений и вырождений не перестаёт привлекать к себе более вдумчивые натуры. Не суждено ли ему когда-нибудь вновь восстать из своей мистической глубины в форме искусства?
Нас занимает здесь вопрос: имеет ли та сила, о противодействие которой разбилась трагедия, достаточно мощи во все времена, чтобы помешать художественному пробуждению трагедии и трагического миропонимания? Если древняя трагедия была выбита из своей колеи диалектическим порывом к знанию и оптимизму науки, то из этого факта можно было бы заключить о вечной борьбе между теоретическим и трагическим миропониманиями; и лишь когда дух науки дойдёт до своих границ и его притязание на универсальное значение будет опровергнуто указанием на наличность этих границ, можно будет надеяться на возрождение трагедии; символом каковой формы культуры мы могли бы счесть отдавшегося музыке Сократа в выше разобранном нами смысле. При этом противопоставлении я под духом науки понимаю упомянутую мною, впервые появившуюся на свет в лице Сократа веру в познаваемость природы и универсальную целебную силу знания.
Кто припомнит ближайшие последствия этого неутомимо стремящегося вперёд духа науки, тот тотчас же ясно представит себе, как им уничтожен был миф и как путём этого уничтожения поэзия, лишённая отныне родины, была вытеснена с её естественной идеальной почвы. Если мы по праву приписали музыке силу снова родить из себя миф, то нам придётся проследить дух науки и на том пути, где он враждебно выступает против этой мифотворческой силы музыки. Это имеет место при развитии новейшего аттического дифирамба, музыка которого уже не выражала внутренней сущности, самой воли, а лишь неудовлетворительно воспроизводила явление, подражая при посредстве понятий; от подобной внутренне выродившейся музыки действительно музыкальные натуры сторонились с тем же отвращением, какое они испытывали и к убийственной для искусства тенденции Сократа. Верно схватывающий инстинкт Аристофана, конечно, не ошибся, когда он объединил в одинаковом чувстве ненависти самого Сократа, трагедию Еврипида и музыку новейших дифирамбиков и ощутил во всех трёх феноменах признаки выродившейся культуры. В этом новейшем дифирамбе музыка преступным образом была обращена в подражательную копию явления, например битвы, бури на море, и тем самым, конечно, окончательно лишена своей мифотворческой силы. Ибо если она пытается возбудить наше удовольствие только тем, что понуждает нас подмечать внешние аналогии между каким-либо событием в жизни и природе и известными ритмическими фигурами и характерными звуками в музыке, если наш разум должен удовлетворяться познаванием подобных аналогий, то мы тем самым низведены в сферу такого настроения, при котором зачатие мифа невозможно, ибо миф может наглядно восприниматься лишь как единичный пример некоторой всеобщности и истины, неуклонно обращающей взор свой в бесконечное. Действительно дионисическая музыка и является для нас таким всеобщим зеркалом мировой воли: наглядное событие, преломляющееся в этом зеркале, тотчас же расширяется для нашего чувства в отображение вечной истины. И наоборот, такое наглядное событие в подражательной и живописующей музыке новейшего дифирамба немедленно лишается всякого мифического характера; музыка стала теперь лишь скудным подобием явления, и тем самым она бесконечно беднее, чем само явление, а эта бедность принижает для нашего чувства и само явление, так что теперь подобное музыкальное подражание битве, например, исчерпывается шумом марша, звуками сигналов и т.д., а наша фантазия задерживается именно на этих поверхностных мелочах. Живопись звуками есть поэтому во всех отношениях нечто прямо противоположное мифотворческой силе истинной музыки: в ней явление становится ещё беднее, чем оно есть на самом деле, между тем как в дионисической музыке отдельное явление обогащается и расширяется в картину мира. То была мощная победа недионисического духа, когда он в развитии новейшего дифирамба сделал музыку чуждой самой себе и низвёл её на степень рабыни явления. Еврипид, которого в некотором высшем смысле следует назвать решительно немузыкальной натурой, именно поэтому и является страстным приверженцем новейшей дифирамбической музыки и с щедростью разбойника пользуется всеми её эффектами и ужимками.
Сила этого недионисического духа и его деятельность, направленная против мифа, представятся нам с другой стороны, если мы направим наши взоры на преобладающую значимость разработки характеров в трагедии Софокла и на утончённость психологии в ней. Характер не должен уже более допускать расширения до вечного типа, но, например, давать такое индивидуальное впечатление путём внесения в него искусственных побочных черт и оттенков и тончайшей определённости всех линий, что зритель вообще воспринимает уже не миф, а могучую правдивость и естественность изображения и силу подражания в художнике. И здесь мы замечаем победу явления над всеобщим и удовольствие, доставляемое частным случаем, как некоторым анатомическим препаратом; мы уже вдыхаем воздух теоретического мира, в котором научное познание стоит выше, чем художественное отражение мирового правила. Движение в направлении характеристического быстро идёт вперёд; в то время как ещё Софокл рисует законченные характеры и в целях утончённого развития их впрягает миф в ярмо, Еврипид уже даёт нам только отдельные крупные черты характеров, как они сказываются в сильных страстях; в новейшей аттической комедии остаются только маски с одним определённым выражением: легкомысленный старик, обманутый сводник, лукавые рабы — всё это неутомимо повторяется. Куда девался мифотворческий дух музыки? Всё, что ещё осталось теперь от музыки, это — либо волнующая, либо напоминающая музыка, т. е. либо средство для возбуждения притуплённых и утомлённых жизнью нервов, либо живопись звуками. Для первой становится собственно совершенно безразличным, какой текст к ней прилажен: уже у Еврипида, когда герой или хоры начинают петь, дело принимает довольно небрежный характер; можно представить себе, до чего оно могло дойти у его дерзких преемников!
Но яснее всего проявляется новый недионисический дух в развязках новейших драм. В старой трагедии чувствовалось в конце метафизическое утешение, без которого вообще необъяснимо наслаждение трагедией; чаще всего, пожалуй, звучат эти примиряющие напевы из иного мира в «Эдипе в Колоне». Теперь, когда гений музыки бежал из трагедии, трагедия в строгом смысле мертва: ибо откуда мы могли бы теперь почерпнуть это метафизическое утешение? Стали поэтому искать земного решения трагического диссонанса; герой, после того как он вдосталь был измучен судьбою, пожинал в благородном браке, в оказании ему божеских почестей заслуженную награду. Герой стал гладиатором, которому, когда он был основательно искалечен и изранен, при случае давали свободу. На место метафизического утешения вступил deus ex machina. Я не хочу этим сказать, что трагическое миропонимание было везде и вполне разрешено напором недионисического духа; мы знаем только, что оно принуждено было бежать за пределы искусства, скрыться как бы в преисподнюю, выродившись в тайный культ. На обширной же поверхности эллинизма свирепствовало пожирающее дыхание того духа, проявление которого мы видим в особой форме «греческой весёлости», о чём уже прежде была речь как о некоторой старческой, непроизводительной жизнерадостности; эта весёлость контрастирует с чудной «наивностью» древнейших греков, которую, согласно данной нами характеристике, следует рассматривать как цветок аполлонической культуры, выросший из мрака пропасти, как победу, одержанную эллинской волей через самоотражение в красоте над страданием и мудростью страдания. Благороднейшая же форма той другой формы «греческой весёлости», александрийской, есть весёлость теоретического человека, она имеет те же характерные признаки, которые мною только что были выведены из недионисического духа, а именно: она борется с дионисической мудростью и искусством; она стремится разложить миф; она ставит на место метафизического утешения земную гармонию, даже своего собственного deus ex machina, а именно бога машин и плавильных тиглей, т. е. познанные и обращённые на служение высшему эгоизму силы природных духов; она верит в возможность исправить мир при помощи знания, верит в жизнь, руководимую наукой, и действительно в состоянии замкнуть отдельного человека в наитеснейший круг разрешимых задач, где он весело обращается к жизни со словами: «я желаю тебя: ты достойна быть познанной».
18
Это извечный феномен: всегда алчная воля находит средство, окутав вещи дымкой иллюзии, удержать в жизни свои создания и понудить их жить и дальше. Одного пленяет сократическая радость познавания и мечта исцелить им вечную рану существования, другого обольщает веющий перед его очами пленительный покров красоты, вот этого, наконец, — метафизическое утешение, что под вихрем явлений неразрушимо продолжает течь вечная жизнь, не говоря уже о чаще встречающихся и, пожалуй, даже более сильных иллюзиях, каковые воля всегда держит наготове. Названные выше три ступени иллюзии вообще пригодны только для более благородных по своим дарованиям натур, ощущающих вообще с более углублённым неудовольствием бремя и тяготы существования, — натур, в которых можно заглушить это чувство неудовольствия лишь изысканными возбудительными средствами. Из этих возбудительных средств состоит всё то, что мы называем культурой; в зависимости от пропорции, в которой они смешаны, мы имеем или преимущественно сократическую, или художественную, или трагическую культуру; или, если взять исторические примеры, можно сказать, что существует либо александрийская, либо эллинская, либо буддийская культура.
Весь современный нам мир бьётся в сетях александрийской культуры и признаёт за идеал вооружённого высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ. Все наши средства воспитания имеют своей основной целью этот идеал; всякий другой род существования принуждён сторонкой пробиваться, как дозволенная, но не имевшаяся в виду форма существования. Есть нечто почти ужасающее в том, что образованный человек долгое время допускался здесь лишь в форме учёного; даже нашим поэтическим искусствам суждено было развиться из учёных подражаний, и в главном эффекте рифмы заметно ещё возникновение нашей поэтической формы из искусственных экспериментов над не родным, чисто учёным языком. Сколь непонятным должен был бы представиться настоящему греку самопонятный современный культурный человек Фауст, этот неудовлетворённый, мечущийся по всем факультетам, из-за стремления к знанию предавшийся магии и чёрту Фауст, которого стоит лишь для сравнения поставить рядом с Сократом, чтобы убедиться, как современный человек начинает уже сознавать в своём предчувствии границы этой сократической радости познания и стремится из широкого пустынного моря знания к какому-нибудь берегу. Когда однажды Гёте сказал Эккерману по поводу Наполеона: «Да, дорогой мой, бывает и продуктивность дела», он в очаровательно наивной форме напомнил о том, что для современного человека нетеоретический человек есть нечто невероятное и вызывающее изумление, так что и тут понадобилась мудрость Гёте, чтобы найти понятной, и даже простительной, и эту столь чуждую нам форму существования.
Нельзя скрывать от себя, однако, всего того, что кроется в лоне этой сократической культуры! Оптимизм, мнящий себя безграничным! Раз так, то нечего и пугаться, когда созревают плоды этого оптимизма, когда общество, проквашенное вплоть до самых нижних слоев своих подобного рода культурой, мало-помалу начинает содрогаться от пышных вожделений и сладострастных волнений, когда вера в земное счастье для всех, когда вера в возможность этой всеобщей культуры знания постепенно переходит в грозное требование такого александрийского земного счастья, в заклинание еврипидовского deus ex machina! И заметьте себе: александрийская культура нуждается в сословии рабов, чтобы иметь прочное существование; но она отрицает, в своём оптимистическом взгляде на существование, необходимость такого сословия и идёт поэтому мало-помалу навстречу ужасающей гибели, неминуемой, как только эффект её прекрасных, соблазнительных и успокоительных речей о «достоинстве человека» и «достоинстве труда» будет окончательно использован. Нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившегося смотреть на своё существование как на некоторую несправедливость и принимающего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все предшествовавшие поколения. Кто осмелится, на фоне этих грозящих бурь, со спокойным духом апеллировать к нашим бледным, утомлённым религиям, которые сами в своих основах выродились в религии учёных, так что миф, необходимая предпосылка всякой религии, давно уже повсюду лежит в параличе, и даже на этой почве везде достиг господства тот оптимистический дух, который мы только что обозначили как зародыш гибели нашего общества?
Между тем как дремлющая в лоне теоретической культуры угроза начинает постепенно нагонять страх на современного человека и он в своём беспокойстве хватается за средства, выисканные в сокровищнице его опыта, чтобы предотвратить опасность, сам не очень уж веря в эти средства; между тем как он таким образом начинает чувствовать то, что воспоследует из него самого, — великие, широко одарённые натуры сумели воспользоваться этим самым оружием науки, чтобы вообще уяснить и представить нам границы и условность познавания и тем решительно отвергнуть притязание науки на универсальное значение и универсальные цели; при каковом указании впервые была познана иллюзорность того представления, по которому дерзали считать возможным при помощи закона причинности проникнуть в сущность вещей.
Огромному мужеству и мудрости Канта и Шопенгауэра удалось одержать труднейшую победу — победу над скрыто лежащим в существе логики оптимизмом, который в свою очередь представляет подпочву нашей культуры. В то время как этот оптимизм, опираясь на не подлежавшие в его глазах сомнению aeternae veritates, верил в познаваемость и разрешимость всех мировых загадок, а с пространством, временем и причинностью обращался как с совершенно безусловными и имеющими всеобщее значение законами, Кант открыл, что эти последние, собственно, служат лишь к тому, чтобы возвести голое явление, создание Майи, в степень единственной и высшей реальности и поставить его на место сокровеннейшей и истинной сущности вещей, а действительное познание этой последней сделать тем самым невозможным, т. е., по выражению Шопенгауэра, еще крепче усыпить спящего и грезящего («Мир, как воля и представление» I 498). Этим прозрением положено начало культуры, которую я осмеливаюсь назвать трагической; её важнейший признак есть то, что на место науки как высшей цели продвинулась мудрость, которая, не обманываясь и не поддаваясь соблазну уклониться в область отдельных наук, неуклонно направляет свой взор на общую картину мира и в ней, путём сочувствия и любви, стремится охватить вечное страдание как собственное страдание. Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашием взгляда, с этим героическим стремлением к чудовищному, представим себе отважную поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с которой они поворачиваются спиной ко всем этим слабосильным доктринам оптимизма, дабы в целом и в полноте «жить с решительностью»; разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры, для самовоспитания к строгости и ужасу, возжелал нового искусства — искусства метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежащей и предназначенной Елены, и воскликнул вместе с Фаустом:
Не должен разве я стремительною мощью
Единый вечный образ вызвать к жизни?
Но теперь, когда сократическая культура с двух сторон потрясена и скипетр непогрешимости уже дрожит в её руках, — во-первых, из страха перед тем, что может воспоследовать из неё самой и о чём она только теперь начинает догадываться, а затем, ввиду того что она сама не испытывает уже прежнего наивного доверия к вечной непреложности своего основания, — перед нами открывается печальное зрелище: пляска её мышления с вожделением кидается на всё новые и новые образы, стремясь объять их, чтобы затем внезапно с содроганием отшатнуться от них, как Мефистофель от соблазнительных ламий. В том и признак этого «надлома», о котором все привыкли говорить как о коренном недуге современной культуры, что теоретический человек пугается того, что из него самого может воспоследовать, и, неудовлетворённый, не решается уже более вверить себя страшному ледяному потоку бытия; перепуганный, бегает он взад и вперёд по берегу. Он не приемлет больше ничего во всей его полноте, во всей его неотделимости от природной жестокости вещей. Вот до чего изнежили его оптимистические воззрения. К тому же он чувствует, что культура, построенная на принципе науки, должна погибнуть, как только она начнёт становиться нелогичной, т. е. бежать от своих собственных последствий. В нашем искусстве это всеобщее бедствие находит своё выражение; напрасно мы в своей подражательности ищем опоры во всех великих продуктивных периодах и натурах, напрасно мы окружаем современного человека для его утешения всей «мировой культурой» и ставим его среди художественных стилей и художников всех времен, дабы он мог, как Адам зверям, дать каждому его имя: он всё же остаётся вечно голодающим, «критиком» бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток.
19
Едва ли можно острее выразить внутреннее содержание сократической культуры, чем назвав её культурой оперы; ибо в этой последней области названная культура с особой наивностью обнаружила свои намерения и познания, что способно лишь удивить, если мы сопоставим генезис оперы и факты её развития с вечными истинами аполлонического и дионисического начал. Я напомню прежде всего возникновение stilo rappresentativo и речитатива. Можно ли поверить, что эту совершенно сведённую к внешнему, неспособную вызвать благоговейное настроение музыку оперы встречали восторженным приветом и лелеяли её, видя в ней возрождение всей истинной музыки, в то самое время, когда только что возникла невыразимо возвышенная и священная музыка Палестрины? И кто, с другой стороны, решился бы возложить ответственность за эту столь неистово распространявшуюся страсть к опере исключительно на погоню за роскошью развлечений известных флорентийских кругов и тщеславие их драматических певцов? Что в одно и то же время и даже в одном и том же народе рядом с возвышающимися сводами палестриновских гармоний, в сооружении которых участвовало всё христианское Средневековье, могла пробудиться эта страсть к полумузыкальному способу речи, это я могу себе объяснить только из некоторой попутно действующей, скрытой в существе речитатива, внехудожественной тенденции.
Слушателя, желающего отчётливо слышать слова во время пения, певец удовлетворяет тем, что он больше говорит, чем поёт, и в этом полупении патетически подчёркивает смысл слов: этим обострением пафоса он облегчает понимание слов и преодолевает ту другую, ещё оставшуюся половину музыки. Действительная опасность, которая ему теперь угрожает, заключается в том, что он при случае не вовремя даёт перевес музыке, отчего тотчас же должен пропасть пафос речи и отчётливость слова; между тем как, с другой стороны, он всё время чувствует потребность музыкального разряжения и виртуозной постановки своего голоса. Здесь ему на помощь приходит «поэт», умеющий дать ему достаточно поводов для лирических междометий, повторений слов и целых фраз и т.д., на каковых местах певец может теперь отдохнуть в чисто музыкальном элементе, не обращая внимания на слово. Это чередование эмоционально впечатлительной, но лишь наполовину пропетой речи и вполне пропетых междометий лежит в существе stilo rappresentativo; это быстро сменяющееся старание действовать попеременно, то на понятие и представление, то на музыкальное нутро слушателя, есть нечто столь противоестественное и столь противоречащее внутренне как дионисическому, так и в равной мере аполлоническому художественному стремлению, что приходится прийти к заключению о таком происхождении речитатива, которое нимало не связано с какими бы то ни было художественными инстинктами. Речитатив, согласно данному нами описанию, может быть определён как смешение эпической и лирической декламации, и притом никоим образом не как внутренне устойчивая смесь, недостижимая при столь разнородных веществах, но лишь как внешняя спайка, на манер мозаики, т.е. нечто, решительно не имеющее себе подобия и образца в области природы и опыта. Но не так смотрели на дело изобретатели речитатива: они, а за ними и вся их эпоха, полагали, напротив, что этим stilo rappresentativo разрешалась тайна античной музыки и вместе с тем найдено было единственное возможное объяснение необычайного впечатления, производимого каким-нибудь Орфеем, Амфионом и, пожалуй, даже греческой трагедией. Новый стиль слыл воскрешением наиболее впечатлительной музыки — древнегреческой; мало того, при всеобщем и крайне популярном взгляде на гомеровский мир как на некоторый первобытный мир можно было даже отдаться грезе о возвращении назад, к райским началам человечества, когда и музыка необходимо должна была иметь ту беспримерную чистоту, мощь и невинность, о которой так трогательно повествуют поэты в своих пасторалях. Здесь мы имеем возможность бросить взгляд на сокровеннейшие стороны того процесса, результатом которого явилась эта, во всех отношениях современная, форма искусства — опера; известный род искусства возникает здесь под напором могучей потребности, но сама эта потребность носит неэстетический характер: она сводится к тоске по идиллии, к вере в первобытное существование доброго и одарённого художественными наклонностями человека. Речитатив слыл за новооткрытый язык этого первобытного человека, опера — за вновь обретённую родину этого идиллически или героически доброго существа, которое вместе с тем во всех своих действиях покоряется природному художественному влечению; причём всякий раз, как оно имеет что-нибудь сказать, оно слегка напевает, чтобы, при малейшем движении чувства, немедленно запеть во весь голос. Для нас теперь безразлично то обстоятельство, что тогдашние гуманисты, выставляя новосозданный образ райского художника, имели в виду борьбу против старинного церковного представления о греховном по своей природе и погибшем человеке; так что оперу приходится понимать как оппозиционную догму о добром человеке, представляющую одновременно и средство к утешению, направленное против пессимизма, к которому, при ужасающей неустойчивости и отсутствии безопасности в тогдашней жизни, так склонны были наиболее серьёзно настроенные люди эпохи. Достаточно, если нам стало известным, что обаяние, а с ним и генезис этой новой художественной формы лежат по существу в удовлетворении некоторой совершенно неэстетической потребности, в оптимистическом возвеличении человека в себе и во взгляде на первобытного человека как на существо, от природы доброе и одарённое художественными наклонностями; каковой принцип оперы мало-помалу превратился в грозное и ужасное требование, которое мы, на фоне социалистических движении современности, не можем уже более пропускать мимо ушей. «Добрый первобытный человек» претендует на права; какие райские виды на будущее!
Я приведу попутно ещё одно столь же ясное подтверждение моего взгляда, что опера воздвигнута на тех же основаниях, что и наша александрийская культура. Опера есть порождение теоретического человека, критически настроенного любителя, а не художника; это — один из самых поразительных фактов в истории искусства вообще. Только на редкость немузыкальные слушатели могли выдвинуть требование, чтобы прежде всего были понятны слова; так что возрождение музыкального искусства могло ожидаться лишь в случае открытия какого-либо нового способа пения, при котором текст слов мог бы распоряжаться контрапунктом, как господин слугою. Ибо предполагалось, что слова настолько же благороднее сопровождающей их гармонической системы, насколько душа благороднее тела. Отправляясь от этой дилетантской, немузыкальной грубости взглядов, трактовали с первых же шагов оперы и соединение в одно целое музыки, образа и слова; первые опыты в духе этой эстетики были произведены в знатных дилетантских кругах Флоренции поэтами и певцами при покровительстве названных кругов. Бессильный в искусстве человек создаёт себе некоторое подобие искусства, характерное именно тем, что оно есть произведение по существу нехудожественного человека. Так как он даже и не подозревает дионисической глубины музыки, то он и сводит музыкальное наслаждение к рассудочной риторике страсти, переложенной в слова и в звуки, в характере stilo rappresentativo, а также к наслаждению техникой пения; так как личное видение ему недоступно, то он требует услуг от механика и декораторов; так как он не в силах понять истинной сущности художника, то его фантазия рисует ему, сообразно его вкусам, «художественно одарённого первобытного человека», т. е. такого человека, который под влиянием страсти поёт и говорит стихами. Он старается перенестись мечтой в те времена, когда достаточно было почувствовать страсть, чтобы тут же и создать стихи и песни; словно аффект когда-нибудь был в состоянии создать что-либо художественное. Предпосылка оперы есть укоренившееся ложное представление о процессе художественного творчества, а именно та идиллическая вера, что в сущности каждый чувствующий человек — художник. По смыслу этой веры опера есть выражение взглядов на искусство публики, дилетантизма в искусстве, диктующего, с весёлым оптимизмом теоретического человека, свои законы.
Если бы мы пожелали подвести под одно общее понятие те два только что описанных представления, результатом действия которых явилась опера, — то мы могли бы это сделать, только поведя речь об идиллической тенденции оперы, причём нам в этом случае достаточно будет воспользоваться терминологией Шиллера и его толкованием предмета. Природа и идеал, говорит он, либо составляют предмет печали, если первая изображается как утраченная, а второй — как недостигнутый; либо и она и он являются предметом радости, если их представляют данными в действительности. В первом случае получается элегия в узком, во втором — идиллия в широком смысле. Здесь следует с первых же шагов обратить внимание на общий отличительный признак указанных двух представлений, возникающих при рассмотрении генезиса оперы, — а именно что в них идеал сознаётся не как недоступный, а природа — не как утраченная. Согласно такому сознанию, существовала некогда первобытная эпоха, когда человек возлежал на лоне природы и в этом состоянии естественности возвышался вместе с тем и до идеала человечности в райской доброте и художественном творчестве; предполагалось, что все мы произошли от этого совершенного первобытного человека и даже можем считаться его верным подобием; только нам следует для этого кое-что сбросить с себя, и тогда, добровольно отказавшись от излишней учёности и чрезмерно богатой культуры, мы вновь опознаем в себе этого первобытного человека. Образованный человек эпохи Возрождения видел в созданном им оперном подобии греческой трагедии возможность такой природы и идеала, путь к некоторой идиллической действительности; он пользовался этой трагедией, как Данте пользовался Вергилием, чтобы достигнуть врат рая; а здесь он мог уже самостоятельно идти дальше и от подражания высшей художественной форме греков перейти к «восстановлению всех вещей», к воспроизведению первоначального художественного мира человека. Такое ничем не смущаемое добродушие этих отважных стремлений, да ещё при полной погруженности в теоретическую культуру, может быть объяснимо только утешительной верой, что «человек в себе» и есть именно этот неуклонно добродетельный оперный герой, вечно наигрывающий на флейте и поющий пастух, который в конце концов неизбежно должен опознать себя таковым, даже если он при случае и сбился как-нибудь с пути; здесь мы имеем исключительно плод того оптимизма, который подъемлется из глубины сократического миропонимания, как приторный и дурманящий столб ароматов.
Итак, в чертах оперы никоим образом не замечается элегической печали о вечной утрате, а скорее радость вечного обретения, ничем не смущаемое наслаждение идиллической действительностью, которую по крайней мере можно представлять себе как данную в каждое мгновение, хотя, пожалуй, можно при случае и догадаться, что эта мнимая действительность есть не что иное, как фантастически нелепая бредня и шалость, которой всякий, кому довелось примерить её к ужасающей серьёзности истинной природы и сравнить её с действительными сценами в первоистории древнейшего человечества, должен крикнуть: исчезни, призрак! Тем не менее было бы ошибочно думать, что такое шаловливое существо, как опера, можно спугнуть попросту одним решительным криком, точно привидение. Кто хочет уничтожить оперу, тот должен решиться на борьбу с самой александрийской весёлостью, которая столь наивно высказывает в ней свои любимые представления и находит в ней свою истинную художественную форму. Но чего можно ждать для самою искусства от действия художественной формы, источники которой вообще не лежат в пределах эстетики? от художественной формы, которая скорее прокралась в область искусства из некоторой полуморальной сферы и только при случае изредка способна обманывать нас по части своего полукровного происхождения? Какими же соками питается это паразитическое существо — опера, если не соками истинного искусства? Разве нельзя предвидеть, что, под действием его идиллических соблазнов, под влиянием его льстивых александрийских ухищрений, верховная и единственно заслуживающая серьёзного к себе отношения задача искусства — спасать наши взоры от открывающихся им ужасов ночи и врачевать душу, охваченную судорогами волевых возбуждений, бальзамом иллюзии — выродится в пустую и развлекательную забаву? Что станется с вечными истинами дионисического и аполлонического начал при том смешении стилей, на которое я уже указывал как на сущность этого stilo rappresentativo, где музыка рассматривается как служанка, а текст — как хозяин, где музыка уподоблена телу, а текст — душе? где высшим заданием в лучшем случае будет некоторая описательная живопись звуками, подобно тому как это имело место некогда в новом аттическом дифирамбе? где музыка окончательно теряет своё истинное достоинство — быть дионисическим зеркалом мира, так что ей остаётся лишь, как рабе явления, подражать ходу форм этого явления и игрой линий и пропорций возбуждать чисто внешнее удовольствие? При строгом взгляде на дело это роковое влияние оперы на музыку прямо-таки совпадает с развитием музыки вообще в новейшие времена; скрытому в генезисе оперы и в существе представляемой ею культуры оптимизму удалось с ужасающей быстротой совлечь с музыки её дионисическое мировое предназначение и придать ей характер чего-то увеселительного, некоторой игры форм; с каковой переменой можно сравнить разве что метаморфозу эсхиловского человека в александрийского весельчака.
Но если мы в приведённом здесь примере с полным правом связали исчезновение дионисического духа с резко бросающимся в глаза, но до сих пор не объяснённым превращением и вырождением греческого человека, — то какие же надежды должны ожить в нас, раз несомненнейшие предзнаменования дают нам ручательство в том, что в современном нам мире происходит обратный процесс постепенного пробуждения дионисического духа! Немыслимо, чтобы божественная мощь Геракла вечно растрачивала свои силы в сладострастном рабстве у Омфалы. Из дионисических основ немецкого духа возникла сила, не имевшая ничего общего с первоусловиями сократической культуры и не находившая в них ни своего объяснения, ни своего оправдания; напротив, она ощущалась этой культурой как нечто необъяснимо ужасное и враждебно мощное; то была немецкая музыка, причём под нею надо понимать главным образом могучий солнечный бег от Баха к Бетховену и от Бетховена к Вагнеру. Что может поделать лакомая до познания сократика наших дней даже в лучшем случае с этим демоном, восстающим из неисчерпаемых глубин? Ни из сплетения зигзагов и арабесок оперной мелодии, ни при помощи арифметических счетов фуги и контрапунктической диалектики не выведешь формулы, при трижды могучем свете которой можно было бы подчинить себе этого демона и заставить его заговорить. И что за зрелище представляют теперь наши эстетики, когда они с сачком «красоты» собственного изобретения гоняются и бегают за носящимся перед ними с непостижимой жизненностью музыкальным гением, причём их движения так же мало определяются вечной красотой, как и понятием о возвышенном! Пусть только понаблюдают при случае этих благосклонных покровителей музыки живьём и поближе, когда они без устали восклицают: красота, красота! Похожи ли они при этом на взлелеянных на лоне красоты баловней и любимых чад природы, и не ищут ли они скорее какой-нибудь обманной формы прикрытия для своей собственной грубости и эстетического предлога для своей бедной ощущениями трезвости; причём мне приходит на память, например, Отто Ян. Но пусть лжецы и лицемеры поостерегутся немецкой музыки; ибо среди всей нашей культуры именно она есть тот единственный непорочный, чистый и очистительный дух огня, из которого и в который, как в учении великого Гераклита Эфесского, движутся все вещи, пробегая двойной круговой путь; всё, что мы зовём теперь культурой, образованием, цивилизацией, должно будет в своё время предстать перед безошибочным судьей — Дионисом.
Припомним затем, как бьющему из тех же источников духу немецкой философии дана была возможность, благодаря Канту и Шопенгауэру, уничтожить спокойную жизнерадостность научной сократики ссылкой на её пределы и указанием таковых, как этим указанием было положено начало бесконечно более глубокому и серьёзному рассмотрению этических вопросов и искусства; каковое рассмотрение мы смело можем назвать облечённой в понятия дионисической мудростью. На что указывает нам это таинственное единство немецкой музыки и немецкой философии, как не на новую форму существования, с содержанием которой мы можем познакомиться только предположительно из эллинских аналогий? Ибо для нас, стоящих на рубеже двух различных форм существования, эллинский прообраз сохраняет ту неизмеримую ценность, что в нём в классически-поучительной форме отчеканены и все упомянутые переходы и битвы; разве что мы переживаем главнейшие эпохи жизни эллинского духа как бы в обратном порядке и теперь как бы переходим из александрийского периода назад, к эпохе трагедии. При этом в нас живо чувство, что рождение трагического века для немецкого духа означает лишь возвращение его к самому себе, блаженное обретение себя, после того как долгое время непреоборимые чужеродные силы держали его, жившего в беспомощном варварстве формы, под ярмом своих собственных форм. Теперь ему дана наконец возможность вернуться к первоисточнику своего существа и выступить свободно и смело перед лицом всех народов без помочей романской цивилизации, если только он сумеет при этом неукоснительно воспользоваться уроками того народа, учиться у которого вообще есть уже высокая честь и выдающаяся редкость, а именно уроками греков. И когда же нам учиться у этих величайших наставников, как не теперь, когда мы переживаем возрождение трагедии и подвержены опасности не знать, откуда она явится, и не быть в состоянии истолковать себе, куда она стремится!
20
Следовало бы когда-нибудь перед лицом неподкупного судьи взвесить, в какое именно время и в лице каких людей немецкий дух сильнее всего боролся за право учиться у греков; и если мы с уверенностью признаем, что эта единственная в своём роде похвала должна быть присуждена благороднейшей борьбе за просвещение, которую вели Гёте, Шиллер и Винкельман, то придётся прибавить во всяком случае, что с того времени и со времени ближайших последствий этой борьбы стремление одним и тем же путём прийти к просвещению и к грекам — непостижимым образом становится всё слабее и слабее. Не следует ли нам, во избежание совершенного отчаяния в судьбах немецкого духа, заключить отсюда, что и этим борцам в каком-то важном пункте не удалось проникнуть в самое ядро эллинского существа и установить прочный союз любви между немецкой и эллинской культурой? Если так, то, быть может, бессознательное усмотрение этого недочёта и пробудило в более вдумчивых натурах безнадёжное сомнение в их личной способности, после таких предшественников, продвинуться вперёд по этому пути к образованию и вообще достигнуть намеченной цели. Поэтому и заметно с того времени, что суждение о культурной значимости греков постоянно вырождается; приходится слышать выражение соболезнующего превосходства в самых разнообразных станах разума и неразумия; с других сторон пробавляются совершенно бесплодным прекрасноречием о «греческой гармонии», «греческой красоте», «греческой весёлости». И именно в тех кругах, которые должны были бы считать своей честью неустанно черпать из греческого потока на благо немецкому образованию, в кругах преподавателей высших учебных заведений, лучше всего сумели своевременно и удобно отделаться от греков, доходя зачастую до скептического отказа от эллинского идеала и до полного извращения действительной цели всякого изучения древности. Тот, кто в этих кругах ещё не растратил вообще всей своей силы в старании быть надёжным корректором старинных текстов или естественноисторическим микроскопистом языка, — тот ищет, пожалуй, ещё и возможности «исторически» овладеть греческой древностью наряду с другими древностями, но во всяком случае по методу нашей современной образованной историографии и усвоив себе её манеру превосходства.
Если поэтому собственно образовательная сила высших учебных заведений никогда ещё не стояла у нас так низко и не была так ослаблена, как в настоящее время; если «журналист», этот бумажный раб дня, во всех сферах образования одержал победу над профессором и последнему остаётся лишь обычная теперь метаморфоза самому писать в манере журналиста и порхать со свойственным этой сфере «лёгким изяществом» в качестве весёлого и образованного мотылька, — то с каким же мучительным смущением должны люди подобного образования, да к тому же ещё в такое время, как наше, смотреть на феномен, который мог бы быть понят разве только путём аналогии из глубочайших основ до сих пор ещё не постигнутого эллинского гения, — на новое пробуждение дионисического духа, на возрождение трагедии? Мы не знаем другого периода искусства, в котором так называемое образование и действительное искусство были бы столь же чужды друг другу и стояли бы в столь же враждебных отношениях, как это наблюдается в настоящее время. Нам понятно, почему такое расслабленное образование ненавидит истинное искусство: оно видит в нём свою гибель. Но не отжила ли уже вся эта форма культуры, а именно сократическо-александрийская, свой век, раз она могла сойтись столь нарядным, но хрупким клином, каковой представляет из себя современное образование? Если уж таким героям, как Шиллер и Гёте, не удалось взломать заколдованные ворота, ведущие в волшебную гору эллинизма, если, при их мужественной борьбе, дело не пошло дальше того тоскующего взгляда, который гётевская Ифигения шлёт из варварской Тавриды чрез море на родину, — на что же оставалось бы надеяться эпигонам таких героев, если бы пред ними внезапно на другой стороне, ещё не затронутой всеми усилиями предшествовавшей культуры, не открывались сами собой те ворота — под мистические звуки вновь пробуждённой музыки трагедии?
Пусть никто не старается ослабить в нас веру в ещё предстоящее возрождение эллинской древности; ибо этой верой питается вся наша надежда на обновление и очищение немецкого духа чарами музыкального огня. На что иное сумели бы мы ещё указать, что среди запустения и изнеможения современной культуры пробудило бы в нас хоть какое-нибудь утешительное ожидание в грядущем? Напрасно ищут наши взоры хоть одного-единственного крепко разросшегося корня, хоть одного клочка плодоносной и здоровой почвы: везде пыль, песок, оцепенение, вымирание. И безнадёжно одинокому человеку не найти себе лучшего символа, чем «рыцаря со смертью и дьяволом», как его изобразил нам Дюрер, закованного в броню рыцаря со стальным, твёрдым взглядом, умеющего среди окружающих его ужасов найти свою дорогу, не смущаемого странными спутниками, но всё же безнадёжного, одинокого на своём коне и со своей собакой.
Таким дюреровским рыцарем был наш Шопенгауэр: он потерял всякую надежду, но он жаждал истины. Нет ему равного. —
Но как изменяется вдруг эта, в таких мрачных красках описанная нами, заросль нашей утомлённой культуры, как только её коснутся дионисические чары! Бурный вихрь схватывает всё отжившее, гнилое, разбитое, захиревшее, крутя, объемлет его красным облаком пыли и, как коршун, уносит его ввысь. В смущении ищут наши взоры исчезнувшее: ибо то, что они видят, как бы вышло из глубин, где оно было скрыто, к золотому свету, во всей своей зелёной полноте, с такой роскошью жизни, такое безмерное в своём стремительном порыве. Среди этого преизбытка жизни, страдания и радости восседает Трагедия в величественном восторге, она прислушивается к отдалённому скорбному напеву: он повествует о Матерях бытия, коим имена: Мечта, Воля, Скорбь. — Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки ваши и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к нашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждёт искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!
21
Оставляя этот увещательный тон и нисходя до настроения, приличествующего созерцающему, я повторю, что только у греков мы можем научиться тому значению, которое имеет для сокровеннейших жизненных глубин народа подобное, чудесное в своей внезапности, пробуждение трагедии. Народ, сражавшийся с персами на полях битв, был народом трагических Мистерий; и, с другой стороны, народу, который вёл эти войны, необходима трагедия, как целительный напиток. Кто бы заподозрил именно в этом народе, после того как он в целом ряде поколений был до глубины потрясаем конвульсиями дионисического демона, — способность к такому равномерному и сильному проявлению простейшего политического чувства, естественных патриотических инстинктов, первобытной, мужественной воинственности? Ведь при всяком значительном распространении дионисических возбуждении заметно, как дионисическое освобождение от оков индивида прежде всего даёт себя чувствовать в доходящем до безразличия и даже до враждебности умалении политических инстинктов; и, с другой стороны, несомненно и то, что градозиждущий Аполлон есть также и гений principii individuationis, а государство и патриотизм не могут жить без утверждения личности. Из оргиазма для народа есть только один путь — путь к индийскому буддизму, который, чтобы вообще при его стремлении в Ничто быть сносным, нуждается в указанных редких экстатических состояниях, возносящих над пространством, временем и индивидом; а эти состояния в свою очередь обусловливают необходимость философии, учащей преодолевать посредством представления неописуемую тягость промежуточных состоянии. С той же необходимостью народ, исходящий из безусловного признания политических стремлений, попадает на путь крайнего обмирщения, самым грандиозным, но зато и самым ужасающим выражением которого служит римское imperium.
Поставленные между Индией и Римом и постоянно побуждаемые к соблазну выбора между ними, греки сумели в дополнение к упомянутым двум формам изобрести третью, чистую в своей классичности; им самим, правда, недолго пришлось пользоваться ею, но потому она и бессмертна. Ибо слово, что любимцы богов умирают рано, имеет силу для всех вещей; но также несомненно и то, что после этого они вместе с богами живут вечно. Нельзя же требовать от наиблагороднейших предметов, чтобы они имели прочность дублёной кожи; грубая устойчивость, как она была, например, свойственна римскому национализму, едва ли принадлежит к необходимым атрибутам совершенства. Если же мы спросим, с помощью каких целебных средств грекам удалось в великую эпоху их существования, при необычайной напряжённости их дионисических и политических стремлений, не только не истощить своих сил в экстатическом самоуглублении или в изнурительной погоне за мировым могуществом и мировой славой, но даже достигнуть того дивного смешения, какое свойственно благородному, одновременно и возбуждающему и созерцательно настраивающему вину, — то придётся вспомнить о необычайной, взволновавшей всю народную жизнь, очищающей и разряжающей силе трагедии, высшая ценность которой станет нам отчасти ясна лишь тогда, когда она и нам предстанет, как и грекам, совокупностью всех предохраняющих целебных сил и державной посредницей между сильнейшими, но по существу своему и наиболее роковыми свойствами народа.
Трагедия всасывает в себя высший музыкальный оргиазм и тем самым приводит именно музыку, как у греков, так и у нас, к совершенству; но затем она ставит рядом с этим трагический миф и трагического героя, а этот последний, подобно могучему титану, приемлет на рамена свои весь дионисический мир и снимает с нас тяготу его; между тем как, с другой стороны, она, при посредстве того же трагического мифа, в лице трагического героя способствует нашему освобождению от алчного стремления к этому существованию, напоминая нам о другом бытии и высшей радости, к которой борющийся и полный предчувствий герой приуготовляется своей гибелью, а не своими победами. Трагедия ставит между универсальным значением своей музыки и дионисически восприимчивым зрителем некоторое возвышенное подобие, миф, и возбуждает в зрителе иллюзию, будто музыка есть лишь высшее изобразительное средство для придания жизни пластическому миру мифа. Опираясь на этот благородный обман, она может теперь дать волю своим членам в дифирамбической пляске и, не задумываясь, отдаться оргиастическому чувству свободы, — на что она, будучи только музыкой и не располагая указанным обманом, не могла бы решиться. Миф обороняет нас от музыки — и, с другой стороны, только он и придаёт ей высшую свободу. В благодарность за это музыка приносит в дар трагическому мифу такую всепроникающую и убедительную метафизическую значительность, какой слово и образ, без этой единственной в своём роде помощи, никогда не могли бы достигнуть; и в особенности при её посредстве трагическим зрителем овладевает именно то, упомянутое нами выше, уверенное предчувствие высшей радости, путь к которой ведёт через гибель и отрицание, так что ему чудится, словно с ним внятно говорит сокровеннейшая бездна вещей.
Если в приведённых рассуждениях я, быть может, сумел дать лишь предварительное и только для немногих сразу понятное выражение этому трудному представлению, то именно теперь я не могу не сделать ещё одну попытку толкования и не обратиться к моим друзьям с просьбой — подготовиться к уразумению общего положения рассмотрением отдельного примера, известного нам всем по опыту. При разборе этого примера я не могу ссылаться на тех, кто пользуется картинами сценических событий, словами и аффектами действующих лиц, чтобы с их помощью ближе подойти к восприятию музыки: ибо для всех подобных людей музыка не есть родной язык, и они даже при этой помощи не проникают дальше преддверья музыки, никогда не смея коснуться её сокровеннейших святынь, а некоторые из них, как Гервинус, не достигают этим путём даже и преддверья. Нет, я обращаюсь лишь к тем, кто, непосредственно сроднившись с музыкой, имеют в ней как бы своё материнское лоно и связаны с вещами почти исключительно при посредстве бессознательных музыкальных отношений. К этим подлинным знатокам музыки обращаю я вопрос: могут ли они представить себе человека, который был бы способен воспринять третий акт «Тристана и Изольды» без всякого пособия слова и образа, в чистом виде, как огромную симфоническую композицию, и не задохнуться от судорожного напряжения всех крыльев души? Человек, который, как в данном случае, словно бы приложил ухо к самому сердцу мировой воли и слышит, как из него бешеное желание существования изливается по всем жилам мира — то как гремящий поток, то как нежный, распылённый ручей, — да разве такой человек не был бы сокрушён в одно мгновение? Да разве он мог бы в жалкой стеклянной оболочке человеческого индивида вынести этот отзвук бесчисленных криков радости и боли, несущихся к нему из «необъятных пространств мировой ночи», и не устремиться неудержимо при звуках этого пастушьего напева метафизики к своей изначальной родине? И если тем не менее подобное произведение может быть воспринято в целом без отрицания индивидуального существования, если подобное творение могло быть создано и не сокрушило своего творца — то в чём можем мы найти разгадку такого противоречия?
Здесь, в сущности, между нашим высшим музыкальным возбуждением и упомянутой музыкой продвигается трагический миф и трагический герой, лишь как символ наиболее универсальных фактов, о которых непосредственно может говорить только музыка. Но в качестве такого символа миф — если бы мы ощущали как чисто дионисические существа — остался бы совершенно в стороне от нас, не замеченным нами и лишённым всякого действия, и мы ни на минуту не были бы отвлечены им от внимания отзвуку universalia ante rem. Однако тут-то и пробивается вперёд аполлоническая сила, направленная на восстановление уже почти расколотого индивида, с целебным бальзамом упоительного обмана: нам внезапно кажется, что мы видим перед собой только одного Тристана, слышим, как он, недвижный, глухо вопрошает себя: «Старый напев; зачем разбудил он меня?» И то, что прежде производило на нас впечатление глухих вздохов, вырывающихся из средоточия бытия, теперь говорит нам только, что «пустынна морская даль». И где, казалось, мы должны были, бездыханные, угаснуть в судорожном напряжении всех чувств и лишь немногое ещё связывало нас с этим существованием, — мы теперь видим и слышим там лишь насмерть раненого и всё же неумирающего героя, с его отчаянным зовом: «Стремиться! Жаждать! В смерти изнемогать от стремлений, не умирать от тоски желаний!» И если прежде ликующие звуки рога после такой безмерности и такого преизбытка пожирающих мук резали нам сердце почти как высшая мука, то теперь между нами и этим «ликованием в себе» стоит ликующий Курвенал, обращённый лицом к кораблю, несущему Изольду. Как ни сильно проникает нас сострадание, в известном смысле это сострадание всё же спасает нас от изначального страданья мира, как символический образ мифа спасает нас от непосредственного созерцания высшей идеи мира, а мысль и слово — от несдержанного излияния бессознательной воли. Благодаря этому дивному аполлоническому обману нам кажется, словно здесь само царство звуков встаёт перед нами, подобно образам пластического мира, — словно и в нём, как в наинежнейшем и наипригоднейшем для выражения материале, оформлена и пластически выкована всё только та же история судьбы Тристана и Изольды.
Таким образом аполлоническое начало вырывает нас из всеобщности дионисического и внушает нам восторженные чувства к индивидам; к ним приковывает оно наше чувство сострадания, ими удовлетворяет оно жаждущее великих и возвышенных форм чувство красоты; оно проводит мимо нас картины жизни и возбуждает нас к вдумчивому восприятию сокрытого в них жизненного зерна. Необычайной мощью образа, понятия, этического учения, симпатического порыва — аполлоническое начало вырывает человека из его оргиастического самоуничтожения и обманывает его относительно всеобщности дионисического процесса мечтой, что он видит отдельную картину мира, например Тристана и Изольду, и что музыка служит для того, чтобы он мог возможно лучше и сокровеннее её видеть. На что только не способны чары мудрого целителя Аполлона, раз он в состоянии даже вызвать в нас иллюзию, что дионисическое начало, служа аполлоническому, может усилить действия последнего и что музыка есть по существу та форма искусства, в которую отливается аполлоническое содержание?
При этой предустановленной гармонии, объединяющей совершенную драму и её музыку, драма достигает высшей степени образной наглядности, вне этого недоступной словесной драме. Как все живые образы сцены в самостоятельно движущихся мелодических линиях упрощаются пред нами до резкой отчётливости волнистой черты, так совокупность этих линий звучит нам в смене гармоний, с тончайшей симпатией передающих текущий ход событий; эта смена гармоний делает нам непосредственно понятными отношения вещей в чувственно воспринимаемых, но ничуть не абстрактных формах; равным образом в ней мы познаём, что только в этих отношениях раскрывается во всей её чистоте сущность какого-либо характера и мелодической линии. И между тем как музыка заставляет нас таким образом видеть больше и глубже, чем мы обычно видим, и обращать сценическое действо в нежную и тонкую ткань, — самый мир сцены для нашего одухотворенного, обращённого внутрь взора столь же бесконечно расширяется, как и освещается изнутри. Что мог бы нам дать аналогичного словотворец, силящийся посредством гораздо более совершенного механизма, косвенным путём, исходя из слова и понятия, достигнуть этого внутреннего расширения созерцаемого нами сценического мира и внутреннего освещения его? Если же и музыкальная трагедия тоже опирается на слово, то ведь она может одновременно обнаружить подпочву и место рождения слова и выяснить нам внутренний процесс его возникновения.
Но о только что описанном процессе позволительно с одинаковой уверенностью сказать, что он является лишь блестящей иллюзией, а именно тем упомянутым выше аполлоническим обманом, задача которого лежит в освобождении нас от дионисического напора и чрезмерности. В сущности отношение музыки к драме как раз обратное: музыка есть подлинная идея мира, драма же только отблеск этой идеи, отдельная брошенная ею тень. Упомянутая нами тождественность мелодической линии и живого образа, гармонии и соотношения характеров этого образа справедлива в смысле, обратном тому, который мог нам показаться при взгляде на музыкальную трагедию. Как бы наглядно мы ни двигали, ни оживляли и ни освещали изнутри образ, он всегда остаётся лишь явлением, от которого нет моста, ведущего в истинную реальность, в сердце мира. А из этого-то сердца и говорит музыка; и бесчисленные явления подобного рода могут сопутствовать одной и той же музыке, но им никогда не исчерпать её сущности, и всегда они останутся только её внешними отображениями. Популярным и совершенно ложным противоположением души и тела не много поможешь при объяснении трудных для понимания соотношений между музыкой и драмой, а только всё спутаешь; но нефилософская грубость упомянутого противоположения стала, по-видимому, именно у наших эстетиков — кто знает, в силу каких причин, — излюбленным догматом, между тем как о противоположении явления и вещи в себе они ничего не знают или, тоже по неизвестным причинам, знать не хотят.
Если даже при нашем анализе выяснилось, что аполлоническое начало в трагедии путём обмана одержало решительную победу над дионисическим первоэлементом музыки и использовало эту последнюю в своих целях, а именно для доведения драмы до высшей степени ясности, — то к этому следует прибавить, однако, весьма важное ограничение: в наисущественнейшей точке этот аполлонический обман прорван и уничтожен. Драма, развёртывающаяся перед нами, при помощи музыки, с такой внутренно освещённой чёткостью всех движений и образов, что нам кажется, словно мы видим возникновение ткани на ткацком станке и то поднимающиеся, то опускающиеся нити основы и утка, — в целом достигает действия, лежащего по ту сторону всех аполлонических художественных воздействий. В совокупном действии трагедии дионисическое начало вновь приобретает перевес; она заканчивается такими звуками, которые никогда не могли бы донестись из области аполлонического искусства. И тем самым аполлонический обман оказывается тем, что он и есть, т. е. прикрытием, на время хода трагедии, собственно дионисического действия, которое, однако, настолько могущественно, что побуждает в конце самое аполлоническую драму вступить в такую сферу, где она начинает говорить с дионисической мудростью и отказывается от самой себя и своей аполлонической видимости. Таким образом трудное для понимания отношение аполлонического и дионисического начал в трагедии могло бы действительно быть выражено в символе братского союза обоих божеств: Дионис говорит языком Аполлона, Аполлон же, в конце концов, языком Диониса, чем и достигнута высшая цель трагедии и искусства вообще.
22
Пусть внимательный друг, опираясь на собственный опыт, представит себе теперь действие истинной музыкальной трагедии во всей его чистоте и без всякой посторонней примеси. Мне сдаётся, что я так описал феномен этого действия с обеих его сторон, что теперь он сумеет истолковать себе свой опыт. Он вспомнит именно, как он, при взгляде на движущийся перед ним миф, чувствовал себя возвышающимся до некоторого рода всеведения, словно сила зрения его глаз не только плоскостная сила, но может проникать и внутрь вещей, словно он теперь, при помощи музыки, как бы чувственными очами, видит перед собой порывы воли, борьбу мотивов, всё прибывающий поток страстей в форме целого множества живых и подвижных линий и фигур, словно он получил тем самым способность погружаться в утончённейшие тайны бессознательных душевных движений. Между тем как он таким образом сознаёт в себе высший подъём своих направленных к наглядности и внутреннему просветлению стремлений, — он, однако, с не меньшей определённостью чувствует и то, что этот длинный ряд аполлонических художественных воздействий всё же даёт ему не то блаженное пребывание в безвольном созерцании, которое пластик и эпический поэт, как аполлонические художники по существу, порождали в нём своими художественными произведениями; другими словами, он не достигает в указанном созерцании оправдания мира индивидуации, представляющего вершину и внутренний смысл аполлонического искусства. Он взирает на просветлённый мир сцены и всё же отрицает его. Он видит перед собой трагического героя в эпической отчётливости и красоте и всё же радуется его гибели. Он во всей глубине понимает происходящее на сцене и всё же охотно бежит в непостижимое. Он чувствует оправданность действий героя, и всё же строй души его подъемлется ещё выше, когда эти самые действия уничтожают своего виновника. Он содрогается перед страданиями, постигшими героя, и всё же чувствует в них залог высшей, бесконечно более могущественной радости. Он видит больше и глубже, чем когда-либо, и всё же желал бы ослепнуть. Из чего могли бы мы вывести это удивительное самораздвоение, этот перелом аполлонического острия, как не из дионисических чар, которые, создавая видимость крайнего перевозбуждения аполлонических порывов, всё же в силах покорить и заставить служить себе даже и этот преизбыток аполлонической силы? Трагический миф может быть понят лишь как воплощение в образах дионисической мудрости аполлоническими средствами искусства; он приводит мир явления к тем границам, где последний отрицает самого себя и снова ищет убежища в лоне истинной и единой реальности; а там он вместе с Изольдой как бы запевает её метафизическую лебединую песню:
В нарастании волн,
В этой песне стихий,
В беспредельном дыханье миров
Растаять,
Исчезнуть,
Всё забыть...
О, восторг!..
Таким, опираясь на опыты подлинно эстетического слушателя, представляем мы себе самого трагического художника, как он, подобно щедрому божеству индивидуации, создаёт свои образы, в каковом смысле его дело вряд ли можно понимать как «подражание природе», — как затем, однако, его могучее дионисическое стремление поглощает весь этот мир явлений, чтобы за ним и путём его уничтожения дать нам предчувствие высшей художественной прарадости в лоне Первоединого. Правда, об этом возвращении на древнюю изначальную родину, о братском союзе обоих богов искусства в трагедии и об одновременно аполлоническом и дионисическом возбуждении слушателя наши эстетики ничего нам рассказать не могут, между тем как они неустанно занимаются характеристикой трагизма, находя его сущность в борьбе героя с судьбою, в победе нравственного миропорядка или в достигаемом трагедией разряжении аффектов; каковая их невозмутимость наводит меня на мысль, что они, пожалуй, вообще эстетически невозмутимые люди и по отношению к созерцанию трагедии могут быть приняты в расчёт лишь как моральные существа. Ещё никогда, начиная со времен Аристотеля, не было дано такого объяснения трагического действия, исходя из которого можно было бы заключить о художественных состояниях и эстетической деятельности слушателя. Порой предполагается, что сострадание и страх приводятся к облегчающему душу разряжению строгой значительностью изображаемых событий; иногда же имеются в виду чувства подъёма и воодушевления, в смысле некоторого нравственного миропонимания, вызываемые в нас победою добрых и благородных принципов и принесением в жертву героя; и насколько я убеждён, что для весьма многих людей именно в этом, и только в этом, заключается всё действие, производимое на них трагедией, настолько же ясно следует из сказанного, что все подобные люди, вкупе с их эстетиками-истолкователями, ровно ничего не поняли в трагедии как высшем искусстве. Упомянутое патологическое разряжение, катарсис Аристотеля, о котором филологи ещё не знают толком, следует ли его причислить к медицинским или к моральным феноменам, напоминает мне одну замечательную догадку Гёте. «Без живого патологического интереса, — говорит он, — и мне никогда не удавалось обработать какое-либо трагическое положение, почему я охотнее избегал, чем отыскивал его. Не было ли, пожалуй, одним из преимуществ древних, что и высший пафос был у них лишь эстетической игрой, между тем как мы принуждены пускать в ход естественность, верность природе, чтобы создать нечто подобное?» На этот последний столь глубокомысленный вопрос мы вправе ответить теперь, основываясь на наших дивных опытах, утвердительно, после того как нам именно на музыкальной трагедии с изумлением пришлось испытать, как высший пафос всё же может быть лишь эстетической игрой, почему мы и считаем себя вправе полагать, что лишь теперь первофеномен трагизма описан с некоторым успехом. Кто и теперь ещё умеет толковать только об упомянутых выше подсобных воздействиях из внеэстетических сфер и не чувствует себя подъятым выше патолого-морального процесса, — тому остаётся только махнуть рукой на свою эстетическую природу; причём мы можем рекомендовать ему в качестве невинного суррогата интерпретацию Шекспира, на манер Гервинуса, и прилежное выискивание «поэтической справедливости».
Таким образом с возрождением трагедии возродился и эстетический слушатель, на месте которого до сих пор сидело в театральных залах некоторое достопримечательное Quidproquo, с полуморальными, полуучёными претензиями, — «критик». В занимаемой им до сих пор сфере всё было искусственно и лишь закрашено некоторой видимостью жизни. Сценический художник на самом деле не знал уже больше, что ему делать с таким слушателем, прикидывающимся критиком, и, вместе с вдохновляющим его драматургом или оперным композитором, тревожно разыскивал какие-либо остатки жизни в этом претенциозно пустом и не способном к наслаждению существе. А подобные «критики» составляли до сих пор публику; студент, школьник, даже безвреднейшее существо женского пола — все уже были против своей воли подготовлены воспитанием и периодической прессой к подобному восприятию художественного произведения. Более благородные натуры среди художников рассчитывали при такой публике на возбуждение морально-религиозных сил, и обращение к «нравственному миропорядку» являлось, как нечто замещающее, там, где собственно могучие чары искусства должны были бы привести в восторг подлинного слушателя. А то ещё бывало, что драматург излагал слушателям какую-либо величественную или по меньшей мере способную возбудить их современную политическую и социальную тенденцию, так что они могли отвлечься от своего критического истощения и предаться аффектам вроде тех, которые они испытывали в патриотические и воинственные минуты, или перед ораторской трибуной парламента, или при осуждении преступления и порока; каковое отчуждение от подлинных целей искусства, как тут, так и там, должно было привести к прямому культу тенденции. Но здесь наступило то, что всегда наступало при всяких искусственных искусствах, — стремительно быстрая порча названных тенденций, так что, например, тенденция пользоваться театром как учреждением для морального воспитания народа, которая во времена Шиллера ещё имела серьёзный смысл, теперь причисляется к курьёзным остаткам старины и уже пережитой ступени образования. С той минуты, как критик начал властвовать в театре и концерте, журналист в школе, пресса в обществе, — искусство выродилось в предмет забавы низшего сорта, и эстетическая критика стала служить связующим средством для тщеславного, рассеянного, себялюбивого, да к тому же ещё и бедного оригинальностью общества, внутренний смысл которого раскрывает нам шопенгауэровская притча о дикобразах; так что никогда ещё столько не болтали об искусстве и в то же время так низко не ценили его. И встретишь ли теперь ещё человека, с которым можно было бы потолковать о Бетховене и Шекспире? Пусть каждый сообразно своему чувству ответит на этот вопрос: он во всяком случае докажет своим ответом, как он представляет себе «образование», — предположив, конечно, что он вообще пытается дать себе отчёт по этому вопросу и не онемел ещё от его неожиданности.
С другой стороны, кое-кто из числа благородных и более тонко одарённых натур, хотя бы он и был уже вышеописанным способом мало-помалу обращён в критического варвара, сумеет порассказать нам о столь же неожиданном, сколь и совершенно непонятном ему действии, которое произвело на него, ну хотя бы, к примеру, удачное исполнение «Лоэнгрина»; только ему недоставало, пожалуй, при этом направляющей и указующей руки, так что и это непостижимо многообразное и ни с чем не сравнимое чувство, которое потрясло его тогда, осталось случайным и, как загадочное светило, угасло после краткого блеска. Но в те минуты он предчувствовал, что значит быть действительно эстетическим слушателем.
23
Кто хочет в точности испытать себя, насколько он родствен действительно эстетическому слушателю, или принадлежит к сообществу сократически-критических людей, тот пусть искренно спросит себя о чувстве, с каким он встречает изображаемое на сцене чудо: оскорблено ли при этом его историческое чувство, направленное на строго психологическую причинность, допускает ли он это чудо в виде доброжелательной уступки, как понятный детскому возрасту, но ему чуждый феномен, или его чувства носят при этом какой-либо другой характер. Именно это даст ему возможность измерить, насколько он вообще способен понимать миф, этот сосредоточенный образ мира, который, как аббревиатура явления, не может обходиться без чуда. Наиболее вероятным представляется, что почти каждый, при строгой проверке, почувствует себя настолько разложенным критико-историческим духом нашего образования, что он только путём учёных конструкций и посредствующих абстракций сможет уверовать в существование мифа в далёком прошлом. А без мифа всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы; лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в некоторое законченное целое. Все силы фантазии и аполлонических грёз только мифом спасаются от бесцельного блуждания. Образы мифа должны незаметными вездесущими демонами стоять на страже; под их охраной подрастает молодая душа, по знамениям их муж истолковывает себе жизнь свою и битвы свои; и даже государство не ведает более могущественных неписаных законов, чем эта мифическая основа, ручающаяся за его связь с религией, за то, что оно выросло из мифических представлений.
Поставим теперь рядом с этим абстрактного, не руководимого мифами человека, абстрактное воспитание, абстрактные нравы, абстрактное право, абстрактное государство; представим себе неупорядоченное, не сдержанное никаким родным мифом блуждание художественной фантазии; вообразим себе культуру, не имеющую никакою твёрдого, священного, коренного устоя, но осуждённую на то, чтобы истощать всяческие возможности и скудно питаться всеми культурами, — такова наша современность, как результат сократизма, направленного на уничтожение мифа сократизма. И вот он стоит, этот лишённый мифа человек, вечно голодный, среди всего минувшего и роет и копается в поисках корней, хотя бы ему и приходилось для этого раскапывать отдалённейшую древность. На что указывает огромная потребность в истории этой неудовлетворённой современной культуры, это собирание вокруг себя бесчисленных других культур, это пожирающее стремление к познанию, как не на утрату мифа, утрату мифической родины, мифического материнского лона? Спросите сами себя, может ли лихорадочная и жуткая подвижность этой культуры быть чем-либо другим, кроме жадного хватанья и ловли пищи голодающим, и кто станет давать ещё что-нибудь подобной культуре, которая не насыщается всем тем, что она уже поглотила, и для которой самая укрепляющая и целебная пища обычно обращается в «историю и критику».
Пришлось бы горько отчаяться в сущности и нашего немецкого народа, если бы он уже был в такой же степени неразрывно спутан со своей культурой и даже слит с ней воедино, как мы это, к нашему ужасу, можем наблюдать в цивилизованной Франции; и то, что долгое время было великим преимуществом Франции и причиной её огромного превосходства, именно это единство народа и культуры могло бы понудить нас, при взгляде на него, превозносить как счастье то обстоятельство, что наша столь сомнительная культура не имеет до сих пор ничего общего с благородным ядром нашего народного характера. И все наши надежды в страстном порыве устремлены скорее к тому, чтобы убедиться, какая чудная, внутренно здоровая и первобытная сила ещё скрывается под этой беспокойно мечущейся культурной жизнью, под этими судорогами образования; хотя и правда, что подъемлется она во всём своём размахе лишь кое-когда, в исключительные по своей значительности минуты, чтобы затем вновь уснуть и грезить о грядущем пробуждении. Из этой бездны выросла немецкая Реформация, в хорале которой впервые прозвучал напев будущей немецкой музыки. Так глубок, мужествен и задушевен был этот лютеровский хорал, такой безмерной добротой и нежностью проникнуты были эти звуки, словно первый манящий дионисический зов, вырывающийся из пустой заросли кустов при приближении весны! И наперебой отвечали ему отклики того священного, торжественного и дерзновенно-смелого шествия одержимых Дионисом, которым мы обязаны немецкой музыкой — и которым мы будем обязаны возрождением немецкого мифа!
Я знаю, что должен повести теперь участливо следующего за мной друга на высокую вершину уединённого созерцания, где он найдёт лишь немногих спутников, и хочу ободрить его призывом крепче держаться греков, наших лучезарных проводников. У них пришлось нам позаимствовать до сих пор, для очищения нашего эстетического познания, те два образа божеств, из коих каждое правит своей обособленной областью и о взаимных отношениях которых, сопровождаемых взаимным подъёмом, мы составили себе некоторое понятие по греческой трагедии. Гибель греческой трагедии должна была представиться нам результатом достопримечательного разрыва этих двух коренных художественных стремлений; в полном согласии с этим последним процессом шло вырождение и перерождение греческого народного характера, вызывая нас на серьёзное размышление о том, насколько необходимо и тесно срастаются в своих основах искусство и народ, миф и нравы, трагедия и государство. Эта гибель трагедии была вместе с тем и гибелью мифа. До тех пор греки были невольно принуждены связывать непосредственно всё ими переживаемое со своими мифами и даже объяснять себе свои переживания исключительно из этой связи, благодаря чему и ближайшее настоящее должно было немедленно являться им sub specie aeterni и в известном смысле вневременным. А в этот поток вневременного погружалось как государство, так и искусство, ища в нём покоя от гнёта и алчности мгновенья. И всякий народ — как, впрочем, и всякий человек — представляет собою ценность ровно лишь постольку, поскольку он способен наложить на свои переживания клеймо вечности; ибо этим он как бы обезмирщивается и выявляет своё бессознательное внутреннее убеждение в относительности времени и в вечном, т. е. метафизическом значении жизни. Обратное явление наступает тогда, когда народ начинает понимать себя исторически и сокрушать вокруг себя мифические валы и ограды, с чем обычно соединяется решительное обмирщение, разрыв с бессознательной метафизикой его прежнего существования во всех этических выводах. Греческое искусство и главным образом греческая трагедия задерживали прежде всего уничтожение мифа; нужно было уничтожить также и их, чтобы, оторвавшись от родной почвы, иметь возможность без всякой удержи вести жизнь среди запустения мысли, нравов и дела. Метафизическое стремление и теперь ещё пытается создать себе некоторую, хотя и ослабленную, форму просветления в пробивающемся к жизни сократизме науки; но на более низких ступенях то же стремление привело лишь к лихорадочному исканию, мало-помалу запутавшемуся в пандемониуме отовсюду натасканных в одну кучу мифов и суеверий; среди этого пандемониума всё ещё с неудовлетворённой душой восседал эллин, пока он не приобрёл наконец способности с греческой весёлостью и греческим легкомыслием, как graeculus, маскировать эту лихорадку или заглушать в себе последний остаток чувства каким-нибудь удушливым восточным суеверием.
Со времени возрождения александрийско-римской древности в пятнадцатом столетии, после длинного трудноописуемого антракта, мы настолько приблизились теперь к вышеописанному состоянию, что это прямо бросается в глаза. На верхах та же безмерная любознательность, та же ненасытная лихорадка поиска, то же невероятное обмирщение; рядом с этим бездомное скитание, жадное стремление протолкаться к чужим столам, легкомысленное обоготворение современности или тупое, безразличное отвращение от всего, и всё это sub specie saeculi, «настоящего времени»; каковые тождественные симптомы позволяют догадываться и о тождественном недостатке в сердце этой культуры, об уничтожении мифа. Едва ли представляется возможным с прочным успехом привить чужой миф, не повредив безнадёжно дерева этой прививкой; случается, что дерево бывает столь сильно и здорово, что после страшной борьбы вытесняет чуждый ему элемент, но обычно оно замирает и хиреет или истощатся в болезненных ростках. Мы настолько высоко ставим чистое и крепкое ядро немецкого существа, что смеем ожидать именно с его стороны этого выделения насильственно привитых чуждых элементов, и считаем возможным, что немецкий дух одумается и вспомнит о себе. Кому-нибудь может показаться, что этот дух должен начать свою борьбу с выделения всего романского; внешнюю подготовку и поощрение к этому он мог бы усмотреть в победоносном мужестве и кровавой славе последней войны; внутреннее же побуждение к тому он должен искать в чувстве соревнования, в стремлении быть всегда достойным своих великих предшественников и соратников на этом пути — Лютера, а также наших великих художников и поэтов. Но пусть не приходит ему в голову, будто он может вести подобную борьбу помимо своих домашних богов, помимо своей мифической родины, помимо «возвращения» всего немецкого! И если бы немец стал робко оглядываться и искать себе вождя, способного снова ввести его в давно утраченную родину, пути и тропы в которую он только еле помнит, — то пусть прислушается он к радостно манящему зову дионисической птицы, она носится над ним и готова указать ему дорогу туда.
24
Нам пришлось среди характерных художественных воздействий музыкальной трагедии отметить аполлонический обман, имеющий своей целью спасать нас от непосредственного слияния с дионисической музыкой, причём наше музыкальное возбуждение имеет возможность разрядиться в аполлонической области, в некотором промежуточном видимом мире. При этом нам казалось, что мы подметили, как именно путём подобного разряжения этот промежуточный мир сценических событий, вообще драма становится внутренно озарённой и понятной в степени, недостижимой для всех других форм аполлонического искусства; так что данное явление, где это искусство как бы окрылено и вознесено духом музыки, мы принуждены были признать за высший подъём его силы и вместе с тем в этом братском союзе Аполлона и Диониса усмотреть вершину как аполлонических, так и дионисических художественных стремлений.
Правда, аполлонический лучезарный образ именно при этом внутреннем освещении его музыкой не достигал своеобразного действия, свойственного более слабым степеням аполлонического искусства; то, что мог совершить эпос или одухотворенный камень, а именно принудить созерцающее око к спокойному восхищению миром индивидуации, этого, несмотря на большую одухотворённость и отчётливость, здесь достигнуть не удавалось. Мы созерцали драму, упорно проникали испытующим взором во внутренний подвижный мир её мотивов, и всё же нам казалось, что мимо нас проходит только некоторый символический образ; нам казалось, что мы почти что угадывали его глубочайший смысл, но всё же нам хотелось отдёрнуть его, как завесу, чтобы увидеть за ней первообраз. Необычайная, светлая чёткость образа не удовлетворяла нас: ибо этот последний, казалось, столько же открывает нам нечто, сколько и скрывает; и между тем как он своим символическим откровением как бы вызывал нас сорвать покрывало и разоблачить таинственный задний план, он в то же время зачаровывал взор своей лучезарной всевидимостью и возбранял ему проникать глубже.
Кому не довелось на себе пережить этой необходимости видеть и в то же время стремиться куда-то за пределы видимого, тот едва ли может представить себе, как определённо и ярко проходят рядом и ощущаются рядом эти оба процесса при созерцании трагического мифа; между тем как действительно эстетические зрители подтвердят, что между характерными действиями трагедии это параллельное следование является наиболее примечательным. Стоит только перенести этот феномен эстетического зрителя в аналогичный процесс, имеющий место в трагическом художнике, и мы поймём генезис трагического мифа. Он разделяет с аполлонической сферой искусства полную радость по поводу иллюзии и возможности созерцания, и вместе с тем он отрицает эту радость и находит ещё более высокое удовлетворение в уничтожении видимого мира — мира иллюзии. Содержанием трагического мифа ближайшим образом является некоторое эпическое событие с прославлением борца-героя; но в чём же коренится та сама по себе загадочная черта, что страдания в судьбе героя, скорбнейшие преодоления, мучительнейшие противоположности мотивов — короче, проведение на примерах упоминавшейся нами выше мудрости Силена — или, выражаясь эстетически, безобразное и дисгармоническое — всё снова и снова изображается в бесчисленных формах с каким-то особенным пристрастием к нему и как раз среди народа, находящегося в пышном расцвете своей юности? Чем объясняется это, если всё сказанное не служит к восприятию некоторой высшей радости?
Ибо тот факт, что жизнь действительно складывается так трагично, меньше всего мог бы служить объяснением возникновения какой-нибудь формы искусства; если только искусство не есть исключительно подражание природной действительности, а как раз метафизическое дополнение этой действительности, поставленное рядом с ней для её преодоления. Трагический миф, поскольку он вообще относится к искусству, принимает и полное участие в этой метафизической задаче просветления искусства вообще; что же он просветляет, представляя мир явлений образом страдающего героя? Меньше всего «реальность» этого мира явлений, ибо он напрямик говорит нам: «Взгляните! Попристальнее вглядитесь! Вот она, ваша жизнь! Вот что показывает стрелка на часах вашего существования!»
И эту жизнь показывал миф, чтобы тем самым явить её нам в просветлённом виде? А если нет, то в чём же лежит эстетическое наслаждение, которое мы испытываем, когда те образы проносятся перед нами? Я ставлю вопрос об эстетическом наслаждении и отлично знаю, что многие из этих картин, кроме того, могут при случае вызвать ещё и моральное упоение, в форме сострадания что ли, или некоторого морального триумфа. Но тот, кто захочет вывести действие трагедии исключительно из этих моральных источников — что, правда, было уже слишком долгое время распространённым в эстетике обычаем, — тот пусть не полагает только, что он этим принесёт какую-нибудь пользу искусству, которое прежде всего должно добиваться в своей области чистоты. Для объяснения трагического мифа первое требование — искать причину доставляемого им наслаждения в чисто эстетической сфере, не захватывая области сострадания, страха, нравственного возвышения. Как может безобразное и дисгармоничное, представляющее содержание трагического мифа, возбуждать эстетическое удовольствие?
Теперь нам становится необходимым смело и с разбега броситься в метафизику искусства, причём я повторю уже высказанное мною раньше положение, что лишь как эстетический феномен существование и мир представляются оправданными; понятая так, задача трагического мифа и заключается в том, чтобы убедить нас, что даже безобразное и дисгармоническое есть художественная игра, в которую Воля, в вечной полноте своей радости, играет сама с собою. Этот трудно постигаемый первофеномен дионисического искусства делается, однако, понятным прямым путём и непосредственно постигается в удивительном значении музыкального диссонанса; как и вообще музыка, поставленная рядом с миром, одна только может дать нам понятие о том, что следует понимать под оправданием мира как некоторого эстетического феномена. Радость, порождаемая трагическим мифом, имеет одинаковую родину с радостным ощущением диссонанса в музыке. Дионисизм, с его изначальной радостью, воспринимаемой даже от скорби и мук, есть общее материнское лоно музыки и трагического мифа.
Не правда ли, что попутно благодаря тому, что мы призвали на помощь музыкальное соотношение диссонанса, изложенная выше трудная проблема трагического действия существенно облегчилась? Ведь мы понимаем теперь, что значит в трагедии — желать созерцания и в то же время стремиться к чему-то лежащему за пределами этого созерцания, каковое состояние мы по отношению к художественно применённому диссонансу могли бы охарактеризовать в том же духе, сказав, что мы хотим слушать и в то же время стремимся к чему-то лежащему за пределами слышимого. Это стремление в Бесконечное, этот взмах крыльев тоскующей души, рядом с высшей радостью об отчётливо воспринятой действительности, напоминают нам, что мы в обоих состояниях должны признать дионисический феномен, всё снова и снова раскрывающий нам в игре созидания и разрушения индивидуального мира эманацию некоторой изначальной радости, подобно тому как у Гераклита Тёмного мирообразующая сила сравнивается с ребёнком, который, играя, расставляет шашки, насыпает кучки песку и снова рассыпает их.
Итак, чтобы верно оценить дионисическую способность того или другого народа, нам следует иметь в виду не только музыку этого народа, но с одинаковой необходимостью и его трагический миф как второго свидетеля этой способности. При близком же родстве музыки и мифа мы будем иметь право предположить равным образом и то, что с вырождением и извращением последнего связано захирение первой, — коль скоро вообще в ослаблении мифа проявляется и некоторое частичное ослабление дионисической способности. Но по отношению и к тому и к другому взгляд на развитие немецкого духа не может оставить в нас никаких сомнений: как в опере, так и в абстрактном характере нашего лишённого мифов существования, как в искусстве, павшем до забавы, так и в жизни, руководимой понятием, нам вполне открылась столь же нехудожественная, сколь и жизневраждебная природа сократовского оптимизма. К нашему утешению, однако, оказались и признаки того, что немецкий дух, несмотря ни на что, не сокрушённый в своём дивном здоровье, глубине и дионисической силе, подобно склонившемуся в дремоте рыцарю, покоится и грезит в не доступной никому пропасти; из неё-то и доносится до нас дионисическая песня, давая понять нам, что этому немецкому рыцарю и теперь ещё в блаженно-строгих видениях снится стародавний дионисический миф. Пусть никто не думает, что немецкий дух навеки утратил свою мифическую родину, раз он ещё так ясно понимает голоса птиц, рассказывающих ему об этой родине. Будет день, и проснётся он во всей утренней свежести, стряхнув свой долгий, тяжёлый сон; тогда убьёт он драконов, уничтожит коварных карлов и разбудит Брунгильду; и даже копьё Вотана не в силах будет преградить ему путь.
Друзья мои, вы, верующие в дионисическую музыку, вы знаете также и то, что значит для нас трагедия. В ней мы имеем трагический миф, возрождённый из музыки, — а с ним вам дана надежда на всё и забвение мучительнейших скорбей! Но самая мучительная скорбь для нас всех — та долгая, лишённая всякого достоинства жизнь, которую немецкий гений, отчуждённый от дома и родины, вёл на службе у коварных карлов. Вы понимаете это слово — как в заключение вы поймёте и надежды мои.
25
Музыка и трагический миф в одинаковой мере суть выражение дионисической способности народа и неотделимы друг от друга. Они совместно коренятся в области искусства, лежащей по ту сторону аполлонизма; они наполняют своим светом страну, в радостных аккордах которой пленительно замирает диссонанс и рассеивается ужасающий образ мира; они играют с жалом скорби, доверяя безмерной мощи своих чар; они оправдывают этой игрой существование даже «наихудшего мира». Здесь дионисическое начало, если сопоставить его с аполлоническим, является вечной и изначальной художественной силой, вызвавшей вообще к существованию весь мир явлений: в этом мире почувствовалась необходимость в новой, просветляющей и преображающей иллюзии, задача которой была удержать в жизни этот подвижный и живой мир индивидуации. Если бы мы могли представить себе вочеловечение диссонанса, — а что же иное и представляет собою человек? — то такому диссонансу для возможности жить потребовалась бы какая-нибудь дивная иллюзия, набрасывающая перед ним покров красоты на собственное его существо. В этом и лежит действительное художественное намерение Аполлона: в имени его мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасного кажущегося, которые в каждое данное мгновение делают существование вообще достойным признания и ценностью и побуждают нас пережить и ближайшее мгновение.
При этом в сознании человеческого индивида эта основа всяческого существования, это дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены, по закону вечной справедливости, развивать свои силы в строгом соотношении. Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошёл к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши.
А что это воздействие необходимо, это каждый может всего вернее ощутить при посредстве интуиции, если он хоть раз, хотя бы во сне, перенесётся чувством в древнеэллинское существование; бродя под высокими ионическими колоннадами, подымая взоры к горизонту, очерченному чистыми и благородными линиями, окружённый отображениями своего просветлённого образа в сияющем мраморе, среди торжественно шествующих или с тонкой изящностью движущихся людей, с их гармонически звучащей речью и ритмическим языком жестов, — разве не возденет он рук к Аполлону и не воскликнет под напором этой волны прекрасного: «Блаженный народ эллинов! Как велик должен быть между вами Дионис, если делосский бог счёл нужными такие чары для исцеления вас от дифирамбического безумия!» — А настроенному так человеку престарелый афинянин мог бы возразить, бросив на него возвышенный взор Эсхила: «Но скажи и то, странный чужеземец: что должен был выстрадать этот народ, чтобы стать таким прекрасным! А теперь последуй за мной к трагедии и принеси со мной вместе жертву в храме обоих божеств!»
Фридрих Ницше. Казус Вагнер.
Я делаю себе маленькое облегчение. Это не просто чистая злоба, если в этом сочинении я хвалю Бизе за счет Вагнера. Под прикрытием многих шуток я говорю о деле, которым шутить нельзя. Повернуться спиной к Вагнеру было для меня чем-то роковым; снова полюбить что-нибудь после этого - победой. Никто, быть может, не сросся в более опасной степени с вагнерианством, никто упорнее не защищался от него, никто не радовался больше, что освободился от него. Длинная история! - Угодно, чтобы я сформулировал ее одним словом? - Если бы я был моралистом, кто знает, как назвал бы я ее! Быть может, самопреодолением. - Но философ не любит моралистов... он не любит также красивых слов...
Чего требует философ от себя прежде всего и в конце концов? Победить в себе свое время, стать "безвременным". С чем, стало быть, приходится ему вести самую упорную борьбу? С тем, в чем именно он является сыном своего времени. Ладно! Я так же, как и Вагнер, сын этого времени, хочу сказать decadent: только я понял это, только я защищался от этого. Философ во мне защищался от этого.
Во что я глубже всего погрузился, так это действительно в проблему decadence, - у меня были основания для этого. "Добро и зло" - только вариант этой проблемы. Если присмотришься к признакам упадка, то поймешь также и мораль - поймешь, что скрывается за ее священнейшими именами и оценками: оскудевшая жизнь, воля к концу, великая усталость. Мораль отрицает жизнь... Для такой задачи мне была необходима самодисциплина: восстать против всего больного во мне, включая сюда Вагнера, включая сюда Шопенгауэра, включая сюда всю современную "человечность". - Глубокое отчуждение, охлаждение, отрезвление от всего временного, сообразного с духом времени: и, как высшее желание, око Заратустры, око, озирающее из страшной дали весь факт "человек" - видящее его под собою... Для такой цели - какая жертва была бы несоответственной? какое "самопреодоление"! какое "самоотречение"!
Высшее, что я изведал в жизни, было выздоровление. Вагнер принадлежит лишь к числу моих болезней.
Не то чтобы я хотел быть неблагодарным по отношению к этой болезни. Если этим сочинением я поддерживаю положение, что Вагнер вреден, то я хочу ничуть не менее поддержать и другое, - кому он, несмотря на это, необходим - философу. В других случаях, пожалуй, и можно обойтись без Вагнера: но философ не волен не нуждаться в нем. Он должен быть нечистой совестью своего времени, - для этого он должен наилучшим образом знать его. Но где же найдет он для лабиринта современной души более посвященного проводника, более красноречивого знатока душ, чем Вагнер? В лице Вагнера современность говорит своим интимнейшим языком: она не скрывает ни своего добра, ни своего зла, она потеряла всякий стыд перед собою. И обратно: мы почти подведем итог ценности современного, если ясно поймем добро и зло у Вагнера. - Я вполне понимаю, если нынче музыкант говорит: "я ненавижу Вагнера, но не выношу более никакой другой музыки". Но я понял бы также и философа, который объявил бы: "Вагнер резюмирует современность. Ничего не поделаешь, надо сначала быть вагнерианцем..."
Ridendo dicere severum...
Я слышал вчера - поверите ли - в двадцатый раз шедевр Бизе. Я снова вытерпел до конца с кротким благоговением, я снова не убежал. Эта победа над моим нетерпением поражает меня. Как совершенствует такое творение! Становишься сам при этом "шедевром". - И действительно, каждый раз, когда я слушал Кармен, я казался себе более философом, лучшим философом, чем кажусь себе в другое время: ставшим таким долготерпеливым, таким счастливым, таким индусом, таким оседлым... Пять часов сидения: первый этап к святости! - Смею ли я сказать, что оркестровка Бизе почти единственная, которую я еще выношу? Та другая оркестровка, которая теперь в чести, вагнеровская, - зверская, искусственная и "невинная" в одно и то же время и говорящая этим сразу трем чувствам современной души, - как вредна для меня она! Я называю ее сирокко. Неприятный пот прошибает меня. Моей хорошей погоде настает конец.
Эта музыка кажется мне совершенной. Она приближается легко, гибко, с учтивостью. Она любезна, она не вгоняет в пот. "Хорошее легко, все божественное ходит нежными стопами" - первое положение моей эстетики. Эта музыка зла, утонченна, фаталистична: она остается при этом популярной, - она обладает утонченностью расы, а не отдельной личности. Она богата. Она точна. Она строит, организует, заканчивает: этим она представляет собою контраст полипу в музыке, "бесконечной мелодии". Слышали ли когда-нибудь более скорбный трагический тон на сцене? А как он достигается! Без гримас! Без фабрикации фальшивых монет! Без лжи высокого стиля! - Наконец: эта музыка считает слушателя интеллигентным, даже музыкантом, - она и в этом является контрастом Вагнеру, который, как бы то ни было, во всяком случае был невежливейшим гением в мире (Вагнер относится к нам как если бы - -, он говорит нам одно и то же до тех пор, пока не придешь в отчаяние, - пока не поверишь этому).
Повторяю: я становлюсь лучшим человеком, когда со мной говорит этот Бизе. Также и лучшим музыкантом, лучшим слушателем. Можно ли вообще слушать еще лучше? - Я зарываюсь моими ушами еще и под эту музыку, я слышу ее причину. Мне чудится, что я переживаю ее возникновение - я дрожу от опасностей, сопровождающих какой-нибудь смелый шаг, я восхищаюсь счастливыми местами, в которых Бизе неповинен. - И странно! в сущности я не думаю об этом или не знаю, как усиленно думаю об этом. Ибо совсем иные мысли проносятся в это время в моей голове... Заметили ли, что музыка делает свободным ум? дает крылья мысли? что становишься тем более философом, чем более становишься музыкантом? - Серое небо абстракции как бы бороздят молнии; свет достаточно силен для всего филигранного в вещах; великие проблемы близки к постижению; мир, озираемый как бы с горы. - Я определил только что философский пафос. - И неожиданно ко мне на колени падают ответы, маленький град из льда и мудрости, из решенных проблем... Где я? - Бизе делает меня плодовитым. Все хорошее делает меня плодовитым. У меня нет другой благодарности, у меня нет также другого доказательства для того, что хороню. -
Также и это творение спасает; не один Вагнер является "спасителем". Тут прощаешься с сырым Севером, со всеми испарениями вагнеровского идеала. Уже действие освобождает от этого. Оно получило от Мериме логику в страсти, кратчайшую линию, суровую необходимость; у него есть прежде всего то, что принадлежит к жаркому поясу, - сухость воздуха, limpidezza в воздухе. Тут во всех отношениях изменен климат. Тут говорит другая чувственность, другая чувствительность, другая веселость. Эта музыка весела; но не французской или немецкой веселостью. Ее веселость африканская; над нею тяготеет рок, ее счастье коротко, внезапно, беспощадно. Я завидую Бизе в том, что у него было мужество на эту чувствительность, которая не нашла еще до сих пор своего языка в культурной музыке Европы, - на эту более южную, более смуглую, более загорелую чувствительность... Как благодетельно действуют на нас желтые закаты ее счастья! Мы выглядываем при этом наружу: видели ли мы гладь моря когда-либо более спокойной? - И как успокоительно действует на нас мавританский танец! Как насыщается наконец в его сладострастной меланхолии даже наша ненасытность! - Наконец любовь, переведенная обратно на язык природы любовь! Не любовь "высшей девы"! Не сента-сентиментальность! А любовь как фатум, как фатальность, циничная, невинная, жестокая - и именно в этом природа! Любовь, по своим средствам являющаяся войною, по своей сущности смертельной ненавистью полов! - Я не знаю другого случая, где трагическая соль, составляющая сущность любви, выразилась бы так строго, отлилась бы в такую страшную формулу, как в последнем крике дона Хосе, которым оканчивается пьеса:
Да! я убил ее,
я - мою обожаемую Кармен!
- Такое понимание любви (единственное достойное философа) редко: оно выдвигает художественное произведение из тысячи других. Ибо в среднем художники поступают как все, даже хуже - они превратно понимают любовь. Не понял ее также и Вагнер. Они считают себя бескорыстными в любви, потому что хотят выгод для другого существа, часто наперекор собственным выгодам. Но взамен они хотят владеть этим другим существом... Даже Бог не является тут исключением. Он далек от того, чтобы думать: "что тебе до того, что я люблю тебя?" - он становится ужасен, если ему не платят взаимностью. L'amour - это изречение справедливо и для богов, и для людей - est de tous les sentiments le plus egoiste, et par consequent, lorsqu'il est blesse, le moins genereux (Б. Констан).
Вы видите уже, как значительно исправляет меня эта музыка? Il faut mediterraniser la musique - я имею основания для этой формулы (По ту сторону добра и зла). Возвращение к природе, здоровье, веселость, юность, добродетель! - И все же я был одним из испорченнейших вагнерианцев... Я был в состоянии относиться к Вагнеру серьезно... Ах, этот старый чародей! чего только он не проделывал перед нами! Первое, что предлагает нам его искусство, - это увеличительное стекло: смотришь в него и не веришь глазам своим - все становится большим, даже Вагнер становится большим... Что за умная гремучая змея! Всю жизнь она трещала нам о "покорности", о "верности", о "чистоте"; восхваляя целомудрие, удалилась она из испорченного мира! - И мы поверили ей...
- Но вы меня не слушаете? Вы сами предпочитаете проблему Вагнера проблеме Бизе? Да и я не умаляю ее ценности, она имеет свое обаяние. Проблема спасения - даже достопочтенная проблема. Вагнер ни над чем так глубоко не задумывался, как над спасением: его опера есть опера спасения. У него всегда кто-нибудь хочет быть спасенным: то юнец, то девица - это его проблема. - И как богато варьирует он свой лейтмотив! Какие удивительные, какие глубокомысленные отклонения! Кто, если не Вагнер, учил нас, что невинность спасает с особенной любовью интересных грешников? (случай в Тангейзере). Или что даже вечный жид спасется, станет оседлым, если женится? (случай в Летучем голландце). Или что старые падшие женщины предпочитают быть спасаемыми целомудренными юношами? (случай Кундри). Или что молодые истерички больше всего любят, чтобы их спасал их врач? (случай в Лоэнгрине). Или что красивые девушки больше всего любят, чтобы их спасал рыцарь-вагнерианец? (случай в Мейстерзингерах). Или что также и замужние женщины охотно приемлют спасение от рыцаря? (случай Изольды). Или что "старого Бога", скомпрометировавшего себя морально во всех отношениях, спасает вольнодумец и имморалист? (случай в "Кольце"). Подивитесь особенно этому последнему глубокомыслию! Понимаете вы его? Я - остерегаюсь понять его... Что из названных произведений можно извлечь еще и другие учения, это я охотнее стал бы доказывать, чем оспаривать. Что вагнеровский балет может довести до отчаяния, - а также до добродетели! (еще раз Тангейзер). Что может иметь очень дурные последствия, если не ляжешь вовремя спать (еще раз Лоэнгрин). Что никогда не следует слишком точно знать, с кем, собственно, вступил в брак (в третий раз Лоэнгрин). - Тристан и Изольда прославляют совершенного супруга, у которого в известном случае есть только один вопрос: "но почему вы не сказали мне этого раньше? Ничего нет проще этого!" Ответ:
Этого я не могу тебе сказать; и о чем ты спрашиваешь, этого ты никогда не можешь узнать.
Лоэнгрин содержит в себе торжественное предостережение от исследования и спрашивания. Вагнер защищает этим христианское понятие "ты должен и обязан верить". Знание есть преступление против высшего, против священнейшего... Летучий голландец проповедует возвышенное учение, что женщина привязывает и самого непостоянного, на языке Вагнера, "спасает". Тут мы позволим себе вопрос. Положим, что это правда; разве это является уже вместе с тем и желательным? - Что выйдет из "вечного жида", которого боготворит и привязывает к себе женщина? Он только перестанет быть вечным; он женится, он перестает уже интересовать нас. Переводя на язык действительности: опасность художников, гениев - а ведь это и есть "вечные жиды" - кроется в женщине: обожающие женщины являются их гибелью. Почти ни у кого нет достаточно характера, чтобы не быть погубленным - "спасенным", когда он чувствует, что к нему относятся как к богу - он тотчас же опускается до женщины. Мужчина - трус перед всем Вечно-Женственным; это знают бабенки. - Во многих случаях женской любви, и, быть может, как раз в самых выдающихся, любовь есть лишь более тонкий паразитизм, внедрение себя в чужую душу, порою даже в чужую плоть - ах! всегда с какими большими расходами для "хозяина"! -
Известна судьба Гете в моралино-кислой стародевичьей Германии. Он всегда казался немцам неприличным, он имел искренних поклонниц только среди евреек. Шиллер, "благородный" Шиллер, прожужжавший им уши высокими словами, - этот был им по сердцу. Что они ставили в упрек Гете? "Гору Венеры"; и то, что он написал венецианские эпиграммы. Уже Клопшток читал ему нравоучение; было время, когда Гердер, говоря о Гете, очень любил употреблять слово "Приап". Даже "Вильгельм Мейстер" считался лишь симптомом упадка, моральным "обнищанием". "Зверинец домашнего скота", "ничтожество" героя в нем раздражало, например, Нибура: он разражается в конце концов жалобой, которую мог бы пропеть Битерольф: "Ничто не производит более тягостного впечатления, чем если великий дух лишает себя крыльев и ищет своей виртуозности в чем-нибудь гораздо более низменном, отрекаясь от высшего"... Прежде же всего была возмущена высшая дева: все маленькие дворы, всякого рода "Вартбурги" в Германии открещивались от Гете, от "нечистого духа" в Гете. - Эту историю Вагнер положил на музыку. Он спасает Гете, это понятно само собой; но так, что он вместе с тем благоразумно принимает сторону высшей девы. Гете спасается: молитва спасает его, высшая дева влечет его ввысь...
- Что подумал бы Гете о Вагнере? - Гете раз задал себе вопрос, какова опасность, висящая над всеми романтиками: какова злополучная участь романтиков? Его ответ: "подавиться от отрыгания жвачки нравственных и религиозных абсурдов". Короче: Парсифаль - - Философ прибавляет к этому еще эпилог. Святость - быть может, последнее из высших ценностей, что еще видит толпа и женщина, горизонт идеала для всего, что от природы близоруко. Среди же философов, как и всякий горизонт, простое непонимание, как бы запирание ворот перед тем, где только начинается их мир, - их опасность, их идеал, их желательность... Выражаясь учтивее: la philosophie ne suffit pas au grand nombre. Il lui faut la saintete.
- Я расскажу еще историю "Кольца". От относится сюда. Это тоже история спасения: только на этот раз обретает спасение сам Вагнер. - Вагнер половину своей жизни верил в революцию, как верил в нее только какой-нибудь француз. Он искал ее в рунических мифах, он полагал, что нашел в лице Зигфрида типичного революционера. - "Откуда происходят все бедствия в мире?" - спросил себя Вагнер. От "старых договоров" - ответил он, подобно всем идеологам революции. По-немецки: от обычаев, законов, моралей, учреждений, от всего того, на чем зиждется старый мир, старое общество. "Как устранить бедствия из мира? Как упразднить старое общество?" Лишь объявлением войны "договорам" (обычаю, морали). Это делает Зигфрид. Он начинает это делать рано, очень рано: уже его возникновение есть объявление войны морали - он рождается от прелюбодеяния, от кровосмешения: Не сага, а Вагнер является изобретателем этой радикальной черты: в этом пункте он поправил сагу... Зигфрид продолжает, как начал: он следует лишь первому импульсу, он переворачивает вверх дном все традиционное, всякое уважение, всякий страх. Что не нравится ему, то он повергает в прах. Он непочтительно ополчается на старых богов. Но главное предприятие его сводится к тому, чтобы эмансипировать женщину, - "освободить Брунгильду"... Зигфрид и Брунгильда; таинство свободной любви; начало золотого века; сумерки богов старой морали - зло уничтожено... Корабль Вагнера долго бежал весело по этому пути. Нет сомнения, что Вагнер искал на нем свою высшую цель. - Что же случилось? Несчастье. Корабль наскочил на риф; Вагнер застрял. Рифом была шопенгауэровская философия; Вагнер застрял на противоположном мировоззрении. Что положил он на музыку? Оптимизм. Вагнер устыдился. К тому же еще оптимизм, которому Шопенгауэр придал злостный эпитет, - нечестивый оптимизм. Он устыдился еще раз. Он долго раздумывал, его положение казалось отчаянным... Наконец ему забрезжил выход: риф, на котором он потерпел крушение, как? а если он объяснит его как цель, как тайное намерение, как подлинный смысл своего путешествия? Тут потерпеть крушение - это тоже была цель. Вепе navigavi, cum naufragium feci... И он перевел "Кольцо" на язык Шопенгауэра. Все покосилось, все рушится, новый мир так же скверен, как старый: Ничто, индийская Цирцея, манит... Брунгильде, которая по прежнему замыслу должна была закончить песнею в честь свободной любви, утешая мир социалистической утопией, с которой "все станет хорошим", приходится теперь делать нечто другое. Она должна сначала изучить Шопенгауэра; она должна переложить в стихи четвертую книгу "Мира как воли и представления". Вагнер был спасен... Серьезно, это было спасение. Благодеяние, которым Вагнер обязан Шопенгауэру, неизмеримо. Только философ decadence дал художнику decadence самого себя - -
Художнику decadence - слово сказано. И с этого момента я становлюсь серьезным. Я далек от того, чтобы безмятежно созерцать, как этот decadent портит нам здоровье - и к тому же музыку! Человек ли вообще Вагнер? Не болезнь ли он скорее? Он делает больным все, к чему прикасается, он сделал больною музыку -
Типичный decadent, который чувствует необходимость своего испорченного вкуса, который заявляет в нем притязание на высший вкус, который умеет заставить смотреть на свою испорченность как на закон, как на прогресс, как на завершение.
И от этого не защищаются. Его сила обольщения достигает чудовищной величины, вокруг него курится фимиам, ложное понимание его называет себя "евангелием", - он склонил на свою сторону отнюдь не только нищих духом!
Мне хочется открыть немного окна. Воздуха! Больше воздуха! - -
Что в Германии обманываются насчет Вагнера, это меня не удивляет. Меня удивило бы противное. Немцы состряпали себе Вагнера, которому они могут поклоняться: они еще никогда не были психологами, их благодарность выражается в том, что они ложно понимают. Но что обманываются относительно Вагнера в Париже! где уже почти не представляют собою ничего иного как психологов. И в Санкт-Петербурге! где еще отгадывают такие вещи, каких не отгадывают даже в Париже. Как родствен должен быть Вагнер общему европейскому decadence, если последний не чувствует в нем decadent! Он принадлежит к нему: он его протагонист, его величайшее имя... Чтут себя, когда превозносят до небес его. - Ибо уже то, что не защищаются от него, есть признак decadence. Инстинкт ослаблен. Чего следовало бы бояться, то привлекает. Подносят к устам то, что еще скорее низвергает в бездну. - Угодно пример? Но стоит только понаблюдать за regime, который самолично предписывают себе анемичные, или подагрики, или диабетики. Определение вегетарианца: существо, нуждающееся в укрепляющей диете. Ощущать вредное как вредное, мочь запрещать себе нечто вредное - это еще признак молодости, жизненной силы. Истощенного привлекает вредное: вегетарианца - овощи. Сама болезнь может быть возбудителем к жизни: только надо быть достаточно здоровым для этого возбудителя! - Вагнер усиливает истощение: в силу этого привлекает он слабых и истощенных. О, это счастье гремучей змеи старого маэстро, который всегда видел, что к нему идут именно "деточки"! -
Я устанавливаю прежде всего такую точку зрения: искусство Вагнера больное. Проблемы, выносимые им на сцену, - сплошь проблемы истеричных, - конвульсивное в его аффектах, его чрезмерно раздраженная чувствительность, его вкус, требующий все более острых приправ, его непостоянство, переряжаемое им в принципы, не в малой степени выбор его героев и героинь, если посмотреть на них как на физиологические типы ( - галерея больных! - ): все это вместе представляет картину болезни, не оставляющую никакого сомнения. Wagner est une nevrose. Ничто, быть может, не известно нынче так хорошо, ничто, во всяком случае, не изучено так хорошо, как протеевский характер вырождения, переряжающийся здесь в искусство и в художника. Наши врачи и физиологи имеют в Вагнере интереснейший казус, по крайней мере очень полный. Именно потому, что ничто не является более современным, чем это общее недомогание, эта поздность и чрезмерная раздражимость нервной машины, Вагнер - современный художник par excellence, Калиостро современности. К его искусству самым соблазнительным образом примешано то, что теперь всем нужнее всего, - три великих возбудителя истощенных, зверское, искусственное и невинное (идиотское).
Вагнер - великая порча для музыки. Он угадал в ней средство возбуждать больные нервы, - для этого он сделал больною музыку. Он обладает немалым даром изобретательности в искусстве подстрекать самых истощенных, возвращать к жизни полумертвых. Он мастер в гипнотических приемах, он валит даже самых сильных, как быков. Успех Вагнера - его успех у нервов и, следовательно, у женщин - сделал всех честолюбивых музыкантов учениками его тайного искусства. И не только честолюбивых, также и умных... Нынче наживают деньги только больной музыкой, наши большие театры живут Вагнером.
- Я опять позволю себе развлечение. Я предполагаю, что успех Вагнера воплотился, принял образ, что он, вырядившись человеколюбивым ученым музыкантом, втерся в среду молодых художников. Как вы полагаете, что стал бы он там говорить? -
Друзья мои, сказал бы он, объяснимся в пяти словах. Легче создавать плохую музыку, чем хорошую. Как? а если это, кроме того, и выгоднее? действительнее, убедительнее, упоительнее, надежнее? более по-вагнеровски?.. Pulchrum est paucorum hominum. Довольно скверно! Мы понимаем латынь, мы понимаем, быть может, и нашу выгоду. Прекрасное имеет свою пяту; мы знаем это. Для чего же тогда красота? Почему не выбрать лучше великое, возвышенное, гигантское, то, что возбуждает массы? - И еще раз: легче быть гигантским, чем прекрасным; мы знаем это...
Мы знаем массы, мы знаем театр. Лучшие из сидящих там, немецкие юноши, рогатые Зигфриды и другие вагнерианцы, нуждаются в возвышенном, глубоком, побеждающем. Все это мы еще можем. И другие, также сидящие там, образованные кретины, маленькие чванливцы, Вечно-Женственные, счастливо-переваривающие, словом, народ, - также нуждаются в возвышенном, глубоком, побеждающем. У них у всех одна логика: "Кто сшибает нас с ног, тот силен; кто возвышает нас, тот божествен, кто заставляет нас что-то чуять, тот глубок". Решимтесь же, господа музыканты: будем сшибать их с ног, будем возвышать их, будем заставлять их что-то чуять. Все это мы еще можем.
Что касается последнего, то здесь исходная точка нашего понятия "стиль". Прежде всего никакой мысли! Ничто не компрометирует более, чем мысль! А состояние перед мыслью, напор еще не рожденных мыслей, обещание будущих мыслей, мир, каков он был до сотворения его Богом, - recrudescence хаоса... Хаос заставляет чуять что-то...
Говоря языком маэстро: бесконечность, но без мелодии.
Что касается, во-вторых, сшибания с ног, то это уже относится частью к области физиологии. Прежде всего изучим инструменты. Некоторые из них действуют убедительно даже на внутренности ( - они открывают проход в печень, как говорит Гендель), другие завораживают спинной мозг. Окраска звука является здесь решающим; что звучит, это почти безразлично. Рафинируем в этом пункте! Для чего расточать себя на что-нибудь другое? Будем характеристичны в звуке до глупости! Это припишут нашему гению, если мы будем давать звуками много отгадывать! Будем раздражать нервы, убьем их, будем метать громы и молнии - это сшибает с ног...
Прежде же всего сшибает с ног страсть. - Сговоримся относительно страсти. Нет ничего дешевле страсти! Можно обходиться без всех добродетелей контрапункта, не нужно ничему учиться, - на страсть нас всегда хватит! Красота дается тяжело - будем остерегаться красоты!.. И даже мелодия! Будем поносить, друзья мои, будем поносить, если только мы серьезно относимся к идеальному, будем поносить мелодию. Нет ничего опаснее прекрасной мелодии! Ничто не портит вернее вкус! Мы пропали, друзья мои, если опять полюбят прекрасные мелодии!..
Принцип: мелодия безнравственна. Доказательство: Палестрина. Применение: Парсифаль. Недостаток мелодии даже освящает...
А вот определение страсти. Страсть - или гимнастика безобразного на канате энгармоники. - Отважимся, друзья мои, быть безобразными! Вагнер отважился на это! Будем смело месить грязь отвратительнейших гармоний! Не будем щадить наших рук! Только это сделает нас естественными...
Последний совет! Быть может, он резюмирует все. - Будем идеалистами! - Это если не самое умное, то все же самое мудрое, что мы можем сделать. Чтобы возвышать людей, надо быть самому возвышенным. Будем парить над облаками, будем взывать к бесконечному, обставим себя великими символами! Sursum! Bumbum! - нет лучшего совета. "Приподнятая грудь" пусть будет нашим аргументом, "прекрасное чувство" - нашим защитником. Добродетель остается правой даже в споре с контрапунктом. "Кто делает нас лучшими, как может тот сам не быть хорошим?" - так рассуждало всегда человечество. Так будем же исправлять человечество! - это делает хорошим (это делает даже "классиком". - Шиллер стал "классиком"). Погоня за низменным возбуждением чувств, за так называемой красотой энервировала итальянца - останемся немцами! Даже отношение Моцарта к музыке - Вагнер сказал это в утешение нам! - было в сущности фривольным... Не будем никогда допускать, чтобы музыка "служила для отдохновения"; чтобы она "увеселяла"; чтобы она "доставляла удовольствие". Не будем никогда доставлять удовольствие! - мы пропали, если об искусстве начнут опять думать гедонистически... Это скверный восемнадцатый век... Говоря в сторону, ничто не может быть полезнее против этого, чем некоторая доза - ханжества, sit venia verbo. Это придает достоинство. - И выберем час, когда окажется подходящим смотреть мрачно, вздыхать публично, вздыхать по-христиански, выставлять напоказ великое христианское сострадание. "Человек испорчен: кто спасет его? что спасет его?" - Не будем отвечать. Будем осторожны. Поборем наше честолюбие, которому хотелось бы создавать религии. Но никто не должен сомневаться, что мы его спасаем, что только наша музыка спасает... (трактат Вагнера "Религия и искусство").
Довольно! Довольно! Боюсь, что под моими веселыми штрихами слишком ясно опознали ужасную действительность - картину гибели искусства, гибели также и художников. Последняя, гибель характера, быть может, получит предварительное выражение в следующей формуле: музыкант становится теперь актером, его искусство все более развивается как талант лгать. Я буду иметь случай (в одной из глав моего главного произведения, носящей заглавие "К физиологии искусства") показать ближе, что это общее превращение искусства в нечто актерское так же определенно выражает физиологическое вырождение (точнее, известную форму истерии), как и всякая отдельная испорченность и увечность провозглашенного Вагнером искусства: например, беспокойность его оптики, вынуждающая каждое мгновение менять место по отношению к нему. Ничего не понимают в Вагнере, если видят в нем лишь игру природы, произвол и причуды, случайность. Он не был "неполным", "погибшим", "контрадикторным" гением, как говорили. Вагнер представлял собою нечто совершенное, типичного decadent, у которого отсутствует всякая "свободная воля", является необходимой всякая черта. Если что-нибудь интересно в Вагнере, так это логика, с которой физиологический недостаток, как практика и процедура, как новаторство в принципах, как кризис вкуса, делает заключение за заключением, шаг за шагом.
Я остановлюсь на этот раз лишь на вопросе стиля. - Чем характеризуется всякий литературный decadence? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого - целое уже не является больше целым. Но вот что является образом и подобием для всякого стиля decadence: всякий раз анархия атомов, дисгрегация воли, "свобода индивидума", выражаясь языком морали, а если развить это в политическую теорию - "равные права для всех". Жизнь, равная жизненность, вибрация и избыток жизни втиснуты в самые маленькие явления; остальное бедно жизнью. Всюду паралич, тягость, оцепенение или вражда и хаос: и то и другое все более бросается в глаза, по мере того как восходишь к высшим формам организации. Целое вообще уже не живет более: оно является составным, рассчитанным, искусственным, неким артефактом. -
У Вагнера началом служит галлюцинация: не звуков, а жестов. К ним-то и подыскивает он звуко-семиотику. Если хотите подивиться ему, то посмотрите, как он работает тут: как он тут расчленяет, как он добывает маленькие частности, как он их оживляет, выращивает, делает видимыми. Но на этом исчерпывается его сила; остальное не стоит ничего. Как беден, как робок, какой профанацией отдает его способ "развивать", его попытка по крайней мере хоть воткнуть одно в другое то, что не выросло одно из другого! Его манеры напоминают при этом привлекательных и в ином для вагнеровского стиля freres de Goncourt: такая бедность возбуждает нечто вроде жалости. Что Вагнер переряжает в принцип свою неспособность к органическому творчеству, что он устанавливает "драматический стиль" там, где мы устанавливаем лишь его неспособность к стилю вообще, это соответствует смелой привычке, сопровождавшей Вагнера всю жизнь: он пристегивает принцип там, где у него не хватает способности ( - очень отличаясь этим, кстати сказать, от старого Канта, любившего другую смелость: именно, всюду, где у него не хватало принципа, замещать его "способностью" в человеке...). Повторяю: достоин удивления и симпатии Вагнер лишь в изобретении мелочей, в измышлении деталей, - мы будем вполне правы, провозгласив его мастером первого ранга в этом, нашим величайшим миниатюристом музыки, втискивающим в самое маленькое пространство бесконечный смысл и сладость. Его богатство красок, полутеней, таинственностей угасающего света избаловывает до такой степени, что почти все музыканты кажутся после этого слишком грубыми. - Если мне поверят, то высшее понятие о Вагнере извлекается не из того, что нынче в нем нравится. Это изобретено для того, чтобы склонить на свою сторону массы, наш брат отскакивает от этого, как от слишком наглой фресковой живописи. Что такое для нас раздражающая суровость увертюры к Тангейзеру? Или цирк Валькирии? Все, что из вагнеровской музыки стало популярным также и вне театра, обладает сомнительным вкусом и портит вкус. Марш Тангейзера, по-моему, возбуждает подозрение в мещанстве; увертюра к Летучему голландцу - это шум из ничего; пролог к Лоэнгрину дал первый, лишь слишком рискованный, слишком удавшийся пример того, как гипнотизируют также и музыкой ( - я не терплю никакой музыки, честолюбие которой не простирается далее действия на нервы). Но - если отвлечься от магнетизера и фрескового живописца Вагнера, есть еще другой Вагнер, откладывающий маленькие драгоценности: наш величайший меланхолик музыки, полный взоров, нежностей и утешительных слов, которых у него никто не предвосхитил, мастер в тонах грустного и сонливого счастья... Лексикон интимнейших слов Вагнера, все короткие вещицы от пяти до пятнадцати тактов, вся музыка, которой никто не знает... Вагнер обладает добродетелью decadents, - состраданием - - -
- "Очень хорошо! Но как можно потерять свой вкус от этого decadent, если случайно сам не музыкант, если случайно сам не decadent?" - Наоборот. Как может это не случиться! Попробуйте-ка! - Вы не знаете, кто такой Вагнер: это очень большой актер! Есть ли вообще более глубокое, более тяжелое действие в театре? Посмотрите-ка на этих юношей - оцепенелых, бледных, бездыханных! Это вагнерианцы: они ничего не понимают в музыке, - и, несмотря на это, Вагнер покоряет их... Искусство Вагнера давит ста атмосферами: нагибайтесь же, иначе нельзя... Актер Вагнер является тираном, его пафос ниспровергает всякий вкус, всякое сопротивление. - Кто обладает этой удивительной силой жеста, кто видит до такой степени определенно, до такой степени прежде всего жест! Это затаивание дыхания вагнеровского пафоса, это нежелание крайнего чувства выпустить из своих рук, эта ужасающая длительность таких состояний, где уже мгновение готово задушить! - -
Был ли Вагнер вообще музыкантом? Во всяком случае он был больше кое-чем другим: именно несравненным histrio, величайшим мимом, изумительнейшим гением театра, какой только был у немцев, нашим инсценировщиком par excellence. Его место в какой-то другой области, а не в истории музыки: с ее великими истыми представителями его не следует смешивать. Вагнер и Бетховен - это богохульство - и в конце концов даже несправедливость по отношению к Вагнеру... Также и как музыкант он был лишь тем, чем был вообще: он сделался музыкантом, он сделался поэтом, потому что скрытый в нем тиран, его актерский гений, принуждал его к этому. Мы не угадаем ничего в Вагнере, пока не угадаем его доминирующего инстинкта.
Вагнер не был музыкантом по инстинкту. Он доказал это тем, что отбросил все законы, говоря точнее, всякий стиль в музыке, чтобы сделать из нее то, что ему было нужно, - театральную риторику, средство выражения, усиления жестов, внушения, психологически-картинного. Тут мы можем считать Вагнера изобретателем и новатором первого ранга - он неизмеримо увеличил словесные средства музыки - это Виктор Гюго музыки как языка. Конечно, предполагая, что прежде всего допускается, что музыка может, смотря по обстоятельствам, быть не музыкой, а языком, орудием, ancilla dramaturgica. Музыка Вагнера, не защищаемая театральным вкусом, вкусом очень толерантным, просто плохая музыка, быть может, вообще худшая из всех. Если музыкант уже не может сосчитать до трех, то он становится "драматическим", становится "a la Вагнер"...
Вагнер почти открыл, сколько магического можно совершить даже разложенной и как бы сделанной элементарною музыкой. Его сознание этого доходит до чего-то жуткого, как и его инстинкт полной ненужности высших законов, ненужности стиля. Довольно элементарного - звука, движения, окраски, словом, чувственности музыки. Вагнер никогда не рассчитывает, как музыкант, исходя из какой-либо совести музыканта: он хочет действия, он не хочет ничего, кроме действия. И он знает то, на что ему приходится воздействовать! - В этом он обладает бесцеремонностью, какою обладал Шиллер, какою обладает каждый театрал, он обладает также и его презрением к тому миру, который он повергает к своим ногам!.. Являешься актером, если обладаешь в качестве преимущества перед остальными людьми одним прозрением: что должно действовать как истинное, то не должно быть истинным. Это положение сформулировал Тальма: оно заключает в себе всю психологию актера, оно заключает в себе - не будем сомневаться в этом! - также и его мораль. Музыка Вагнера никогда не является истинной.
- Но ее считают таковою - и это в порядке вещей.
Пока человек еще ребенок и вагнерианец в придачу, он считает Вагнера даже богачом, даже крайним расточителем, даже владельцем обширных поместий в царстве звука. В нем удивляются тому, чему молодые французы удивляются в Викторе Гюго, - "царственной щедрости". Позже и тому и другому удивляются по обратным причинам: как мастеру и образцу экономии, как умному хозяину. Никто не может сравниться с ними в искусстве сервировать княжеский стол на скромные средства. - Вагнерианец с его верующим желудком даже насыщается той пищей, которую выколдовывает ему его маэстро. Нам же, иным людям, требующим в книгах, как и в музыке, прежде всего субстанции и едва удовлетворяющимся только "сервированными" столами, приходится гораздо хуже. По-немецки: Вагнер дает нам недостаточно кусать. Его recitativo - мало мяса, уже больше костей и очень много подливки - окрещено мною "alla genovese": чем я отнюдь не хотел польстить генуэзцам, но, конечно, хотел польстить более древнему recitativo, recitativo secco. Что же касается вагнеровского "лейтмотива", то он выходит за пределы моего кулинарного понимания. Если бы меня вынудили к этому, я, быть может, определил бы его как идеальную зубочистку, как случай освободиться от остатков кушаний. Остаются "арии" Вагнера. - Но я не скажу больше ни слова.
Также и в построении действия Вагнер прежде всего актер. Ему прежде всего приходит в голову сцена, которая безусловно произведет впечатление, действительная actio с hautrelief жестов, сцена, сшибающая с ног, - ее он продумывает до глубины, только из нее уже извлекает он характеры. Остальное вытекает отсюда сообразно технической экономии, не имеющей оснований быть утонченной. Ведь перед Вагнером не публика Корнеля, которую ему надо щадить, - просто девятнадцатый век. Вагнер, вероятно, судил о "едином на потребу" приблизительно так же, как судит нынче всякий другой актер: ряд сильных сцен, одна другой сильнее, - и вперемежку много умной глупости. Он прежде всего стремится гарантировать самому себе действие своего произведения, он начинает третьим актом, он доказывает себе свое произведение его последним воздействием. Когда руководишься таким пониманием театра, нет никакой опасности нечаянно создать драму. Драма требует суровой логики - но какое было дело Вагнеру вообще до логики! Повторяю: ведь не публика Корнеля была перед ним, которую ему надо было бы щадить, - просто немцы! Известно, к какой технической проблеме прилагает драматург все свои силы, часто потея кровавым потом: дать завязке, а также и развязке необходимость, так, чтобы они были возможны в единственном виде, чтобы обе они производили впечатление свободы (принцип наименьшего расходования силы). Ну, при этом Вагнер меньше всего потеет кровавым потом: известно, что для завязки и развязки он расходует наименьшее количество силы. Возьмите какую-нибудь "завязку" Вагнера под микроскоп - она рассмешит вас, даю слово. Нет ничего забавнее завязки Тристана, разве что завязка Мейстерзингеров. Вагнер не драматург, не надо позволять себя ничем дурачить. Он любил слово "драма"; вот и все - он всегда любил красивые слова. Несмотря на это, слово "драма" в его сочинениях просто недоразумение ( - а также благоразумие: Вагнер всегда относился свысока к слову "опера" - ); вроде того, как слово "дух" в Новом Завете является просто недоразумением. - Он был уже недостаточно психологом для драмы; он инстинктивно уклонялся от психологической мотивировки - чем? - тем, что всегда ставил на ее место идиосинкразию... Очень современно, не правда ли? очень по-парижски! очень decadent!.. Кстати сказать, завязки, которые Вагнер фактически умеет развязывать с помощью драматических изобретений, совсем другого рода. Приведу пример. Положим, что Вагнеру нужен женский голос. Целый акт без женского голоса - это не годится! Но "героини" в эту минуту все несвободны. Что же делает Вагнер? Он эмансипирует старейшую женщину мира, Эрду: "Вставайте, старая бабушка! Вы должны петь!" Эрда поет. Цель Вагнера достигнута. Он тотчас же снова спроваживает старую даму: "Зачем, собственно, вы пришли? Уходите! Продолжайте, пожалуйста, спать!" - In summa: сцена, полная мифологического трепета, при которой вагнерианец что-то чует...
- "Но содержание вагнеровских текстов! их мифическое содержание, их вечное содержание!" - Вопрос: как проверить это содержание, это вечное содержание? - Химик отвечает: надо перевести Вагнера на язык реального, современного, - будем еще более жестоки! - на язык мещанского! Что выйдет при этом из Вагнера? - Между нами, я пробовал это. Нет ничего более занимательного, ничего нельзя больше рекомендовать для прогулок, как рассказывать себе Вагнера в уменьшенных пропорциях: например, представить себе Парсифаля кандидатом богословия с гимназическим образованием ( - последнее, как необходимое для чистой глупости). Какие неожиданности переживаешь при этом! Поверите ли вы мне, что вагнеровские героини, все без исключения, если только их сперва очистить от героической шелухи, как две капли воды похожи на мадам Бовари! - как и обратно будет понятно, что Флоберу ничто не мешало перевести свою героиню в скандинавскую или карфагенскую обстановку и затем, мифологизировав ее, предложить Вагнеру в качестве либретто. Да, говоря вообще, Вагнер, по-видимому, не интересовался никакими иными проблемами, кроме тех, которыми интересуются нынче маленькие парижские decadents. Постоянно в пяти шагах от госпиталя! Все совершенно современные проблемы, все проблемы больших городов! не сомневайтесь в этом!.. Заметили ли вы (это относится к данной ассоциации идей), что вагнеровские героини не рожают детей? - Они не могут этого... Отчаяние, с которым Вагнер схватился за проблему дать возможность Зигфриду вообще быть рожденным, выдает, как современно чувствовал он в этом пункте. - Зигфрид "эмансипирует женщину" - однако без надежды на потомство. - Наконец, факт, остающийся для нас непостижимым: Парсифаль - отец Лоэнгрина! Как он это сделал? - Не нужно ли тут вспомнить о том, что "целомудрие творит чудеса"?..
Wagnerus dixit princeps in castitate auctoritas.
Кстати, еще несколько слов о сочинениях Вагнера: они, между прочим, являются школой благоразумия. Система процедур, применяемая Вагнером, может быть применена к сотне других случаев - имеющий уши да слышит. Быть может, я получу право на общественную признательность, если точно сформулирую три самые ценные процедуры.
Все, чего Вагнер не может, негодно.
Вагнер мог бы еще многое; но он не хочет этого, из ригоризма в принципе.
Все, что Вагнер может, никто не сделает после него, никто не сделал до него, никто не должен делать после него... Вагнер божествен...
Эти три положения составляют квинтэссенцию литературы Вагнера; остальное - "литература".
- Не всякая музыка до сих пор нуждалась в литературе: мы хорошо сделаем, если поищем здесь достаточного основания. Разве музыка Вагнера слишком трудно понимается? Или он боялся обратного, что ее слишком легко поймут, - что ее поймут без достаточного труда? - Фактически он всю свою жизнь повторял одно положение: что его музыка означает не только музыку! А больше! А бесконечно больше!.. "Не только музыку" - так не скажет никакой музыкант. Повторяю, Вагнер не мог творить из целого, у него не было никакого выбора, он должен был создавать поштучно "мотивы", жесты, формулы, дубликаты и всякие стократности, он оставался ритором в качестве музыканта, - он должен был поэтому принципиально выдвигать на передний план "это означает". "Музыка всегда лишь средство" - это было его теорией, это было прежде всего вообще единственно возможной для него практикой. Но так не думает никакой музыкант. - Вагнеру была нужна литература, чтобы убедить всех считать его музыку серьезной, считать ее глубокой, "потому что она означает бесконечное"; он был всю жизнь комментатором "идеи". - Что означает Эльза? Но тут не может быть сомнения: Эльза - это "бессознательный дух народа"? ( "это познание необходимо сделало меня совершенным революционером" ).
Припомним, что Вагнер был молодым в то время, когда Гегель и Шеллинг увлекали умы; что он разгадал до очевидности то, что только и считает немец серьезным, - "идею", хочу сказать, нечто темное, неведомое, смутное; что ясность является среди немцев возражением, логика - опровержением. Шопенгауэр сурово уличил эпоху Гегеля и Шеллинга в бесчестности, - сурово, но также и несправедливо: он сам, старый пессимистический фальшивомонетчик, поступал нисколько не "честнее" своих знаменитых современников. Оставим в стороне мораль. Гегель - это вкус... И не только немецкий, а европейский вкус! - Вкус, который понял Вагнер! - до которого он чувствовал себя доросшим! который он увековечил! - Он просто применил это к музыке - он изобрел себе стиль, означающий "бесконечное", - он стал наследником Гегеля... Музыка как "идея" - -
И как поняли Вагнера! - Та же самая порода людей, которая бредила Гегелем, бредит нынче Вагнером; в его школе даже пишут по-гегелевски! - Прежде всех понял его немецкий юноша. Два слова, "бесконечный" и "значение", уже были достаточны: ему сделалось при этом невыразимо хорошо. Не музыкой покорил себе Вагнер юношей, а "идеей": богатство загадок в его искусстве, его игра в прятки под ста символами, его полихромия идеала - вот что влечет к Вагнеру этих юношей; это гений Вагнера в создавании облаков, его гоньба, блуждание и рысканье по воздуху, его "всюду" и "нигде", точь-в-точь то самое, чем прельщал и увлекал их в свое время Гегель! - Среди вагнеровской множественности, полноты и произвола они являются как бы оправданными сами перед собой - "спасенными". - Они слушают с дрожью, как великие символы звучат в его искусстве из туманной дали тихим громом; они не сердятся, если порою в нем бывает серо, скверно и холодно. Ведь все они без исключения, подобно самому Вагнеру, сроднились с дурной погодой, немецкой погодой! Вотан - их бог; но Вотан - бог дурной погоды... Они правы, эти немецкие юноши, раз они уже таковы: как могло бы недоставать им в Вагнере того, чего недостает нам, иным людям, нам, халкионцам - la gaya scienza; легких ног; остроумия, огня, грации; великой логики; танца звезд; надменной гениальности; зарниц юга; гладкого моря - совершенства...
- Я сказал, где место Вагнера - не в истории музыки. Что же он означает, несмотря на это, в ее истории? Начавшееся главенство актера в музыке - капитальное событие, наводящее на размышления, а также, быть может, возбуждающее страх. Формулируя: "Вагнер и Лист". - Еще никогда честность музыкантов, их "подлинность", не подвергалась равному по опасности испытанию. Ведь очевидно: большой успех, успех у масс уже не на стороне подлинных, - надо быть актером, чтобы иметь его! - Виктор Гюго и Рихард Вагнер - они означают одно и то же: что в упадочных культурах, что всюду, где решение переходит в руки масс, подлинность становится лишней, убыточной, вызывающей пренебрежение. Лишь актер возбуждает еще великое одушевление. - Этим начинается для актера золотой век - для него и всего, что сродни его породе, Вагнер шествует с барабанами и флейтами во главе всех художников декламации, изображения, виртуозности; он убедил прежде всего капельмейстеров, машинистов и театральных певцов. Не забудем и музыкантов оркестра - он "спас" их от скуки... Движение, созданное Вагнером, переходит даже в область познания: целые соответствующие науки медленно всплывают из вековой схоластики. Чтобы привести пример, я подчеркиваю особенно заслуги Римана в ритмике, первого, кто применил также и к музыке основное понятие знаков препинания (к сожалению, выразив его безобразным словом: он называет это "фразировкой"). - Все это, говорю с благодарностью, лучшие из почитателей Вагнера, самые достойные уважения - они просто имеют право почитать Вагнера. Общий инстинкт связывает их друг с другом, они видят в нем их высший тип, они чувствуют себя силой, даже большой силой, с тех пор как он воспламенил их собственным жаром. Если где-нибудь влияние Вагнера было действительно благодетельным, то именно тут. Еще никогда в этой сфере столько не думали, столько не хотели, столько не работали. Вагнер вложил во всех этих художников новую совесть: чего они требуют от себя, хотят от себя теперь, того они никогда не требовали до Вагнера - они были слишком скромны для этого. В театре царит другой дух с тех пор, как там царит дух Вагнера: требуют самого трудного, порицают сурово, хвалят редко - хорошее, выдающееся считается правилом. Вкус уже больше не нужен; даже голос. Вагнера поют только разбитым голосом: это действует "драматично". Даже дарование исключено. Espressivo во что бы то ни стало, как этого требует вагнеровский идеал, идеал decadence, плохо уживается с дарованием. Для него нужна просто добродетель - хочу сказать, дрессировка, автоматизм, "самоотречение". Ни вкуса, ни голоса, ни дарования: сцене Вагнера нужно только одно - германцы... Определение германца: послушание и длинные ноги... Полно глубокого значения то, что появление и возвышение Вагнера совпадает по времени с возникновением "империи": оба факта означают одно и то же - послушание и длинные ноги. - Никогда лучше не повиновались, никогда лучше не повелевали. Вагнеровские капельмейстеры в особенности достойны того века, который потомство назовет некогда с боязливым почтением классическим веком войны. Вагнер умел командовать; это-то и сделало его великим учителем. Он командовал, как непреклонная воля к себе, как дисциплинирование себя всю жизнь - Вагнер, который, быть может, являет собою величайший пример самонасилия в истории искусств ( - он превзошел даже близкородственного ему в остальном Альфьери. Примечание туринца).
Это познание, что наши актеры более достойны уважения, чем какие-либо прежние, не соединяется с пониманием того, что они менее опасны... Но кто еще сомневается в том, чего я хочу,- каковы три требования, которые на этот раз влагает в мои уста моя злоба, моя забота, моя любовь к искусству? Чтобы театр не становился господином над искусствами. Чтобы актер не становился соблазнителем подлинных. Чтобы музыка не становилась искусством лгать.
Фридрих Ницше
- Мое письмо, по-видимому, не защищено от одного недоразумения. На известных лицах показывается выражение благодарности; я слышу даже скромное ликование. Предпочел бы тут, как и во многом, быть понятым. - Но с тех пор как в виноградниках немецкого духа завелось новое животное, имперский червь, знаменитая Rhinoxera, не понимают более ни одного моего слова. Даже Крестовая газета свидетельствует мне об этом, не говоря уже о Центральной литературной газете. - Я дал немцам глубочайшие книги, какими только они вообще обладают, - достаточное основание, чтобы немцы не поняли из них ни слова... Если я в этом сочинении воюю с Вагнером - и мимоходом с одним немецким "вкусом", - если у меня есть суровые слова для байрейтского кретинизма, то я менее всего хотел бы доставлять этим торжество каким-либо другим музыкантам. Другие музыканты в сравнении с Вагнером в счет не идут. Дело вообще обстоит скверно. Гибель является всеобщей. Болезнь коренится глубоко. Если Вагнер остается именем для гибели музыки, как Бернини для гибели скульптуры, то все же он не является ее причиной. Он только ускорил ее tempo - конечно, так, что стоишь с ужасом перед этим почти внезапным низвержением, падением в бездну. У него была наивность decadence - это было его превосходством. Он верил в него, он не останавливался ни перед какой логикой decadence. Другие медлят - это отличает их. Больше ничего!.. Общее у Вагнера с "другими" - я перечислю: упадок организующей силы, злоупотребление традиционными средствами без оправдывающей способности, способности к цели; фабрикация фальшивых монет в подражание великим формам, для которых нынче никто не является достаточно сильным, гордым, самоуверенным, здоровым; чрезмерная жизненность в самом маленьком; аффект во что бы то ни стало; утонченность, как выражение оскудевшей жизни: все более нервов вместо мяса. - Я знаю лишь одного музыканта, который в состоянии еще нынче вырезать увертюру из цельного дерева - и никто его не знает... Что нынче знаменито, то, по сравнению с Вагнером, создает не "лучшую" музыку, а лишь более нерешительную, более безразличную - более безразличную, потому что половина уничтожается тем, что существует целое. А Вагнер был целым; а Вагнер был целой испорченностью; а Вагнер был мужеством, волей, убеждением в испорченности - что такое еще Иоганнес Брамс!.. Его удача была немецким недоразумением: его приняли за антагониста Вагнера - нуждались в антагонисте! - Такие не создают необходимой музыки, такие создают прежде всего слишком много музыки! - Если человек не богат, то он должен быть достаточно гордым для бедности!.. Симпатия, бесспорно внушаемая там и сям Брамсом, совершенно независимо от этого партийного интереса, партийного недоразумения, была долго для меня загадкой, - пока наконец почти случайно я не дознался, что он действует на определенный тип людей. У него меланхолия неспособности; он творит не от избытка, он жаждет избытка. Если вычесть то, в чем он подражает, что он заимствует от великих старых или экзотически-современных форм стиля - он мастер в копировании, - то останется, как его собственное, тоска... Это угадывают тоскующие и неудовлетворенные всех видов. Он является слишком мало личностью, слишком мало центром... Это понимают "безличные", периферические, - они любят его за это. В особенности он является музыкантом известного вида неудовлетворенных женщин. Пятьдесят шагов дальше - и находишь вагнерианку - совершенно так же, как на пятьдесят шагов далее Брамса находишь Вагнера, - вагнерианку, лучше отчеканенный, более интересный, прежде всего более приятный тип. Брамс трогателен, пока он тайно мечтает или скорбит о себе - в этом он "современен", - он становится холоден, он уже не привлекает нашего внимания, как только делается наследником классиков... Брамса любят называть наследником Бетховена - я не знаю более осторожного евфемизма. - Все, что заявляет нынче в музыке притязание на "высокий стиль", в силу этого фальшиво либо по отношению к нам, либо по отношению к себе. Эта альтернатива наводит на размышления: именно, она заключает в себе казуистику относительно ценности двух случаев. "Фальшиво по отношению к нам": против этого протестует инстинкт большинства - оно не хочет быть обманутым; я лично, конечно, все-таки предпочел бы этот тип другому ("фальшиво по отношению к себе"). Это мой вкус. - Говоря понятнее, говоря для "нищих духом": Брамс - или Вагнер... Брамс не актер. Можно подвести добрую часть других музыкантов под понятие Брамс. Не скажу ни слова об умных обезьянах Вагнера, например о Гольдмарке: с "Царицей Савской" человеку место в зверинце - можно позволять себя показывать. - Нынче могут создавать хорошо, создавать мастерски только маленькое. Только тут возможна честность. - Но ничто не может излечить музыку в главном, от главного, от фатальности быть выражением физиологического противоречия, - быть современной. Самое лучшее обучение, самая совестливая выучка, принципиальная интимность, даже изоляция в обществе старых мастеров - все это остается паллиативным, говоря точнее, иллюзорным, потому что уже не имеешь в себе предусловий для этого; все равно, будет ли это сильная раса какого-нибудь Генделя или бьющая через край животность какого-нибудь Россини. - Не каждый имеет право на каждого учителя: это относится к целым векам. - Сама по себе не исключается возможность, что где-нибудь в Европе еще есть остатки более сильных поколений, типично более несовременных людей: оттуда можно бы еще надеяться на запоздалую красоту и совершенство также и для музыки. В лучшем случае то, что мы еще можем увидеть, будут исключения. От правила же, что испорченность главенствует, что испорченность фатальна, не спасет музыку никакой Бог. -
- Удалимся в конце концов, чтобы передохнуть, на минуту из того тесного мира, в котором заставляет пребывать дух всякий вопрос о ценности личностей. У философа есть потребность вымыть руки, после того как он так долго занимался "казусом Вагнер". - Даю мое понятие современного. - Каждое время имеет в своей мере силы также и меру того, какие добродетели ему дозволены, какие запрещены. Либо оно имеет добродетели восходящей жизни, - тогда оно противится в силу самого глубокого основания добродетелям нисходящей жизни. Либо оно само есть нисходящая жизнь, - тогда оно нуждается и в добродетелях упадка, тогда оно ненавидит все, что оправдывается только полнотою, только чрезмерным богатством сил. Эстетика неразрывно связана с этими биологическими предусловиями: есть эстетика decadence, есть и классическая эстетика; "красота сама но себе" - это химера, как и весь идеализм. - В более тесной сфере так называемых моральных ценностей нельзя найти большего контраста, нежели мораль господ и мораль христианских понятий о ценностях: последняя выросла на гнилой насквозь почве ( - Евангелия приводят нам точь-в-точь те самые физиологические типы, которые описывают романы Достоевского), мораль господ ("римская", "языческая", "классическая", "ренессанс"), наоборот, является символическим языком удачности, восходящей жизни, воли к власти как принципа жизни. Мораль господ утверждает так же инстинктивно, как христианская отрицает ("Бог", "тот мир", "самоотречение" - сплошь отрицания). Первая отдает вещам от своей полноты - она прославляет, она украшает, она осмысливает мир, - последняя делает ценность вещей беднее, бледнее, обезображивает их, она отрицает мир. "Мир" - это христианское бранное слово. - Эти формы контраста в оптике ценностей обе необходимы: это способы смотреть, которым не поможешь никакими основаниями и опровержениями. Не опровергнешь христианства, не опровергнешь болезни глаз. Что с пессимизмом боролись, как с некоей философией, это было вершиной ученого идиотизма. Понятия "истинный" и "ложный", как мне кажется, не имеют в оптике никакого смысла. - Против чего только и следует защищаться, так это против фальши, против инстинктивного двуязычия, не желающего чувствовать эти контрасты как контрасты: какова, например, была воля Вагнера, который был не малым мастером в такой фальши. Поглядывать исподтишка на мораль господ, на аристократическую мораль ( - исландская сага является почти важнейшим ее документом - ) и при этом проповедовать противоположное учение, учение о "евангелии низменных", о потребности в спасении!.. Я удивляюсь, кстати сказать, скромности христиан, ходящих в Байрейт. Я сам не вынес бы известных слов из уст какого-нибудь Вагнера. Есть понятия, которым не место в Байрейте... Как? христианство, состряпанное для вагнерианок, быть может, вагнерианками - ибо Вагнер был в дни старости вполне feminini generis -? Повторяю, нынешние христиане кажутся мне слишком скромными... Если Вагнер был христианином, ну, тогда Лист, быть может, был отцом церкви! - Потребности в спасении, сущности всех христианских потребностей, нечего делать с такими шутами: она - самая честная форма выражения decadence, самое убежденное, самое мучительное подтверждение его в возвышенных символах и приемах. Христианин хочет освободиться от себя. Le moi est toujours haissable. - Аристократическая мораль, мораль господ, наоборот, коренится в торжествующем Да себе - она есть самоподтверждение, самопрославление жизни, она также нуждается в возвышенных символах и приемах, но лишь "потому, что ее сердце слишком полно". Все прекрасное, все великое искусство относится сюда: сущность обоих - благодарность. С другой стороны, от нее нельзя отделить инстинктивного отвращения к decadents, насмешки, даже ужаса, вызываемого их символикой: это является почти ее доказательством. Знатный римлянин смотрел на христианство как на foeda superstitio; напомню о том, как относился к кресту последний немец с аристократическим вкусом, Гете. Тщетно искать более драгоценных, более необходимых контрастов
- Но такая фальшь, как фальшь байрейтцев, не является нынче исключением. Все мы знаем неэстетическое понятие христианского юнкерства. Эта невинность среди контрастов, эта "чистая совесть" во лжи скорее современна par excellence, этим почти определяется современность. Современный человек представляет собою в биологическом отношении противоречие ценностей, он сидит между двух стульев, он говорит сразу Да и Нет. Что же удивительного, что именно в наше время сама фальшь становится плотью и даже гением? что Вагнер "жил среди нас"? Не без основания назвал я Вагнера Калиостро современности... Но все мы неведомо для себя, против воли носим в себе ценности, слова, формулы, морали противоположного происхождения, - мы, если нас рассматривать с физиологической точки зрения, фальшивы... Диагностика современной души - с чего начала бы она? С решительного вонзания ланцета в эту инстинктивную противоречивость, с высвобождения ее противоположных ценностей, с вивисекции, произведенной над ее поучительнейшим казусом. - Казус Вагнер для философа счастливый казус, это сочинение, пусть слышат это, внушено благодарностью...
1) Примечание. Было истинным несчастьем для эстетики, что слово "драма" всегда переводили слоном "действие". Не один Вагнер заблуждается в этом; заблуждаются еще все; даже филологи, которым следовало бы знать это лучше. Античная драма имела в виду великие сцены пафоса - она исключала именно действие (переносила его до начала или за сцену). Слово "драма" дорического происхождения, и по дорическому словоупотреблению оно означает "событие", "историю", оба слова в гиератическом смысле. Древнейшая драма представляла местную легенду, "священную историю", на которой покоилась основа культа:
2) Примечание. - Был ли Вагнер вообще немцем? Есть некоторые основания для такого вопроса. Трудно найти в нем какую-нибудь немецкую черту. Как великий учащийся, каким он был, он научился подражать многому немецкому - вот и все. Его натура даже противоречит тому, что до сих пор считалось немецким, - не говоря уже о немецкой музыке! - Его отец был актер по фамилии Geyer. Geyer - это уже почти Adler... То, что до сих пор циркулирует в обществе в виде "Жизни Вагнера", есть fable convenue, если не нечто худшее. Признаюсь в своем недоверии ко всему, что засвидетельствовано только самим Вагнером. У него не хватало гордости для какой-либо правды о себе, никто не был менее горд; он совершенно так же, как и Виктор Гюго, остался верен себе и в биографии, - он остался актером.
3) Примечание: О противоположности "аристократической морали" и "христианской морали" говорила впервые моя "Генеалогия морали": быть может, нет более решительного поворота и истории религиозного и морального познания. Эта книга, мой пробный камень для того, что родственно мне, имеет счастье быть доступной лишь самым высоким и строгим умам: у остальных не хватает для этого ушей. Надо обладать страстью в таких вещах, где ею никто нынче не обладает...
Фридрих Ницше. Рихард Вагнер в Байрейте
После завершения “Рождения трагедии” Ницше задумал серию критических статей под общим названием “Несвоевременные размышления”; статья про Вагнера третья из четырех завершенных очерков.
Часть 1-3
Чтобы событие имело величие, необходимы два условия: величие духа тех, которые осуществляют его, и тех, которые его переживают. Само по себе всякое событие лишено величия, и если исчезают целые созвездия, погибают народы, основываются огромные государства и ведутся войны с неимоверными усилиями и жертвами, то дуновение истории развевает множество подобных событий, как будто это — снежные хлопья. Но бывает также, что и сильный человек наносит удар, который бесследно падает на твердый камень; короткий, резкий отзвук — и все кончено. История почти не говорит о подобных заглохших событиях. Поэтому в душу каждого, кто видит наступающее событие, закрадывается забота, окажутся ли переживающие его люди достойными его. В наших делах мы всегда надеемся на это взаимное соответствие между деяниям и восприимчивостью и имеем его в виду в малом и великом, и кто хочет давать, должен позаботиться, чтобы люди, принимающие его даяние, стояли на высоте последнего. Именно поэтому единичное действие даже великого человека лишено всякого величия, если оно мимолетно, глухо и бесплодно; ибо в момент, когда он совершал его, у него во всяком случае отсутствовало глубокое сознание, что именно теперь оно необходимо; он не совсем верно метил и не вполне точно определил и выбрал время. Он был во власти случайности, между тем как быть великим и прозревать необходимость — неразрывно связано между собой.
Поэтому пусть размышляют о своевременности и нужности байрейтских событий те, кто сомневается, что Вагнер прозрел их необходимость. Нам, более доверчивым, кажется, что он верит и в величие своего действия и в величие духа тех, кто его переживает. Этим должны гордиться все, на кого распространяется эта вера; ибо что эта вера распространяется не на всех, не на всю эпоху и не на весь немецкий народ в его нынешнем виде, — это он сам сказал в своей торжественной речи, произнесенной 22 мая 1872 г., — и нет среди нас никого, кто бы мог возразить ему что-либо более утешительное. Он сказал тогда: «Я обращался за содействием только к вам, друзьям моего особого искусства, моей личной деятельности и творчества, только вашей помощи я искал, чтоб показать мои произведения в чистом и неискаженном виде всем, кто уделял моему творчеству серьезное внимание, несмотря на то, что до сих пор видел мои произведения лишь в искалеченном и нечистом виде”.
Бесспорно, в Байрейте стоит посмотреть и на зрителей. Мудрый наблюдатель, сравнивающий достопримечательные явления культуры различных веков, нашел бы там много интересного. Он почувствовал бы, что здесь он внезапно попал в теплые воды, как будто, плывя по озеру, приблизился к струе горячего ключа; «этот ключ — говорит он себе — берет начало из других, более глубоких источников: окружающая вода не объясняет, откуда он взялся, ибо сама по себе слишком неглубока”. Участники байрейтских праздеств должны производить, таким образом, впечатление несвоевременных людей: их родина — не нынешнее время, их причину и вместе с тем оправдание нужно искать в чем-либо ином. Мне все более становится ясным, что «образованный” человек, как исключительный и совершенный продукт современности, может лишь через посредство пародии подойти ко всему, что мыслит и делает Вагнер, — и как фактически все это было пародировано; он освещает и байрейтское событие далеко не волшебным фонарем наших газетных остряков, и хорошо еще, если все кончается только пародией! Она разряжает дух отчужденности и вражды, который мог бы найти другие пути и средства, и при случае уже находил их. Указанный наблюдатель культуры уловит и это необычайное обострение и напряжение противоположных направлений. То обстоятельство, что единичная личность, в течении обыкновенной человеческой жизни, могла дать нечто во всех отношениях новое, должно было вызвать негодование всех, кто верует в постепенность всякого развития, как в своего рода нравственный закон. Они сами медлительны и требуют медленности, а тут пред ними необычайно преуспевающий; не понимая, как это ему дается, они раздражаются против него. Байрейтским событиям не предшествовали никакие предвестия, никакие переходные моменты, никакие посредствующие акты; никто, кроме Вагнера, не знал ни самой цели, ни длины пути к ней. Это есть первое кругосветное путешествие в сфере искусства; и в нем, по-видимому, было открыто не только новое искусство, но и вообще искусство. Все прежние искусства нашего времени благодаря этому наполовину обесценены, как жалкая нищета или праздная роскошь; и даже слабые и смутные воспоминания об истинном искусстве, которое мы, люди нового времени, унаследовали от греков, должны исчезнуть, насколько они не могут быть озарены новым пониманием. Для многого теперь пришла пора погибнуть; это новое искусство есть прорицатель, предсказывающий гибель не одному только прежнему искусству: его угрожающая длань должна поселить тревогу во всей нашей современной культуре, как только замолкнут насмешливые пародии на него. Пусть же останется ей краткое мгновение для забавы и смеха!
Мы же, апостолы воскресшего искусства, найдем время и охоту для серьезности, для глубокой святой серьезности! Шумиха слов, которую культура доселе поднимала вокруг искусства, ощущается нами теперь как бесстыдная назойливость. Все нас обязывает к молчанию, к пятилетнему пифагорову молчанию. Кто из нас не осквернял себя отвратительным идолопоклонством пред современным образованием! Кто не нуждался в очищающей воде! Кто не слыхал увещевающего голоса: молчать и быть чистым! Молчать и быть чистым! Только мы, внемлющие этому голосу, сподобились той широты взора, которая нужна, чтобы созерцать байрейтское событие; и именно в этом заключается великое будущее этого события.
После того, как в один из майских дней 1872 г. был заложен первый камень на байрейтской возвышенности, Вагнер возвращался с некоторыми из нас в город; шел проливной дождь, и небо заволокло тучами. Он молчал, погруженный в себя, и при этом долго смотрел проникновенным взором, который не опишешь словами. В этот день он начинал свой шестидесятый год: все прошлое было подготовлением к этому моменту. Известно, что люди, в опасные и вообще важные моменты своей жизни, в состоянии охватить посредством бесконечно ускоренного внутреннего созерцания все пережитое и с редкой отчетливостью вновь распознать как ближайшее, так и отдаленнейшее. Что видел Александр Великий в то мгновение, когда он заставил Европу и Азию пить из одной чаши? Но что созерцал Вагнер, погруженный в самого себя, размышляя о том, чем он был, чем стал и чем будет, — об этом мы, ближайшие ему люди, можем до известной степени догадаться. Только этот вагнеровский взор дает нам уразуметь его великое дело — и в этом уразумении найти залог плодотворности последнего.
Было бы странно, если бы то, что человек больше всего любит и лучше всего умеет делать, не проявилось во всем складе его жизни; напротив, у высокоодаренных людей жизнь становится отображением не только характера, как у всякого смертного, но прежде всего отображением и интеллекта и свойственных ему дарований. Жизнь эпического поэта будет заключать в себе нечто эпическое, — как это, между прочим, заметно у Гёте, в котором немцы совсем неправильно привыкли видеть преимущественно лирика: жизнь драматурга будет протекать драматически.
Драматизм в развитии Вагнера нельзя не заметить с того момента, когда господствующая в нем страсть осознала самое себя и овладела всей его натурой; тем самым пришел конец исканиям на ощупь, блужданиям и всякого рода уклонениям в сторону, и в самых запутанных его путях и странствиях, в его часто фантастических планах господствует единая внутренняя закономерность, единая воля, которая нам их объясняет, как ни странно звучат порой эти объяснения. Но был и додраматический период в жизни Вагнера — его детство и юность, и нельзя пройти мимо них, не натолкнувшись на загадку. Его детство и юность далеко не предвещают будущего Вагнера, и то, что теперь, оглядываясь назад, можно было бы принять за предвестие, оказывается ближайшим образом лишь совокупностью качеств, которые могут возбудить скорее сомнение, чем надежду: дух беспокойства и раздражительности, нервная суетливость в погоне за сотнями вещей, страстная любовь к почти болезненным, напряженным настроениям, внезапные переходы от моментов полного душевного покоя к насильственному и крикливому. Его не стесняли какие-либо строгие наследственные и семейные художественные традиции: живопись, поэзия, драматическое искусство и музыка были ему так же близки, как и научные образование и карьера. При поверхностном взгляде можно было подумать, что он рожден быть дилетантом. Маленький мирок, под игом которого он вырастал, нельзя признать благоприятной родиной для художника. Его легко могло увлечь опасное удовольствие — отведывать всего понемногу, равно как и обычное в среде ученых самомнение, связанное с многознайством. Его чувство легко возбуждалось, но не находило достаточного удовлетворения. Как бы далеко ни проникал взор мальчика, он видел себя окруженным стариковски-рассудительным, но бодрым духом, к которому в смешном и резком противоречии находился пестрый театр и смиряющий душу тон музыки. Мыслящему наблюдателю вообще бросается в глаза, как редко именно современный человек, наделенный высокими дарованиями, отличается в юности и детстве наивностью, индивидуальностью и своеобразием. Напротив, те редкие экземпляры, которые, подобно Гёте и Вагнеру, вообще приходят к наивности, обретают ее скорее в зрелом, чем в детском и юношеском возрасте. В частности художник, которому особенно врождена сила подражания, подвержен влиянию расслабляющего многообразия современной жизни, как какой-то острой детской болезни. В детстве и юности он скорее походит на старика, чем на самого себя. Удивительно строгий первообраз юноши Зигфрида в «Кольце Нибелунгов” мог воспроизвести только муж, — и именно муж, лишь поздно обретший свою юность. Поздно, как и юность, наступил у Вагнера и его зрелый возраст, так что по крайней мере в этом отношении он составляет противоположность предвосхищающей натуры.
С наступлением его духовной и нравственной зрелости начинается и драма его жизни. И как изменяется теперь его облик! Его натура кажется страшно упрощенной, как бы разорванной на два влечения или две сферы. В самом низу бурлит в стремительном потоке могучая воля, которая на всем пути, во всех пещерах и ущельях как бы рвется к свету и жаждет власти. Только чистый и свободный дух мог указать этой воле путь к добру и спасению; в соединении с более узким сознанием такая воля, с ее безграничным и тираническим вожделением, могла бы стать роковой; и во всяком случае ей нужно было открыть путь к свободе, свежему воздуху и солнечному свету. Могучая воля озлобляется, когда она постоянно наталкивается на непреодолимые препятствия; неосуществимость может зависеть от обстоятельств, неотвратимости рока, а не от недостатка сил: но кто не может расстаться со своим стремлением, несмотря на его неосуществимость, испытывает некоторую подавленность и потому становится раздражительным и несправедливым. Он приписывает свои неудачи другим, в пылу ненависти он готов признать виновным весь мир; иногда он дерзко пробирается окольными и потайными дорогами или совершает насилие; поэтому и случается, что прекрасные натуры, стремясь к лучшему, все же дичают. Даже среди тех, кто искал лишь личного нравственного усовершенствования — среди отшельников и монахов, — можно встретить таких одичавших, насквозь больных, опустошенных и истерзанных неудачами людей. Увещевающий дух — дух, преисполненный добротой, лаской и безмерной кротостью, которому ненавистны насилие и саморазрушение и который никого не хочет видеть в оковах, — он говорил с Вагнером. Он снизошел на него, ласково обвил его крыльями и указал ему путь. Мы подходим здесь к другой сфере вагнеровской натуры; но как нам описать ее?
Образы, которые творит художник, — не есть он сам, но ряд образов, к которым он явственно питает глубочайшую любовь, говорит во всяком случае кое-что о самом художнике. Пусть предстанут перед вами образы Риенци, Моряка-Скитальца и Сенты, Тангейзера и Елизаветы, Лоэнгрина и Эльзы, Тристана и Марке, Ганса Сакса, Вотана и Брунгильды: через все эти образы словно проходит непрерывный, в недрах земли таящийся поток нравственного благородства и величия, который в своем течении становится все чище и прозрачнее, и здесь мы стоим — правда, со стыдливой сдержанностью — перед внутренним процессом в душе самого Вагнера. У какого художника найдешь что-либо подобное в столь грандиозной форме? Шиллеровские образы, начиная от «Разбойников” и кончая Валленштейном и Теллем, совершают такой же путь облагорожения и так же говорят нечто о развитии их творца, но у Вагнера масштаб больше, путь длиннее. Все принимает участие в этом очищении, и его выражением служит не только миф, но и музыка. В «Кольце Нибелунгов” я нахожу самую нравственную музыку, какую только я знаю, например, там, где Зигфрид будит Брунгильду; здесь Вагнер достигает такого величия и святости настроения, что мы вспоминаем о сверкающих ледяных и снежных альпийских вершинах — столь чистой, уединенной, недосягаемой, безмятежной, облитой светом любви является здесь природа; все тучи и непогоды, и даже все возвышенное лежит ниже ее. Взирая отсюда на Тангейзера и Скитальца, мы начинаем понимать, как сложился Вагнер-человек, как он начал мрачно и беспокойно, как бурно искал он удовлетворения, как стремился он к могуществу, к опьяняющим наслаждениям, как часто бежал назад с отвращением и как он хотел сбросить с себя бремя, хотел забыться, отречься, отказаться. Поток прорывался то в ту, то в другую долину и проникал в самые мрачные ущелья. Во тьме этого почти подземного искания высоко над ним показалась звезда со скорбным мерцанием; он назвал ее, лишь только узнал, верностью, бескорыстной верностью! Почему же светила она ему яснее и чище всего, какую тайну всего его существа заключает в себе слово «верность”? Ведь на всем, над чем он размышлял и что творил, он запечатлел образ и проблему верности, в его произведениях — почти законченный цикл всевозможных видов верности, включая самые прекрасные и редко прозреваемые: верность брата сестре, друга — другу, слуги — господину, Елизаветы — Тангейзеру, Сенты — Скитальцу, Курвеналя и Марке — Тристану, Брунгильды — сокровенным желаниям Вотана. Это — изначальный опыт, познание, которое Вагнер черпает из личных переживаний и чтит как религиозную тайну. Его он выражает словом верность, его неустанно воплощает в бесчисленных образах и из глубокой благодарности наделяет всем прекрасным, чем сам обладает. Он познал, что невинная ясная сфера его существа из свободной бескорыстной любви осталась верна другой — темной, необузданной и тиранической.
Во взаимной связи обеих глубочайших сил, в их взаимной верности заключалась великая необходимость, благодаря которой он мог оставаться цельным и самим собой: но именно это было не в его власти, и он должен был заимствовать это у других, ибо он сознавал, что им постоянно овладевает искушение неверности с ее грозными для него опасностями. Здесь таится неисчерпаемый источник страданий всего развивающегося — неуверенность. Каждое из его влечений не знало меры, все жизнерадостные дарования боролись между собой и жаждали полного удовлетворения; и чем богаче они были, тем большее они вносили смятение, тем враждебнее было их столкновение. Случай и жизнь манили к могуществу, блеску, огненным наслаждениям; еще более мучила беспощадная необходимость жить во что бы то ни стало: всюду были западни и оковы. Как можно было сохранить здесь верность, остаться невредимым? Это сомнение овладевало им часто, и оно выражалось в той форме, в которой художник может проявлять свои сомнения, — в художественных образах. Елизавета может только страдать, молиться и умереть за Тангейзера, она спасает его, непостоянного и невоздержанного, своей верностью, но спасает не для этой жизни. Опасности и отчаяние подстерегают на жизненном пути всякого истинного художника, заброшенного в нашу современность. Многими путями он может достигнуть славы и могущества, не раз предлагают ему покой и довольство, как их понимает современный человек, но честный художник задыхается среди этих паров. Опасность заключалась в искушении и в борьбе с искушением, в отвращении к современному способу добывания радостей и чести, в ярости против самодовольства наших современников. Представьте себе Вагнера занимающим какую-нибудь должность — ему ведь приходилось служить капельмейстером в городских и придворных театрах; ощутите, как этот серьезнейший художник насильственно добивается серьезности в этих современных учреждениях, где все проникнуто легкомыслием и требует легкомыслия, как это удается ему в частностях, а в целом никогда не удается; им овладевает отвращение, он хочет бежать — но некуда; и он снова должен вернуться к цыганам и отщепенцам нашей культуры — здесь он свой человек. Выпутываясь из одного положения, он редко добивается лучшего и впадает в страшную нужду. Так Вагнер менял города, страны, товарищей, и едва понятно, как мог он вообще так долго терпеть такую среду и ее притязания. Над большей половиной его прошлой жизни нависла тяжелая туча. По-видимому, его надежды не простирались далее завтрашнего дня, — и если он не отчаивался, то у него не было и веры. Он чувствовал себя как странник, идущий ночью с тяжелой ношей, глубоко утомленный и все же возбужденный ночным бдением. Внезапная смерть являлась в его мечтах не ужасом, а манящим, пленительным призраком. Бремя, путь и ночь — все с плеч долой — это звучало обольстительно. Сто крат он бросался сызнова в жизнь с мимолетной надеждой и оставлял все призраки позади себя. Но в его действиях почти всегда было какое-то отсутствие меры — признак того, что он не глубоко и не крепко верил в эту надежду, а отуманивался ею. Противоречие между желаниями и обычной полувозможностью или невозможностью их осуществления жалило его, как терния. Раздражаемое постоянными лишениями, его воображение теряло меру, когда он внезапно избавлялся от нужды. Жизнь становилась все более запутанной, но тем отважнее и изобретательней был он, как драматург, в отыскании средств и выходов, хотя то были лишь драматические вспомогательные приемы, подмененные мотивы, которые обманывают на мгновение и для мгновения изобретены. Они всегда у него под рукой, но так же быстро и растрачиваются. Жизнь Вагнера, если близко смотреть на нее, вблизи и холодно, имеет — пользуясь здесь одной мыслью Шопенгауэра — очень много комического и даже грубо-комического. Как должно бы действовать подобное чувство, сознание грубой низменности в продолжении целого ряда лет на художника, который больше, чем кто иной, мог свободно дышать лишь в сфере возвышенного и сверхвозвышенного, — об этом стоит призадуматься тому, кто умеет думать.
В таких условиях, которые лишь при точнейшем описании могут вызвать должную степень сострадания, ужаса и удивления, развивается способность учиться, весьма необычайная даже для немцев, этого истинно учащегося народа; с этим новым увлечением выросла и новая опасность, гораздо большая, чем опасность беспочвенной, непостоянной жизни, влекомой во все стороны беспокойной мечтой. Из новичка, пытающего свои силы, Вагнер превратился во всестороннего мастера музыки и сцены, в отношении всех технических основ той или другой он стал изобретателем и творцом. Никто не будет оспаривать, что он дал высший образец искусства великой декламации. Но он достиг еще большего, и для этого более, чем кто-либо другой, он должен был трудиться над изучением и усвоением высшей культуры. И как он это делал! Радостно смотреть на это; все это прирастает к нему, врастает в него, и чем больше и труднее постройка, тем сильнее он напрягает тетиву своего упорядочивающего и властвующего мышления. И тем не менее редко кому был так труден доступ к наукам и искусствам, и часто он должен был импровизировать пути к ним. Обновитель простой драмы, разгадчик положения искусства в истинном человеческом обществе, поэтический истолкователь прошедших жизневоззрений, философ, историк, эстетик и критик, мастер слова, мифолог и мифотворец, — Вагнер впервые объял величественное и огромное древнее создание и запечатлел на нем руины своего духа. Какое обилие знаний он должен был собрать и сосредоточить, чтобы подняться на такую высоту! И однако эта масса не подавила его воли к действию, и никакая пленительная деталь не отвлекла его в сторону. Чтобы получить представление о его необыкновенной деятельности, возьмем для примера как великий контраст — Гёте. В своем знании и учении Гёте подобен разветвленной речной сети, которая, однако, уносит не всю свою силу в море, но теряет и рассеивает на своих путях и извилинах по меньшей мере столько же, сколько приносит с собой к устью. Правда, такое существо, как Гёте, содержит и дает больше радостного; на нем лежит печать чего-то кроткого и благородно расточительного, тогда как сила и бурность вагнеровского движения может испугать и отпугнуть. Пусть боится, кто хочет; мы же можем стать лишь отважнее при виде героя, который даже в отношении современной культуры «не научился бояться”.
Так же мало научился он искать успокоения в истории и философии, черпать из них то, что в них есть волшебно умиротворяющего и отклоняющего от действия. Ни творящий, ни борющийся художник не были отвлечены в нем учением и образованием от предуказанного им пути. Как только им овладевала творческая сила, история превращалась в его руках в мягкую глину. Тогда он сразу становится к ней в другие отношения, чем всякий ученый; так грек относился к своему мифу, когда он перерабатывал и создавал его, правда — с любовью и некоторым трепетным благоговением, но все же пользуясь верховным правом творца. И именно потому, что она была ему еще покорнее и послушнее, чем всякая греза, он мог влагать в отдельное событие типичность целых эпох и достигать этим путем правдивости изображения, недоступной историку. Где были так переданы в образах плоть и дух рыцарского средневековья, как это сделано в «Лоэнгрине”? И не будут ли говорить «Майстерзингеры” отдаленнейшим временам о германском духе, даже больше чем говорить, — не будут ли они самым зрелым плодом этого духа, который всегда стремится преобразовывать, а не разрушать и, несмотря на свое широкое довольство, не разучился испытывать благородную неудовлетворенность, влекущую к делу обновления?
Именно такого рода неудовлетворенность все снова и снова вызывали в Вагнере его занятия философией и историей. Они служили ему не только оружием для борьбы, но он чувствовал здесь прежде всего то одушевляющее веяние, которое несется с могил всех великих борцов, всех великих страдальцев и мыслителей. Ничто так не отличает нас от всей современности, как то употребление, которое мы делаем из истории и философии. На долю первой теперь, по обычному о ней представлению, выпала задача дать современному человеку, кряхтя и с трудом бегущему к своим целям, перевести дух, чтобы он хоть на мгновение мог почувствовать себя, так сказать, без хомута. Ту роль, которую сыграл одинокий Монтень в движениях реформационного духа своей проповедью внутреннего успокоения, мирного сосредоточения в себе и отдохновения, — а так понял его, без сомнения, лучший его читатель Шекспир, — играет теперь для современного духа история. Если немцы уже целое столетие занимаются преимущественно изучением истории, то это показывает, что в движении современного человечества она является задерживающей, тормозящей и успокаивающей силой, что некоторые, пожалуй, готовы вменять ей в заслугу. В общем же это опасный симптом, когда духовные искания народа направлены преимущественно на прошедшее, — это признак расслабления, вырождения и одряхления, делающих его добычею всех распространяющихся опасных недугов, в особенности же политической горячки. Такое состояние слабости, в противоположность реформационным и революционным движениям, являют собой наши ученые в истории современного духа; они не поставили себе высоко-гордой задачи, но обеспечили себе своеобразный род безмятежного счастья. Мимо них, но уж, конечно, не мимо самой истории, проходит путь каждого более свободного и мужественного человека. История таит в себе совершенно другие силы — и это чуют именно такие натуры, как Вагнер. Но для этого она должна быть продуктом более властной души, написана более серьезно и строго, а главное — без того оптимизма, с каким ее толкуют до сих пор, — словом, совершенно иначе, чем это делают немецкие ученые. На их произведениях лежит печать приукрашения, печать покорности и удовлетворенности, они готовы оправдать ход вещей. Хорошо еще, если кто-либо дает понять, что он доволен только потому, что могло бы быть и еще хуже. Большинство из них невольно верят, что все прекрасно, именно так, как было. Если бы история не была все еще скрытой христианской теодицеей, если бы она была изложена правдивее и с большим жаром сочувствия, то она меньше всего могла бы служить тем, чем она служит теперь: усыпляющим средством против всяких стремлений к разрушению и обновлению. В таком же положении находится и философия. Большинство людей хочет из нее извлечь поверхностное — весьма поверхностное — понимание вещей, чтобы затем приспособиться к ним. Даже ее благороднейшие представители так усердно подчеркивают ее умиротворяющее и утешающее влияние, что искатели покоя и ленивцы могут возомнить, что они ищут того же, что и философия. Мне, например, кажется, что самый главный вопрос для всякой философии является в том, насколько вещи обладают неизменными качествами и формами, чтоб затем, дав ответ на этот вопрос, с беззаветной храбростью отдаться совершенствованию той стороны мира, которая будет признана изменчивой. Этому учат на деле и истинные философы тем самым, что работают над совершенствованием весьма изменчивых воззрений людей и не прячут для себя своей мудрости; этому учат и истинные ученики истинной философии, которые, подобно Вагнеру, умеют извлекать из нее повышенную решимость и непреклонность воли, а отнюдь не наркотическое действие. Вагнер более всего философ там, где он дееспособен и героичен. Именно как философ Вагнер прошел безбоязненно не только через огонь различных философских систем, но и сквозь туман науки и учености и остался верен своему высшему "я", требовавшему от него полноты проявления его многоголосного существа и повелевавшему страдать и учиться, чтобы иметь возможность выполнить эту задачу.
Часть 4-6
История развития культуры со времени греков довольно коротка, если принимать во внимание собственно лишь действительно пройденный путь и оставить в стороне периоды застоя, регресса, колебаний и еле заметного движения вперед. Эллинизация мира и ее осуществление путем ориентализации эллинизма — эта двойная задача Александра Великого — все еще остается последним великим событием. Старый вопрос, можно ли вообще привить чужую культуру, остается проблемой, над которой мучаются еще в новейшее время. Ритмическая игра этих двух взаимодействующих факторов — вот что в сущности определяло до сих пор ход истории. Христианство, например, является частью восточной древности, которая и продумывается и осуществляется людьми с широкой основательностью. С прекращением его влияния опять усиливается власть эллинской культуры. Мы переживаем явления, столь странные для нас, что они остались бы необъяснимыми, как бы висящими в воздухе, если бы мы, удаляясь в глубь времен, не были в состоянии по аналогии связать их с греческими явлениями. Таким образом, между Кантом и элеатами, между Шопенгауэром и Эмпедоклом, между Эсхилом и Рихардом Вагнером оказывается такая близкая и родственная связь, что становится почти очевидным относительный характер всех понятий о времени: начинает казаться, что многие вещи стоят в связи друг с другом, а время лишь облако, застилающее перед нашими глазами эту взаимную связь. В особенности история точных знаний производит такое впечатление, как будто мы именно теперь весьма близко подошли к александрийско-греческому миру и маятник истории снова возвратился к той точке, откуда он начал свои колебания, — вернулся назад, в загадочную даль и глубь времен. Картина нашего современного мира ничуть не нова: знатоку истории должно все более казаться, будто он вновь узнает старые знакомые черты лица. Дух эллинской культуры в бесконечно-рассеянном виде почил на нашей современности: в то время, как различные силы приходят в столкновение и происходит обмен плодами современного знания и умения, снова замерцал в бледных очертаниях образ эллинизма, но еще отдаленный и бесплодный. Мир, достаточно ориентализированный, снова жаждет эллинизации. Кто хочет ему помочь в этом, должен обладать быстротой и окрыленной поступью, чтобы объединить самые разнообразные и отдаленные точки знания, самые различные сферы человеческого дарования, чтобы пройти необъятное поприще и завладеть им. Таким образом, необходим целый ряд анти-Александров, обладающих высшей силой — соединять и связывать, притягивать к себе отдаленные нити и предохранять ткань от разрушения. Задача заключается теперь не в том, чтобы подобно Александру разрубать Гордиев узел греческой культуры, концы которого развеялись по всем краям света, а в том, чтобы завязать его после того, как он уже был разрублен. В лице Вагнера я вижу такого анти-Александра. Все разрозненное, слабое и инертное он скрепляет и соединяет, он обладает, если позволено будет употребить медицинский термин, вяжущими свойствами. В этом отношении он является одной из крупнейших культурных сил. Искусство, религия, история народов — его сфера, здесь он властелин; и, однако, он является противоположностью полигистора — ума, исключительно собирающего и классифицирующего, ибо он перерабатывает в целое, одухотворяет собранный материал; он — упроститель мира. Такое представление не будет ошибочным, если мы сопоставим эту наиболее общую задачу, поставленную ему его гением, с тем ближайшим и более частным делом, которое непосредственно связано для нас теперь с именем Вагнера. От него ожидают реформы театра. Допустим, что она ему удастся. Какое же значение имело бы это для той высшей и более отдаленной задачи?
Да, реформа театра изменила бы и преобразовала бы современного человека. В нашей современной действительности одно настолько связано с другим, что если выдернуть хоть один гвоздь, — все здание может зашататься и упасть. И от всякой другой действительной реформы можно было бы ждать того же, что и от вагнеровской, хотя и может показаться, что мы здесь преувеличиваем ее значение. Нет никакой возможности достигнуть высшего и чистейшего действия сценического искусства, не обновляя тем самым всего: морали, государства, воспитания и общественной жизни. Любовь и справедливость, укрепляясь в одной области, в данном случае в пределах искусства, должны по закону внутренней необходимости распространяться и дальше и не могут вернуться в прежнее неподвижное зачаточное состояние. Уже для того чтобы понять, насколько отношение современного искусства к жизни служит только символом вырождения этой жизни, насколько наши театры являются позором для тех, кто их строит и посещает, нужно изменить свой взгляд на все и научиться смотреть на обыкновенное и повседневное как на нечто весьма необычное и запутанное. Удивительная запутанность суждений, плохо скрытое стремление к забавам и развлечению во что бы то ни стало, — ученые соображения, напускная серьезность, притворство артистов, делающих вид, что они серьезно относятся к своему искусству, грубая жажда наживы со стороны предпринимателей, пустота и бессодержательность общества, которое лишь постольку думает о народе, поскольку он ему полезен или опасен, и которое посещает театры и концерты, нисколько не думая при этом о каких-либо обязанностях, — все это вместе образует удушливую и пагубную атмосферу нашего современного искусства. Но если свыкнуться с этой атмосферой, подобно нашим образованным классам, то, пожалуй, придешь к мысли, что она необходима для твоего здоровья, и почувствуешь себя плохо, если по какой-либо принудительной необходимости очутишься на время вне ее. Единственный способ наглядно убедиться, насколько пошлы, и притом странно и изломанно пошлы, наши театральные учреждения, это — противопоставить им прошлую действительность греческого театра! Допустим, что мы ничего не знали бы о греках; в таком случае мы, быть может, были бы совершенно не в состоянии разобраться в окружающих нас обстоятельствах и возражения, вроде сделанных впервые в широком стиле Вагнером, показались бы нам мечтаниями людей, обретающихся в заоблачном мире. Могут возразить, что раз люди таковы, то и подобное искусство удовлетворяет и они его достойны, а другими они никогда и не были. Но они, без сомнения, были другими, и даже теперь можно встретить людей недовольных существовавшим до сего времени порядком, — доказательством этому служит факт предприятия в Байрейте. Здесь вы находите подготовленных и посвященных зрителей, подъем в людях, сознающих себя на вершине своего счастья, чувствующих, что в нем сосредоточено все их существо, и черпающих здесь силы для дальнейших и высших стремлений. Здесь вы находите преданную самоотверженность художников и прекраснейшее из всех зрелищ — победоносного творца произведения, представляющего собой совокупность целого ряда художественных подвигов. Не кажется ли волшебством подобное явление в наши дни? Не должны ли чувствовать себя преображенными и обновленными те, кто призван участвовать и созерцать это явление, чтобы в свою очередь преобразовывать и обновлять в других сферах жизни? Не обрели ли мы здесь пристань после блуждания по пустынной дали моря, не распростерлась ли здесь тишь над водами? Кто, вернувшись из царящей здесь глубины и уединенности настроения к плоской и низменной жизни, столь не похожей на виденное, не будет непрестанно вопрошать себя подобно Изольде: «Как сносила я это? Как еще снесу это?” И если он не в силах будет ревниво таить в себе свою радость и свое горе, то он отныне не пропустит случая засвидетельствовать о них делами. Где — спросит он — те люди, которые страдают от современного порядка вещей? Где наши естественные союзниками, заодно с которыми мы можем вступить в борьбу со все растущими и гнетущими нас захватами современной образованности? Ибо, пока у нас только один враг — пока только! Это — именно те «образованные”, для которых слово «Байрейт” означает одно из их позорнейших поражений. Они не содействовали делу, они яростно восставали против него, или, что еще действительнее, прикидывались глухими, что является теперь обычным оружием наиболее мудрых противников. Но именно благодаря тому, что они своей враждой и коварством не могли поколебать внутреннего существа Вагнера, не могли помешать его делу, мы узнали еще одно: они выдали свою слабость и то, что сопротивление теперешних властелинов уже не выдержит частых натисков. Наступила благоприятная минута для стремящихся к завоеваниям и победам, величайшие царства широко открыты; знак вопроса стоит при именах владельцев везде, где только есть речь о владельцах. Так, например, здание воспитания признано уже дряхлым и разваливающимся, и везде мы встречаем лиц, которые втихомолку уже покидают его. Если бы можно было тех, которые фактически уже теперь глубоко недовольны им, вызвать хоть раз на открытое возмущение и протест! Если бы можно было освободить их от их робкого недовольства! Я знаю, что если скинут со счетов всего нашего образовательного дела скромный вклад этих людей, то это было бы самым чувствительным кровопусканием для него и привело бы к его ослаблению. Среди ученых, например, остались бы верными старому режиму только зараженные политическим сумасбродством да всякого рода литературная братия. Этот отвратительный строй, опирающийся на сферы насилия и несправедливости, на государственную власть и общество и видящий свою выгоду в том, чтобы сделать их все более злыми и безпощадными, вне этой опоры является чем-то слабым и усталым. Достаточно отнестись к нему с подобающим презрением, чтобы он сам собой рухнул. Кто борется за справедливость и любовь между людьми, тот должен менее всего опасаться этого строя, ибо действительные враги предстанут перед ним лишь тогда, когда он окончит свой бой с их авангардом — современной культурой.
Для нас Байрейт имеет значение утренней молитвы в день битвы. Было бы высшей несправедливостью предполагать, что мы заботимся только об одном искусстве, предполагая, что оно может служить лекарственным средством и наркотиком против всех остальных бедствий. Трагическое художественное произведение, созданное в Байрейте, являет для нас именно образ борьбы единичных личностей со всем, что выступает против них под видом непреодолимой необходимости, — с властью, знаком, обычаями, договорами и целыми порядками вещей. Для отдельного человека нет прекраснейшей доли, как в борьбе за справедливость и любовь созреть для смерти и пожертвовать собой. Полный тайны взор трагедии, обращенный на нас, — не ослабляющая и не сковывающая наши члены чара. Правда, она требует от нас покоя, пока ее взор устремлен на нас; ибо искусство существует не для самой борьбы, но для тех минут отдыха в начале и среди ее, для тех минут, когда, оглядываясь назад и исполняясь предчувствия, мы постигаем символическое, когда вместе с чувством легкой усталости приближается освежающий сон. Приходит день и с ним битва. Священные тени разлетаются, и искусство снова далеко от нас, но его утешение почиет над человеком от предутреннего часа. Отдельный человек постоянно наталкивается на свою личную неудовлетворительность, свое бессилие и несовершенство; откуда ему взять мужества в борьбе, если он не посвящен заранее в нечто сверхличное? Величайшие страдания отдельной личности: отсутствие общности знания у людей, неопределенность конечных выводов, неравномерность способностей — все это порождает потребность в искусстве. Нельзя быть счастливым, пока вокруг все страдает и готовит себе страдания, нельзя быть нравственным, пока ход человеческих вещей обусловливается насилием, обманом и несправедливостью. Нельзя быть даже мудрым, пока все человечество не будет соревноваться в искании мудрости и не введет единичную личность разумнейшим путем в сферу жизни и знания. Как можно было бы выносить это троякое чувство неудовлетворительности, если бы не было возможности усмотреть в самой борьбе, в стремлении и гибели нечто возвышенное и значительное и научиться из трагедии находит радость в ритме великой страсти и в жертве ее. Искусство, конечно, не учит и не воспитывает к немедленной деятельности; в этом смысле художник — и не воспитатель и не советник, объекты стремлений трагических героев не суть цели, сами по себе достойные преследования. Пока мы находимся во власти искусства, оценка вещей изменяется, как это бывает и во сне; то, что нам кажется настолько достойным стремлений, что мы одобряем героя, предпочитающего смерть измене своей цели, в реальной жизни редко имеет ту же цену и заслуживает той же затраты сил; поэтому искусство и есть деятельность отдыхающего. Борьба, изображаемая им, представляет собою упрощение действительной жизненной борьбы, его проблемы представляют сокращение бесконечно запутанного счета человеческой деятельности и воли. Но именно в том-то и заключается величие и необходимость искусства, что оно дает иллюзию упрощенного мира, сокращенного решения загадки жизни. Никто из страдающих от жизни не может обойтись без этой иллюзии, как никто не может обойтись без сна. Чем труднее познать законы жизни, тем пламеннее стремимся мы к иллюзии такого упрощения, хотя бы на миг, тем сильнее чувствуется напряженная рознь между всеобщим познанием вещей и духовно-нравственной силой отдельной личности. Для того, чтобы лук не надломился, нам дано искусство.
Отдельная личность должна быть посвящена в нечто сверхличное — этого требует трагедия. Она должна преодолеть ужас тоски, навеваемой индивиду смертью и временем, ибо в одно кратчайшее мгновение, в пределах одного атома ее жизненного пути может совершиться нечто святое, что с избытком вознаградит ее за всю борьбу и все бедствия, — это и называется обладать трагическим умонастроением. И если всему человечеству суждено когда-нибудь погибнуть — а кто может в этом сомневаться, — то перед ним стоит как цель эта высшая задача всех грядущих времен — так срастись в едином и общем, чтобы как одно целое пойти навстречу предстоящей гибели с трагическим умонастроением. Эта высшая задача несет в себе залог всего грядущего благородства человечества; окончательный отказ от нее явился бы самым печальным зрелищем, какое только может представить себе друг человечества. Так я это ощущаю! Есть только одна надежда и одна порука за будущность человечества: она лежит в том, чтобы трагическое умонастроение не омертвело в нем. По земле должен бы пронестись небывалый вопль ужаса, если бы люди когда-либо совершенно утратили его, и наоборот, нет более воодушевляющей радости, как знать то, что мы знаем, а именно, что трагическая мысль опять возродилась к жизни. Ибо это — радость вполне сверхличная и всеобщая, она — ликование человечества, увидавшего залог будущей связи и движения вперед всего человеческого.
Вагнер направил на настоящую и прошлую жизнь яркий луч познания, достаточно сильный, чтобы пролить свет на непривычные нам дали; поэтому он и является упростителем мира, ибо в том и заключается упрощение мира, что взор познающего снова овладевает ужасающей сложностью и беспредельностью кажущегося хаоса и сливает воедино то, что раньше было несовместимым и разобщенным. Вагнеру удалось это, благодаря тому, что он открыл отношение между двумя явлениями, которые казались отчужденными друг от друга и замкнутыми как бы в двух сферах: между музыкой и жизнью, а также между музыкой и драмой. Не то, чтобы он изобрел или создал эти отношения: они налицо и лежат, так сказать, на пути всякого. Великая проблема в этом отношении подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока наконец один не поднимет его. Почему — спрашивает себя Вагнер — в жизни современных людей именно такое искусство, как музыка, проявилось с необычайной силой? Видеть в этом проблему еще не значит низко оценивать нашу жизнь. Нет, если взвесить все великие силы, присущие этой жизни, и при этом вызвать из глубины своей души образ существования, полного стремлений и борьбы за сознательную свободу и независимость мысли, тогда только самое присутствие музыки в этом мире покажется загадочным. И тогда, пожалуй, скажешь: такая эпоха не могла породить музыки! Но чему тогда приписать ее появление? Случаю? Конечно, единичный великий художник мог бы появиться и случайно. Но появление целого ряда великих художников, как мы это видим в новейшей истории музыки и как это было в прошлом лишь однажды — у греков, убеждает нас, что здесь господствует не случай, а необходимость. Эта необходимость и есть проблема, на которую Вагнер дает нам ответ.
Он первый пришел к сознанию того бедственного состояния, которое царит теперь везде, где есть народы, связанные цивилизацией. Всюду замечается заболевание речи, и над всем человеческим развитием тяготеет гнет этой ужасной болезни. Язык постоянно принужден был восходить на последние ступени для него достижимого, все реже служа выражению сильных движений чувства, которые он вначале мог передавать во всей их простоте; он стремился охватить мир мысли, т. е. то, что наиболее далеко отстоит от мира чувств. Но, благодаря своему чрезмерному росту, его силы истощились в непродолжительный период новейшей цивилизации. Таким образом он не в состоянии больше выполнять теперь своего единственного назначения — служить средством общения между страждущими на почве простейших жизненных нужд. Человек не может более при помощи языка сообщить о своей нужде, и, следовательно, не может действительно выразить себя. При этом смутно сознаваемом состоянии язык сделался повсюду какой-то независимой силой, которая как бы рукой призрака хватает людей и насильно тащит их туда, куда они собственно не хотят идти. Как только они пытаются столковаться и объединиться для общего дела, ими овладевает безумие всеобщих понятий и даже просто словесных звуков; и, вследствие этой неспособности выразить себя, творения их коллективного духа носят на себе печать взаимного непонимания, отвечая не их действительным нуждам, а только бессодержательности поработивших их слов и понятий. Таким образом к прочим страданиям человечества присоединяются еще страдания условности, то есть согласованности в словах и поступках при несогласованности в чувствах. Как в период падения всякого искусства наступает момент, когда его болезненно разрастающиеся средства и формы начинают тиранически подавлять юные души художников и обращают их в своих рабов, точно так же теперь, при постепенном падении языка, мы становимся рабами слова. Под гнетом этого рабства никто не в состоянии более проявить себя таким, каков он есть, и говорить наивно, и только немногие вообще в силах сохранить свою индивидуальность в борьбе с образованием, которое видит залог своего успеха не в том, чтобы творчески идти навстречу определенным чувствам и потребностям, а в том, чтобы опутывать личность сетью «ясных понятий” и научать ее правильно мыслить: как будто имеет какую-либо цену — сделать человека правильно мыслящим и умозаключающим существом, если не удалось сделать его предварительно существом правильно чувствующим. Если теперь в среде столь тяжело пораженного человечества раздается музыка наших немецких мастеров, то что собственно выражается в этих звуках? Да не что иное как верное чувство, — враждебное всему условному, всякой искусственной отчужденности и всякому непониманию человека человеком. Эта музыка есть возврат к природе, и вместе с тем очищение и преображение природы; ибо в душе наиболее любящих людей пробудилась потребность этого возврата и в их искусстве звучит природа, претворенная в любовь.
Это мы можем принять, как первый ответ Вагнера на вопрос о том, какое значение имеет музыка в наше время; но у него есть еще и второй ответ. Отношение музыки к жизни не есть только отношение одного вида речи к другому — оно есть также отношение совершенного мира звуков к миру образов в его целом. Как зрительный образ, существование современного человека при сравнении с прежними явлениями жизни представляет несказанную бедность и скудость, несмотря на несказанную пестроту, которая может обрадовать только поверхностный взор. Стоит только присмотреться попристальнее и разложить впечатление от этой бурно-подвижной игры красок. Не похожа ли она в целом на сверкание и переливы бесчисленного множества камешков и осколков, заимствованных у прежних культур? Не есть ли здесь все неподходящая роскошь, подражательная претенциозная внешность? Не одежда ли это из пестрых лоскутов для нагого и зябнущего? Не напускная ли это пляска веселости у страдальца? Не гримаса ли это гордого довольства, скрывающая глубокую рану? И при всем этом — прикрытые и таящиеся под быстрым движением и вихрем — серое бессилие, гложущее недовольство, трудолюбивая скука, позорное убожество! Явление современного человека свелось к одной видимости. В том, что он теперь представляет, он не только не виден, а скорее скрыт; и остаток изобретательного искусства, сохранившийся у некоторых народов, например у французов и итальянцев, весь тратится на эту игру в прятки. Всюду, где теперь требуют «формы”, в обществе, разговоре, в литературном стиле, в сношениях между государствами, невольно понимают под этим угодливую внешность, в противоположность истинному понятию формы, как необходимого воплощения, не имеющего ничего общего с «угодным” и «неугодным”, именно потому, что оно необходимо, а не произвольно. Но даже там, где среди цивилизованных народов теперь отсутствует определенное требование формы, мы все же не встретим этого необходимого воплощения; и только в своем стремлении к угодливой внешности эти народы не так счастливы, хотя по меньшей мере столь же усердны. Насколько угодлива всюду внешность, и почему каждому должны нравиться усилия современного человека усвоить себе хоть некоторую внешнюю форму, это чувствует каждый в той мере, в какой он сам есть современный человек. «Только рабы на галерах, — говорит Тассо, — знают друг друга, мы же учтиво обманываемся в других, чтобы они в свою очередь обманывались в нас”.
И вот в этом мире форм и преднамеренной отчужденности появляются души, исполненные музыки. — Ради чего? Они движутся в великом свободном ритме, проникнуты благородной честностью и сверхличной страстью, они пылают мощно-спокойным пламенем музыки, которое из неисчерпаемой глубины пробивается в них к свету — и все это ради чего?
Через посредство этих душ музыка призывает свою равноправную сестру — гимнастику, как свое необходимое воплощение в царстве видимого. В поисках и томлении по ней она становится судьей над изолгавшимся призрачным видимым миром современности. Вот второй ответ Вагнера на вопрос о том, какое значение имеет музыка в наше время. Помогите мне — взывает он ко всем, умеющим слышать, — помогите мне открыть ту культуру, которую возвещает моя музыка, как вновь обретенный язык истинного чувства; призадумайтесь над тем, что душа музыки стремится теперь облечься в плоть, что она через вас всех ищет свой путь к видимости в движении, действии, учреждениях и нравах. Есть люди, которым ясен этот призыв, и их число все возрастает. Этим людям впервые вновь стало понятным, что значит основать государство на музыке: древние греки не только понимали это, но и требовали от себя. Эти понимающие люди произнесут такой же окончательный приговор над современным государством, какой уже большинство людей произнесло над церковью. Средство к достижению столь новой, но не такой уже неслыханной цели лежит в сознании постыднейших недостатков нашего воспитания и настоящей причины его вывести нас из варварского состояния: ему недостает движущей и созидающей души музыки: напротив, его требования и учреждения возникли в такое время, когда еще не родилась эта музыка, на которую мы теперь возлагаем столь многозначительные надежды. Наше воспитание — самое отсталое явление современной жизни — и отсталое именно по отношению к единственной новой воспитательной силе, дающей людям настоящего преимущество перед людьми прошлых веков — или давшей бы его, если бы они отказались вперед вести свою бессознательную жизнь под бичом минуты! Так как до сих пор они только гнали от себя душу музыки, то они не могли предугадать значения гимнастики в греческом и вагнеровском смысле этого слова, и в этом основание, почему их пластические художники обречены на безнадежность впредь до тех пор, пока музыка не станет их путеводительницей в новый мир зрительных образов. Пусть появляется сколько угодно талантов, они придут или слишком поздно, или слишком рано, и во всяком случае не вовремя, ибо они не нужны и бездейственны; ведь даже совершенные и высшие образы прежних времен, служащие прототипами для современных художников, не нужны, почти утратили свое действие и не оказывают почти никакой помощи в работе. Если в их внутреннем созерцании не возникает никаких новых образов и они оглядываются только на старое, — то и служат они истории, а не жизни, и еще при жизни становятся мертвецами. Но кто теперь чувствует в себе действительную, плодотворную жизнь — что в наше время означает: музыку, — найдет ли тот в вымученных образах, формах и стилях, окружающих его, что-либо, пробуждающее надежды на дальнейшее? Он выше подобной суетности; он так же мало надеется найти чудеса пластического творчества вне своего идеального мира звуков, как не ждет от наших отживших и слинявших языков появления великих творцов слова. Он охотнее через силу направит свой глубоко неудовлетворенный взор на нашу современность, чем станет внимать пустым утешениям. Пусть лучше желчь и ненависть наполняют его сердце, если оно недостаточно нежно для сострадания! Лучше злоба и презрение, чем обманчивое самообольщение и тихое опьянение, которому предаются наши «друзья искусства”. Но если даже он способен на что-нибудь большее, чем отрицание и насмешку, если он умеет любить, сострадать и участвовать в творчестве, он и тогда должен прежде всего отрицать, чтобы тем проложить сначала дорогу своей готовой на помощь душе. Для того, чтобы музыка могла в будущем благоговейно настраивать сердца многих людей и внушать им свои высшие намерения, это столь священное искусство должно перестать служить предметом увеселения и услаждения. Нужно изгнать именно «друга искусства” — эту опору наших художественных увеселений, театров, музеев, концертных обществ. Благосклонность, с которой государство встречало все его желания, нужно обратить в несочувствие; общественное мнение, особенно ценившее создание такой дружбы с искусством, должно уступить место более правильному пониманию. А пока что, даже отъявленный враг искусства может сойти для нас за действительного и полезного союзника, так как то, против чего он ведет борьбу, есть искусство, как его понимает «друг искусства”: ведь другого — он не знает! Пусть он продолжает укорять этого друга искусства за безумные траты денег на постройку его театров и общественных памятников, на приглашение его «знаменитых” певцов и актеров, на содержание его совершенно бесплодных художественных школ и картинных галлерей, не говоря уже о бесцельной затрате в каждой семье сил, времени и денег на воспитание мнимого «интереса к искусству”. Здесь нет ни голода, ни насыщения, — а только бледная игра во что-то, похожее на то и на другое, изобретенная ради тщеславного желания выставить себя на показ или ввести людей в заблуждение, а то и хуже: когда на искусство смотрят сравнительно серьезно, то от него требуют, чтобы оно порождало известного рода голод и потребность, и видят его задачу как раз в этом искусственно созданном возбуждении. Как бы боясь погибнуть от отвращения к себе и своей тупости, люди вызывают всех злых демонов, чтобы они преследовали их, как охотники свою добычу. Томятся по страданию, гневу, ненависти, возбуждению, жаждут внезапного испуга, напряжения, от которого дыхание останавливается в груди, призывают художника, как заклинателя этой охоты духов. Искусство в душевном обиходе наших образованных людей в настоящее время — или совершенно лживая, или позорная, унизительная потребность, оно для них — или ничто, или нечто дурное. Лучший и более редкий художник как бы охвачен дурманящим сновидением, мешающим ему видеть все это, и повторяет нетвердым и неуверенным голосом сказочно-прекрасные слова, которые, мнится, долетают к нему из какой-то дали, но долетают неясные и непонятные. Напротив, художник новейшего пошиба, в полном презрении к мечтательным поискам и речам своего более благородного сотоварища, шествует и ведет за собой на привязи всю лающую свору страстей и мерзостей, чтобы по первому требованию спустить их на современных людей. Последние же предпочитают быть затравленными, израненными и истерзанными, чем быть вынужденными жить в тиши с самими собой. С самими собой! Эта мысль потрясает современные души, это их страх и грозящий им призрак.
Когда я в многолюдных городах вижу эти тысячи людей, проходящих с тупым и суетливым выражением лица, я твержу себе: им тяжело на душе. Но всем им искусство служит только для того, чтобы на душе стало еще хуже, еще тупее и бессмысленнее, еще тревожнее и похотливее. Ибо неверное чувство неотступно давит и мучит, не дает им признаться самим себе в своей духовной нищете. Хотят ли они что-нибудь сказать, условность шепчет им на ухо что-либо, отчего они забывают, что собственно хотели высказать; желают ли они объясниться друг с другом, их разум парализуется словно волшебным заклятьем, и они называю счастьем свое несчастье, да еще старательно объединяются на пагубу себе. Так они окончательно падают, превращаясь в безвольных рабов ложного чувcтва.
Я покажу только на двух примерах, насколько извращено чувство в наше время и насколько чуждо современности сознание этой извращенности. Некогда с благородным пренебрежением смотрели на людей, занимающихся денежными операциями, хотя и нуждались в них. Признавали, что во всяком обществе неизбежны и грязные стороны. Теперь же они стали властвующей силой в душе современного человечества, наиболее привлекающей к себе стороной его. Некогда более всего остерегались придавать слишком серьезное значение дню и минуте и рекомендовали nil admirari и заботу о вечных вопросах; теперь же в современной душе осталось только одно серьезное отношение — к известиям, которые приносит газета или телеграф. Использовать мгновение и для его использования как можно скорее составить себе о нем надлежащее суждение! Можно подумать, что у современного человека осталась только одна добродетель — присутствие духа. К сожалению, на самом деле, это скорее везде присутствие грязной ненасытной жадности и всюду поспевающего любопытства. Существует ли вообще теперь какой-либо дух — это мы предоставляем исследовать будущим судьям, которые некогда займутся расценкой современных людей. Но уже теперь пошлость нашего века очевидна, ибо он чтит именно то, что презирали прежние, более благородные века. Если же он присвоил себе все драгоценные приобретения былой мудрости и искусства и щеголяет в этом богатейшем из одеяний, то он проявляет при этом ужасающее сознание своей пошлости, пользуясь этой одеждой не для того, чтобы согреться, а только чтобы обмануть других в отношении себя. Потребность притворяться и скрываться представляется ему более настоятельной, чем спасение от стужи. Так ученые и философы пользуются индийской и греческой мудростью не для того, чтобы самим стать мудрее и спокойнее: их работа направлена на одно — доставить современности обманчивую славу мудрости. Исследователи животного царства стараются представить зверские взрывы насилия, хитрости и жажды мести в современных взаимоотношениях государств и людей, как неизменные законы природы. Историки с боязливым старанием пытаются доказать положение, что каждая эпоха имеет свое право и свои условия, дабы, таким образом, уже заранее подготовить для будущего суда, ожидающего наше время, основную идею защиты. Учение о государстве, народе, хозяйстве, торговле и праве — все носит теперь этот подготовительно-апологетический характер. По-видимому, вся сила деятельных умов, не успевшая еще израсходоваться на движение громадного механизма наживы и власти, направлена исключительно на то, чтобы защитить и оправдать современность.
Перед каким обвинителем? — с недоумением спрашиваешь себя.
Перед собственной дурной совестью.
Часть 7-8
Иначе и быть не может: наблюдатель, имеющий перед собой такую натуру, как Вагнер, невольно от времени до времени оглядывается на самого себя, на свою ничтожность и слабость, и спрашивает себя: что мне она? при чем тут собственно ты? — Он, вероятно, не найдет ответа на этот вопрос, и в недоумении и молчаливом смущении беспомощно остановится пред своим собственным существом. Пусть он удовлетворится тем, что ему дано было пережить, пусть ответом на те вопросы ему послужит именно это чувство отчужденности от самого себя. Ибо это чувство и приобщает его к самому могучему проявлению духа Вагнера, к средоточию его силы, к демонической отчуждаемости и самоотречению его природы, которая сообщается другим точно так же, как и сама захватывает все другие существа и в одарении и приятии обнаруживает свое величие. Наблюдатель, как бы подчиняясь щедрой и богатой натуре Вагнера, тем самым приобщается ее мощи и становится как бы через него могущественным против него. И всякий, кто внимательно вдумается в себя, поймет, что для созерцания необходимо таинственное соперничество, свойственное всякому созерцанию чего-либо вне себя. Если его искусство заставляет нас пережить все то, что испытывает душа в своих странствованиях, вступая в общение с другими душами, принимая участие в их судьбах, — душа, научающаяся смотреть на мир тысячью глаз, — то из этой отчужденности и отдаленности от художника мы получаем возможность теперь увидать и его самого, пережив его в себе. Мы тогда определенно сознаем, что весь мир видимого в Вагнере углубляется в мир звуков, делается чем-то внутренним и ищет свою потерянную душу; равным образом в Вагнере все слышимое в мире стремится стать также и явлением для очей, выйти и подняться к свету, как бы воплотиться. Его искусство непрестанно ведет его по двойному пути, из мира игры звуков в загадочно родственный мир игры-зрелища и обратно. Он постоянно принужден — а вместе с ним и зритель — переводить видимое движение в душу, возвращая его к первоисточнику, и вновь затем созерцать сокровеннейшую ткань души в зрительном явлении, облекая самое скрытое в призрачное тело жизни. В этом и состоит сущность дифирамбического драматурга, если взять это понятие во всей его полноте, обнимающей и актера, и поэта, и музыканта; значение этого понятия может быть с полной необходимостью установлено нами на примере единственного совершенного дифирамбического драматурга, предшествовавшего Вагнеру — Эсхила и его эллинских сотоварищей по искусству. Если были попытки объяснять величайшие примеры развития из внутренних препятствий и недочетов, если, например, для Гёте поэзия была чем-то вроде исхода для неудавшегося живописца, если о шиллеровских драмах можно говорить как о переложенном в стихи красноречии народного оратора; если Вагнер сам пытается объяснить высокое развитие музыки немцев, между прочим, тем, что они за отсутствием соблазна прирожденного мелодического дарования принуждены были отнестись к музыке с такой же глубокой серьезностью, с какой их реформаторы отнеслись к христианству — если подобным же образом мы пожелали бы поставить развитие Вагнера в связь с каким-либо внутренним препятствием, то за ним следовало бы признать и значительное актерское дарование, которое, не считая возможным идти обычными тривиальными путями, нашло для себя исход и спасение в привлечении всех отраслей искусства к одному великому сценическому откровению. Но в такой же степени можно допустить другое: что могучая музыкальная натура, придя в отчаяние от сознания, что ей приходится обращаться с речью к полумузыкантам и вовсе не музыкантам, насильственно вторглась в область других искусств, чтобы таким образом передать себя, наконец, со стократной ясностью и добиться понимания, — истинно всенародного понимания в среде народа. Как бы мы ни представляли себе развитие этого первобытного драматурга, он в своей зрелости и законченности является созданием, свободным от внутренних препятствий и пробелов. Он становится истинно свободным художником, который не может не охватить своей мыслью все отрасли искусств, посредником и примирителем между разрозненными на первый взгляд сферами, восстановителем объединенности и цельности художественного дарования, которая не может быть разгадана и раскрыта, а лишь показана на деле. Тот, перед кем внезапно совершилось это деяние, будет порабощен им, как страшным таинственным волшебством. Он очутится лицом к лицу с силою, уничтожающей все доводы разума, и все, чем он прежде жил, покажется ему непонятным и неразумным. Вне себя, мы плывем по какой-то загадочной огненной стихии, перестаем понимать самих себя, узнавать то, что было нам так близко. Мерило ускользает из наших рук, все закономерное, застывшее приходит в движение, все предметы сверкают в новых красках, говорят с нами новыми письменами. Надо быть Платоном, чтобы при этом смешении могучего восторга и страха отважиться, как он, на такое обращенье к драматургу: «Если в нашу общину явится человек, который, благодаря своей мудрости, обладает способностью стать всем и подражать всем вещам, мы почтим его как святого и достойного удивления, мы прольем елей на его голову, увенчаем его, но в то же время попытаемся убедить его уйти в другую общину”. Член Платоновской общины мог и должен был заставить себя сказать нечто подобное; мы же, живущие в совершенно ином общественном союзе, томимся и жаждем пришествия этого чародея — хотя и боимся его — именно дабы наш общественный союз, и злой разум и мощь, воплощением которых он является, хоть раз нашли свое отрицание. Такое состояние человечества, его общественного строя, нравов, образа жизни и общего уклада, при котором не чувствовалось бы нужды в подражающем художнике, быть может не вполне невозможно, но это «быть может” более чем смело и пожалуй равносильно «быть не может”. Говорить о чем-либо подобном позволительно лишь тому, кто мог бы, предвосхищая, создать и прочувствовать высшее мгновенье всего грядущего, а затем немедленно ослепнуть, подобно Фаусту: кто бы мог это и имел бы на это право — ибо мы не имеем права даже на эту слепоту — тогда как, например, Платон имел право быть слепым по отношению ко всей эллинской реальности после того единственного взгляда, который он бросил на идеально-эллинское. Мы, прочие, быть может, потому и нуждаемся в искусстве, что у нас открылись глаза на лики действительности, и нам нужен именно универсальный драматург, чтоб он хоть на несколько часов освободил нас от того страшного разлада, который прозревший человек испытывает теперь между собой и обременяющими его задачами. При его помощи мы восходим на высшие ступени ощущения, и чудится нам, что мы там снова пребываем среди вольной природы и в царстве свободы. Оттуда мы видим, как бы в огромном мареве, себя и себе подобных в борьбе, победе и гибели, как нечто возвышенное и значительное, нас влекут к себе ритм страсти и жертва ее, в каждом могучем шаге героя мы слышим глухой отголосок смерти, и все близости начинаем находить высшую прелесть жизни. Так, переродившись в трагических людей, мы с необычным настроением спокойствия возвращаемся к жизни, возвращаемся с новым чувством уверенности, словно мы нашли обратный путь от великих опасностей, уклонений и восторгов в свой тесный, родной круг, где теперь можно зажить с более высоким пониманием добра, и во всяком случае, более благородной жизнью. Ибо все, что здесь кажется нам важным, необходимым и направленным к цели, при сравнении с тем путем, который мы прошли, хотя и в сновидении, представляется нам только странно разрозненными отрывками тех целостных переживаний, сознание которых наполнило нас страхом. Нам угрожает даже опасность, и мы можем впасть в искушение слишком легко отнестись к жизни, именно потому, что мы с такой необычной серьезностью отнеслись к ней в искусстве, говоря словами Вагнера, рисующего свою собственную жизненную судьбу. Ибо если для нас, не созидающих, а только воспринимающих подобное искусство дифирамбического драматурга, его сновидение кажется большей правдой, чем сама явь и действительность, то какова должна быть оценка этой противоположности художником!? Ведь чем является он среди этого навязчивого шума и назойливости дня, житейских нужд, общества, государства? Быть может, единственным бодрствующим, единственным правдиво и реально настроенным существом среди спящих, запутавшихся и измученных, среди всех этих грезящих и страждущих. Иногда он чувствует себя как бы охваченным долгой бессонницей, словно он всю свою, как день ясную, сознательную жизнь должен проводить среди сомнамбул и серьезно хлопочущих о чем-то привидений. Поэтому теперь все то, что другим кажется обычным, для него является странным, и ему хочется встретить это впечатление от окружающих его явлений надменной насмешкой. Но как своеобразно усложняется это чувство, когда к его ясности и дерзновенной гордыне присоединяется другое стремление — тоска по низинам, любовное желание земли, радости общения. Ибо, когда он подумает обо всем том, чего он, одинокий творец, лишен, у него появляется потребность, подобно Богу, сошедшему на землю, «вознести в огненных объятиях к небу” все слабое, человеческое, заблудшее, чтоб найти, наконец, любовь, а не поклонение и дойти до полного самоотречения в этой любви. Но именно предположенное нами скрещивание чувств есть действительное чудо, совершающееся в душе дифирамбического драматурга, и если где можно составить себе понятие о природе последнего — то именно здесь. Когда он переживает противоборство этих чувств, когда в нем сочетается холодно-гордая отчужденность и то изумление, которое он испытывает пред миром со страстным желанием приблизиться к нему с любовью — в такие моменты и возникает в нем процесс зачатия искусства. Взоры его, обращенные на землю и жизнь, становятся тогда подобными солнечным лучам, «влекущим к себе воды”, сгущающим туманы и собирающим грозовые тучи. Вещим ясновидением и в то же время самоотверженной любовью исполнен его взор, и всюду, где падает свет этого двойного сияния, природа со страшной быстротой стремится к освобождению, к разряжению своих сил, к откровению самых сокровенных своих тайн; и притом от стыда. Не будет одной лишь метафорой сказать, что его взгляд застиг врасплох природу, что он увидал ее нагой, — и вот она стыдливо ищет укрыться в своих противоположностях. Дотоле незримое, внутреннее ищет убежища в сфере зримого и становится явлением, дотоле лишь видимое скрывается в темном море звуков. Так природа, желая скрыть себя, раскрывает сущность своих контрастов. В бурно-ритмическом и все же легком танце, в восторженных движениях изначальный драматург говорит о том, что происходит теперь в нем и в природе. Дифирамб его движений выражает не только трепет познания и дерзость прозрения, но и любовное сближение, радость самоотречения. Упоенное слово подчиняется ритму; в сочетании со словом звучит мелодия. И эта мелодия мечет свои искры дальше — в царство образов и понятий. Проносится сновидение, и подобное, и чуждое образу природы и ее жениха; оно сгущается в человеческие формы, расширяется в законченную смену героически-дерзкой воли, блаженной гибели и отречения от воли. Так возникает трагедия, так обогащается жизнь прекраснейшей мудростью — мудростью трагической мысли, так, наконец, возникает среди смертных их величайший чародей и благодетель — дифирамбический драматург.
Собственно жизнь Вагнера, то есть постепенное раскрытие в нем дифирамбического драматурга, была в то же время его непрерывной борьбой с самим собой, поскольку он был не только дифирамбическим драматургом. Борьба с враждебным ему миром потому и была такой страшной и мучительной, что он слышал в самом себе голос этого «мира”, этого обольстительного врага, сам носил в себе могучего противоборствующего демона. Когда в нем заговорила господствующая идея его жизни, а именно, что театр может произвести несравненное действие, величайшее возможное для искусства действие, все его существо пришло в сильнейшее смятение. Этим еще не было дано ясного, определенного ответа на вопрос, что же теперь желать и делать. Мысль явилась ему вначале в образе обольстительницы, она была выражением темной личной воли, ненасытно алчущей власти и блеска. Влияние, ни с чем несравнимое влияние — но посредством чего? на кого? — это стало навязчивым вопросом, постоянной задачей его ума и сердца. Он хотел побеждать и покорять, как еще ни один из художников не покорял и, если возможно, одним ударом достигнуть той тиранической власти, к которой его так смутно влекло. Ревнивым, пытливым взглядом он измерял все, что имело успех, еще больше он присматривался к тем, на кого надо было оказать влияние. Волшебным оком драматурга, читающего в сердцах людей, как в знакомой книге, он проник и в зрителя и слушателя и, если при этом им овладевало зачастую беспокойство, он все же немедленно схватился за средства покорить зрителя и слушателя. Эти средства были у него под рукой. То, что оказывало сильное влияние на него самого, он и хотел и мог воспроизвести. На каждой ступени своего развития он воспринимал у своих прообразов только то, что он сам мог в свою очередь воспроизвести. Никогда он не сомневался, что ему удастся все, чего только захочет. В этом отношении он был, пожалуй, более высокого мнения о себе, чем Гёте, который говорил: «Мне всегда казалось, что все уже в моей власти; мне могли бы надеть корону, и я нашел бы, что так оно и должно быть”. Уменье Вагнера и его «вкус”, а равно и его намерения — все это во все времена так подходило одно к другому, как ключ к своему замку, и одновременно достигло величия и свободы, — но тогда это еще не было так. Какое ему было дело до бессильного, хотя и благородного, но все же эгоистически обособленного чувства того или другого литературно и эстетически образованного друга искусства, стоящего вдали от толпы. Но могучие душевные бури, поднимающиеся в толпе в отдельные высокие моменты драматического пения, это внезапное, овладевающее душами, благородное и насквозь бескорыстное упоение — все это было отзвуком его собственного опыта и чувства, и в такие минуты его охватывала пламенная надежда на высшее влияние и власть. В большой опере он, таким образом, увидел средство для выражения своих основных мыслей, к ней влекло его вожделение, на ее родину он устремил свой взор. Целый долгий период его жизни со всеми рискованными сменами его планов, работами, переменами местожительства, знакомствами, объясняется исключительно этим вожделением и теми внешними препятствиями, которые встречал этот нуждающийся, беспокойный, страстно-наивный немецкий художник на своем пути. Другой художник лучше его понимал, как завоевать власть на этом поприще. И теперь, когда мало-помалу раскрывается, каким искусным хитросплетением всякого рода влияний Мейербер подготовлял себе путь и достигал своих побед, и с какой тщательностью он взвешивал последовательность «эффектов” в самой опере, можно понять степень стыда и озлобления, охватившего Вагнера, когда ему открылись глаза на эти «художественные средства”, почти неизбежные для желающих сорвать успех у публики. Я сомневаюсь, чтобы история могла назвать другого великого художника, который бы начал свое дело с такого огромного заблуждения, и так необдуманно и чистосердечно отдался самой возмутительной форме искусства. Но то, как он это делал, имело свое величие, и результаты поэтому получились изумительно плодотворные. Он понял, в своем отчаянии от осознанной им ошибки, основы современных успехов, современную публику и всю современную ложь искусства. Он стал критиком «эффекта”, и в нем пробудилось предчувствие собственного просветления. С этой минуты дух музыки заговорил с ним, возвещая ему новые душевные чары. Он словно вышел на свет после долгой болезни и, едва доверяя своей руке и глазам, медленно пошел своей дорогой: и тогда для него явилось чудесным открытием сознание, что он все еще музыкант, все еще художник и что он только теперь и стал таковым.
На каждой ступени дальнейшего развития Вагнера обе основные силы его существа все теснее сплетаются; постепенно исчезает страх, который они испытывают друг к другу. Высшая сущность в нем уже не из милости оказывает услуги своему порывистому эемному брату она любит его и должна служить ему. Все нежное и чистое на вершине развития находит в конце концов свое выражение и в самой мощи. Необузданное влечение идет своим путем, как и раньше, но по иным стезям, туда, где властвует высшая сущность, а она в свою очередь с любовью нисходит на землю и во всем земном узнает свой символ. Если бы возможно было в подобной же форме говорить о последней цели и результатах этого развития и все же оставаться понятным, то нашлось бы, вероятно, и образное выражение для обозначения этой продолжительной промежуточной стадии развития, но я сомневаюсь в первом, и потому отказываюсь от второго. Эта промежуточная ступень в отличие от предыдущего и последующего периодов может быть исторически обозначена двумя словами: Вагнер становится революционером общества, Вагнер признает в лице народа-поэта единственного бывшего до настоящего времени художника. К тому и другому привела его основная его идея, которая после пережитого им глубокого отчаяния и раскаяния предстала перед ним в новом образе и могущественнее, чем когда-либо. Влияние, несравненное влияние при посредстве театра! Но на кого? Он содрогался при воспоминании о тех, на кого он хотел влиять до сих пор. Из собственного опыта он понял все позорное положение искусства и художников — он узнал бездушное, черствое общество, считающее себя добрым, но в сущности злое, причисляющее искусство и художника к свите своих рабов, необходимых ему для удовлетворения мнимых потребностей. Современное искусство — роскошь, он понял это: понял и то, что оно живет и падает вместе с правом общества, основанного на роскоши. Это общество, с жестокосердной разумностью воспользовавшееся своей силою, чтобы сделать бессильный класс — народ — все более покорным и униженным, убивало в народе все народное и вырабатывало из него современного «рабочего”. Оно же лишило народ всего великого, благородного, — всего того, что он, единый истинный художник, созидал для себя под гнетом настоятельной нужды и в чем он кротко изливал свою душу, его мифа, его напевов, его плясок, творческого богатства его речи, чтобы дистиллировать из всего этого усладительный напиток для себя, средство против истощения и скуки своего существования — современное искусство. Каким образом это общество возникло, как оно умело высасывать новые силы из противоположных ему на первый взгляд сфер мощи, как, например, оно сумело воспользоваться впавшим в лицемерие и половинчатость христианством, как защитою против народа для утверждения себя и своего достояния, как наука и ученые охотно подчинились этой рабской повинности — все это Вагнер проследил исторически, и в результате его наблюдений им овладело отвращение и бешеный гнев. Из сострадания к народу он стал революционером. С этой поры он возлюбил народ, тосковал по нем, как тосковал он по народному искусству, ибо — увы! — только в нем, исчезнувшем, едва чуемом, искусственно оттесненном народе он думал обрести единственного достойного зрителя и слушателя, которому была бы по плечу мощь того художественного произведения, о котором он мечтал. Так он стал задумываться над вопросом, как возникает народ и как он возрождается?
Он всегда находил только один ответ. Если бы множество людей страдало тем же, чем страдаю я, думал он, то это и был бы народ. И где одинаковые страдания порождают одинаковые стремления и желания, там будут искать и одинакового способа их удовлетворять, будут находить в этом удовлетворении одинаковое счастье. Оглядываясь на то, что ему самому приносило наибольшее утешение и ободряло его в его нужде, в чем он находил полнейший душевный отклик своему страданию, он с блаженной уверенностью сознавал, что этим для него были только миф и музыка. Миф, в котором он видел порождение и язык народной нужды, и музыка, происхождение которой было родственно мифу, но еще более загадочно. В оба эти элемента погружал он свою душу, чтобы исцелить ее, к ним он тяготел наиболее страстно. Из этого он имел право заключать, сколь родственна его нужда нужде народа в пору его возникновения и что народ вновь восстанет, если в нем будет много Вагнеров. В каком же положении находились миф и музыка в нашем современном обществе, поскольку они еще не сделались жертвой этого общества? Их постигла одинаковая участь, и это лишь подтверждает их таинственную связь. Миф глубоко пал и исказился, — превратившись в «сказку”, занимательную игру, радость детей и женщин выродившегося народа; его дивная, строго святая мужественная природа была утрачена. Музыка сохранилась еще у бедных, простых и одиноких. Немецкому музыканту не удалось занять благоприятное положение среди искусств, служивших роскоши. Он сам стал чудовищной, таинственной сказкой, полной трогательных звуков и предвещаний, беспомощным вопрошателем, каким-то завороженным существом, ждущим избавления. И художник слышал здесь ясно веление, обращенное к нему одному — вернуть мифу его мужественность, освободить музыку от завороживших ее чар и дать ей возможность заговорить. Он почувствовал, как освободился от оков его дар драматического творчества, как утвердилось его господство над еще неоткрытым промежуточным царством между мифом и музыкой. Свое новое художественное создание, в котором он соединил воедино все, что знал могучего, действенного, несущего блаженство, он поставил теперь пред людьми с великим, мучительно острым вопросом: «Где вы, страждущие тем же, чем страдаю я, и ждущие того же? Где та множественность, в которой я жажду увидеть народ? Я узнаю вас по тому, что у вас будет общее со мной счастье и общее утешение: по вашей радости я узнаю, в чем ваши страдания!” «Тангейзером” и «Лоэнгрином” задан был этот вопрос; он искал себе подобных, — одинокий жаждал множественности.
Но что ему пришлось испытать? Ни от кого он не услыхал ответа; никто не понял его вопроса. Не то, чтобы последовало молчание, — напротив, отвечали на тысячи вопросов, им не поставленных. О новых художественных произведениях без умолку трещали, словно они были созданы только для того, чтобы их заглушили слова. Среди немцев вспыхнула какая-то горячка эстетического писательства и болтовни. Измеряли, ощупывали художественные произведения и личность самого художника с бесстыдством, свойственным немецким ученым не менее, чем немецким журналистам. Своими писаниями Вагнер пытался облегчить понимание поставленного им вопроса. Новое смятение и жужжание! Композитор, который пишет и мыслит, показался всем какой-то невероятной диковиной. Стали кричать, что он — теоретик, желающий преобразовать искусство на основании каких-то отвлеченных умствований. Побить его каменьями! Вагнер был ошеломлен. Его вопрос остался непонятым, его страдания не встретили отклика, его произведения были обращены к глухим и слепым; народ, о котором он мечтал, оказался химерой. Он поколебался и остановился в нерешительности. Перед его взорами встала возможность полного крушения всего — но этой возможности он не испугался. Может быть, по ту сторону разрушения и запустения есть место для новой надежды, а может быть, и нет — но во всяком случае «ничто” лучше отвратительного «нечто”. Вскоре он стал политическим изгнанником и впал в нужду.
И только теперь, вместе с этим страшным поворотом в его внешней и внутренней судьбе, начинается период жизни великого человека, как золотым отблеском озаренный сиянием высшего мастерства! Теперь только гений дифирамбической драматургии сбрасывает с себя последнее покрывало! Он — одинок; время для него больше не имеет значения; он потерял надежду. Охватывающим мир взором он вновь измеряет глубь и на этот раз проникает до дна ее. Там видит он страданье, заложенное в основе вещей, и с этого времени, как бы отрешившись от самого себя, спокойнее несет свою долю страданий. Жажда высшей власти, это наследие прежних состояний, всецело переходит в художественное творчество. В своем творчестве он обращается теперь только к самому себе, а не к публике или народу, и полагает все силы на то, чтобы придать этому творчеству отчетливость и силу, достойные такого могучего диалога. Творчество предыдущего периода было еще несколько иным: в нем он еще принимал в соображение, хотя и с деликатностью и благородством, необходимость непосредственного действия. Ведь этим творчеством он хотел поставить вопрос, чтобы получить немедленный ответ на него. И как часто Вагнер хотел облегчить тем, кого он вопрошал, понимание: он шел навстречу им, снисходя к их неопытности, к их неуменью отвечать, и прибегал к старым формам и средствам выражения в искусстве там, где он имел основание опасаться, что его собственный язык не будет иметь требуемой убедительности и понятности, он пытался убедить, ставя вопрос на получуждом ему, но более знакомом его слушателям языке. Теперь уже ничто не побуждало его более к такому отношению; он хотел теперь только одного — столковаться с самим собою, мыслить сущность мира в событиях, философствовать в звуках. Все, что оставалось в нем преднамеренного, было направлено на последние вопросы о вещах. Кто достоин знать, что в нем совершалось тогда, о чем он вел сам с собою речь в священных тайниках своей души — а немногие достойны этого — тот пусть слушает, созерцает и переживает «Тристана и Изольду” — этот настоящий opus metaphysicum всего искусства — произведение, на котором покоится гаснущий взгляд умирающего, с его ненасытным, полным истомы стремлением к тайнам ночи и смерти, к бегству от жизни, которая, как нечто злое, обманчивое и разлучающее, резко выделяется в лучах таинственного, зловещего утра; к тому же это — драма, облеченная в самую суровую, строгую форму, покоряющая своей величавой простотой и этим соответствующая тайне, о которой говорит, — тайне смерти при живом теле, единства в раздвоенности. И все же есть нечто более удивительное, чем это произведение, это — сам художник, который вслед за тем мог создать в самое короткое время мировую картину, столь богатую многообразием красок, как «Мейстерзингеры из Нюрнберга”, — который, создавая оба эти произведения, как бы отдыхал и набирался сил, чтобы тем временем с размеренной спешностью возвести набросанное и начатое им четырехчастное исполинское здание, свое байрейтское творение искусства «Кольцо Нибелунгов” — плод двадцатилетнего размышления и творчества. Кого удивит соседство «Тристана” и «Мейстерзингеров”, тот не понял существенной черты в жизни и природе всех истинно великих немцев. Он не знает, на какой именно почве выросла оригинальная и единственная в своем роде немецкая веселость Лютера, Бетховена и Вагнера, совершенно непонятная другим народам и, по-видимому, утраченная даже современными немцами, — та сверкающая как золото перебродившая смесь простодушия, проникновенной любви, созерцательности и веселого лукавства, которую Вагнер, как драгоценнейший напиток, поднес всем, кто глубоко страдал от жизни и, как бы с улыбкой выздоравливающего, снова обращает к ней свои взоры. И по мере того, как он сам более примиренно смотрел на жизнь, реже обуреваемый гневом и отвращением, в любви и печали, скорее добровольно отказывался от власти, чем трепетно отступал перед ней; по мере того, как он в тиши вел вперед свое великое дело, прибавляя к партитуре партитуру, произошло нечто такое, что заставило его насторожиться. Явились друзья, возвестившие ему скрытую подземную тревогу многих душ. То далеко еще не был «народ”, подвигшийся и заявивший о себе, но, пожалуй, зародыш и первый жизненный источник воистину человеческого общества, имеющего сложиться в грядущие времена. Это пока было лишь порукой тому, что его великое дело когда-нибудь можно будет отдать под охрану и в руки верных людей, которые будут хранить для будущих поколений это чудное наследие и достойны стать его хранителями. Любовь друзей внесла в дни жизни Вагнера новые светлые краски и тепло. Он уже не был одинок в своей благородной заботе: до заката закончить свое дело и найти гостеприимный кров. И тут произошло событие, которое он мог истолковать лишь символически и которое имело для него значение нового утешения и счастливого предзнаменования. Его заставила пристальнее всмотреться великая война немцев, — тех самых немцев, которых он считал столь глубоко выродившимися и в такой мере отпавшими от возвышенного немецкого духа, изученного им с глубокой сознательностью и познанного в самом себе и других великих исторических немцах. Он увидал, что эти немцы в невероятно трудном положении проявляли две подлинные добродетели — бесхитростное мужество и осмотрительность; глубоко счастливый, он начал верить, что он еще, пожалуй, не последний немец и что со временем более могущественная сила, чем его самоотверженные, но немногочисленные друзья, станет в защиту его дела в те долгие дни, когда оно, как художественное творение будущего, будет выжидать предопределенного будущего. Может быть, эта вера и не могла надолго предохранить его от сомнений, в особенности, когда он начинал строить надежды на ближайшее будущее. Но так или иначе он испытал могучий толчок, напомнивший ему о неисполненном еще высоком долге.
Его дело не было бы готово и доведено до конца, если бы он оставил потомству лишь немые партитуры. Ему предстояло перед лицом всех показать и научить тому, что никто не мог разгадать без него, что было дано ему одному, — новому стилю передачи и исполнения его произведений, дать на примере то, чего не мог дать никто другой, и таким образом установить традицию стиля, записанную не значками на бумаге, а впечатлениями в человеческих душах. Это стало для него тем более серьезной обязанностью, что другие его произведения постигла тем временем, именно в отношении стиля их исполнения, самая нетерпимая и нелепейшая участь: их прославляли, ими восхищались и — их искажали, и никто, по-видимому, не возмущался этим. И как ни странно это может показаться, но это так: в то время, как он, проницательно оценивая своих современников, все более определенно отказывался от мысли иметь у них успех и от стремления к власти, явились и «успех” и «власть” по крайней мере весь мир твердил ему об этом. Не помогало и то, что он решительно и неоднократно старался выяснить, что все эти успехи суть полнейшее недоразумение и позорят его; люди так мало привыкли встречаться с художником, умеющим строго разбираться в характере производимого им действия, что даже его торжественнейшим протестам не давали веры. Когда ему стала ясна связь современных театральных порядков и театральных успехов с характером современного человека, он от всей души порвал с этим театром. Что ему мог дать эстетический энтузиазм и ликование возбужденной толпы? Его могло только озлоблять, когда он видел, как его произведения без всякого разбора попадали в зияющую пасть ненасытной скуки и жажды развлечений. Насколько поверхностным и неосмысленным являлось здесь всякое действие, насколько все здесь в сущности сводилось скорее к удовлетворению ненасытной жадности, чем к пропитанию голодного, об этом он прежде всего заключал из одного правильно повторяющегося явления. Все, даже сами исполнители, смотрели на его искусство как на всякую другую театральную музыку и обращались с ним по отвратительным рецептам оперного стиля; рубили и перекраивали его произведения при содействии образованных капельмейстеров, изготовляя из них именно оперы; а певцы полагали, что можно как следует передать их, только старательно вытравив из них сначала всю душу. В лучшем случае неумело и с боязливой неуклюжестью следовали предписаниям Вагнера, поручая, например, передачу ночного стечения народа на улицах Нюрнберга, указанного Вагнером во втором акте «Мейстерзингеров”, искусственно движущимся балетным танцорам и чистосердечно веря при этом, что действуют без всяких злых побочных целей. Самоотверженные попытки Вагнера делом и примером показать возможность хотя бы только корректного и неискаженного исполнения, и его старания ознакомить отдельных певцов с новым по существу стилем передачи всякий раз тонули в тине господствовавшего безмыслия и рутины. Они сверх того постоянно заставляли его соприкасаться с тем именно театром, который в основе своей был ему отвратителен. Ведь даже Гёте потерял всякую охоту присутствовать при исполнении своей «Ифигении”. «Я невыразимо страдаю, — пояснял он, — когда я принужден бороться с этими призраками, которые появляются на свете не такими, какими должны были бы быть”. «Успех” же его на этом опротивившем ему театре все более возрастал. Дело дошло до того, что большие театры почти исключительно жили за счет жирных доходов, доставляемых им искусством Вагнера, обезображенным на оперный лад. Даже некоторые друзья Вагнера были введены в заблуждение этой возрастающей страстью театральной публики, он должен был перенести худшее — этот великий страстотерпец — видеть своих друзей, опьяненных «успехами” и «победами” там, где исключительно возвышенная его мысль повергалась во прах и отрицалась. Казалось, что серьезный и положительный во многом народ именно в отношении к своему самому серьезному художнику не хотел отказаться от систематического легкомыслия, как бы изливая на него все, что было пошлого, бессмысленного, грубого и злого в немецком духе. Когда во время немецкой войны, по-видимому, взяло верх более широкое и свободное течение умов, Вагнер вспомнил о своем долге верности и попытался спасти хотя бы свое величайшее произведение от этих сомнительных успехов и оскорблений и выставить его на образец всем векам в его действительном ритме. Так пришел он к идее Байрейта. Под влиянием нового течения в умах он полагал возможным вызвать повышенное чувство долга в тех, кому он хотел доверить драгоценнейшее свое достояние. Из этого двоякого чувства долга возникло событие, которое своеобразным солнечным блеском озарило ближайшие и последние годы его жизни. Оно было создано для блага далекого, еще только возможного, но недоказуемого будущего; для современников и людей, живущих только настоящим, оно представляло не более, как загадку или предмет ужаса, для немногих же призванных ему содействовать оно было высокого рода предвосхищением и предвкушением, благодаря которому они могли чувствовать себя одухотворенными, одухотворяющими и плодотворными далеко за пределами настоящей минуты. Для самого же Вагнера оно несло новый мрак трудов, забот, размышлений, печали, новый взрыв враждебных сил; но все это — залитое лучами звезды самоотверженной верности и превращенное этим светом в несказанное счастье.
Едва ли нужно говорить, что веяние трагического коснулось этой жизни. И каждый, душе которого доступно подобное состояние, каждый, кому не окончательно чужды чувство гнетущего трагического разочарования в жизненных целях, уклоны и крушения намеченных путей, а также отречение и очищение через любовь, почует в том, что Вагнер дает нам теперь в своих художественных созданиях, как бы видение и отголосок собственного героического существования этого великого человека. И кажется нам, словно где-то вдали Зигфрид повествует о своих подвигах: и проникновенное счастье воспоминания окутано глубокой грустью увядающего лета, и вся природа затихла в желтых отблесках вечерних лучей.
Часть 9-11
Всякий, кто думал и мучился над тем, как сложился Вагнер-человек, должен для своего исцеления и успокоения призадуматься и над тем, что представляет собой Вагнер как художник, и внимательно вглядеться в образ могущества и смелости, ставших истинно свободными. Если искусство вообще есть только способность передавать другим то, что сам пережил, если каждое художественное произведение, непонятное другим, является внутренним противоречием, то величие Вагнера как художника заключается именно в той демонической общительности его природы, которая как бы на всех языках говорит о себе и с величайшей ясностью разоблачает его самые внутренние, личные переживания. Его появление в истории искусства подобно вулканическому извержению единой нераздельной художественно-творческой силы самой природы, после того как человечество привыкло считать разъединение и разобщенность искусств за правило. Поэтому останавливаешься в нерешительности, какое дать ему имя, — назвать ли его поэтом, пластиком или композитором, употребляя даже эти слова в самом широком смысле, или создать для него новое слово.
Поэтический элемент Вагнера сказывается в том, что он мыслит видимыми и чувствуемыми событиями, а не понятиями, т. е. что он мыслит мифически, как всегда мыслил народ. В основе мифа лежит не мысль, как это полагают сыны искусственной культуры, но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире, в смене событий, действий и страданий. «Кольцо Нибелунгов” есть огромная система мыслей, но не облеченная в форму мысли, как понятия. Возможно, что философ мог бы противопоставить этому нечто вполне соответствующее, где не было бы ни образа, ни действия, а только ряд понятий. Тогда одно и то же нашло бы свое выражение в двух противоположных сферах — с одной стороны, для народа, а с другой — для противоположности народа — теоретического человека. К последнему Вагнер не обращается, ибо теоретический человек смыслит в истинной поэзии, в мифе ровно столько, сколько глухой в музыке, иначе говоря, оба видят только движение, которое им кажется бессмысленным. Находясь в одной из этих противоположных сфер, невозможно заглянуть в другую. Пока находишься под обаянием поэта, мыслишь, как он, становишься существом исключительно чувствующим, видящим и слышащим. Заключения, которые делаешь, являются лишь связью видимых событий, следовательно, фактическими, а не логическими причинностями.
Когда герои и боги мифических драм, как их создает Вагнер, принуждены объясняться и словами, возникает близкая опасность, как бы этот язык слов не пробудил в нас теоретического человека и не перенес нас, таким образом, в другую, чуждую мифу сферу; так что слово в конце концов не только не разъяснит нам того, что перед нами происходит, но мы просто ничего не поймем. Поэтому Вагнер вернул язык к тому первобытному состоянию, когда он почти еще не мыслит в понятиях, когда он еще сам есть поэзия, образ и чувство. Неустрашимость, с которой Вагнер взялся за эту прямо отпугивающую задачу, показывает, как властно вел его поэтический гений, за которым он послушно следовал, куда бы ни направлялся его призрачный вождь. Нужно было, чтобы каждое слово этих драм могло быть спето, чтобы оно могло быть вложено в уста богов и героев: в этом заключалось необычайное требование, которое Вагнер предъявил своему творчеству речи. Всякий другой пришел бы в отчаяние, ибо наш язык кажется нам слишком устарелым, истощенным, чтобы предъявлять к нему такие требования, какие ему ставил Вагнер. И все же его удар по скале вызвал к жизни богатый источник. Вагнер сильно любил свой язык и многого от него требовал. Поэтому именно ему, как никому из немцев, доставляли страдание вырождение и упадок языка, это постоянное обнищание и извращение его форм, неуклюжее построение предложений с помощью частиц, невозможные в пении вспомогательные глаголы. Ведь все это вошло в обиход языка, благодаря прегрешениям и небрежности. С другой стороны, он искренне гордился сохранившейся еще доселе самобытностью и неисчерпаемостью этого языка, многозвучной силой его корней, в которых он предчувствовал, в противоположность в высшей степени производным, искусственным риторическим языкам романских племен, удивительное предрасположение и предуготованность к музыке — к истинной музыке. В поэзии Вагнера чувствуется наслаждение немецким языком, какая-то задушевность и искренность общения с ним; это, за исключением Гёте, не чувствуется в такой степени ни в одном немецком писателе. Пластичность выражений, смелая сжатость, мощь и ритмическое многообразие, редкое богатство сильных и выразительных слов, упрощенная конструкция предложений, почти единственное в своем роде искусство находить выражение волнующему чувству и предчувствию, порой бьющий во всей своей чистоте народный дух и характерность образов, напоминающая пословицы — вот свойства ее, перечислив которые, мы все же упустили бы самое могучее и изумительное в ней. Кто прочтет одно за другим такие два произведения, как «Тристан” и «Мейстерзингеры”, испытает такое же удивление и недоумение по отношению к языку их, какое он испытывает по отношению к их музыке: как вообще возможно было творчески овладеть двумя мирами, столь противоположными по форме, краскам, строю и душевному складу. Это самая сильная сторона дарования Вагнера, нечто доступное только великому мастеру: для каждого произведения вычеканить особый язык и облечь новое внутреннее содержание в новую плоть и новые звуки. Где налицо такая редчайшая сила, — всякое порицание всегда останется мелочным и бесплодным, хотя бы оно было направлено на отдельные вольности и странности или на частую темноту выражения и затуманенность мысли. К тому же тех, кто громче всего до сих пор выражал свое порицание, в сущности, отталкивал и поражал не самый язык, а душа произведения и особый род выраженных им чувств и страданий. Будем ждать того времени, когда и их душа преобразится, тогда они сами заговорят другим языком, и тогда, мне кажется, и немецкий язык будет в общем находиться в лучших условиях, чем теперь.
Но прежде всего все размышляющие о Вагнере, как о поэте и творце языка, не должны забывать, что ни одна из вагнеровских драм не предназначена к чтению, и таким образом к ним нельзя предъявлять тех требований, которые мы ставим литературной драме. Последняя имеет в виду действовать на чувство исключительно путем понятий и слов; эта задача подчиняет ее власти риторики. Но страсть в жизни редко бывает красноречива: в литературной драме она неизбежно должна быть таковой, чтобы вообще выразить себя так или иначе. Но когда язык народа находится уже в состоянии упадка и увядания, драматургом-литератором овладевает сильное искушение придать необычайную окраску и новую форму словам и мыслям. Он хочет поднять язык, чтобы вновь зазвучали в нем повышенные чувства, и рискует при этом остаться совершенно непонятым. Он хочет также своими возвышенными афоризмами и блестящими мыслями поднять страсть на некоторую высоту, и вследствие этого попадает в другую опасность: становится неискренним и искусственным. Ибо действительная страсть жизни не говорит сентенциями; а опоэтизированная страсть легко возбуждает недоверие относительно своей честности, если она существенно расходится с этой действительностью. Напротив того, Вагнер — первый познавший внутренние недостатки литературной драмы — придает каждому драматическому действию троякую ясность выражения: в слове, жесте и музыке. В музыке души слушатели непосредственно переживают глубокие внутренние движения действующих лиц драмы, затем они в жестах артистов воспринимают первое воплощение этих внутренних процессов, а наконец, в словах встречают второе, уже побледневшее их отражение, перенесенное в область сознательной воли. Все эти действия следуют одновременно, нисколько не мешая друг другу. Они побуждают того, перед лицом которого проходит такая драма, к совершенно другому пониманию и переживанию, словно его чувства стали одновременно более одухотворенными, а его дух более чувственным, и все, что рвется из души и жаждет откровения, ликует в свободном блаженстве познания. Каждое событие вагнеровской драмы раскрывается перед зрителем с величайшей ясностью, и именно благодаря музыке, которая все освещает изнутри и накаляет своим пламенем, и поэтому-то ее творец и не нуждается в средствах, к которым прибегает художник слова, чтобы озарить и согреть свои образы. Все построение драмы здесь становится проще. Ее зодчий мог снова отважиться на проявление своего ритмического чувства в общих и главных пропорциях здания. Ибо ничто не побуждало его более к преднамеренной запутанности и сбивчивой пестроте архитектурного стиля, посредством которых художник слова, добиваясь успеха для своего произведения, старается вызвать чувство удивления и напряженного интереса, чтобы затем довести его до степени радостного восхищения. Ему не нужно было при помощи искусственных приемов достигать впечатления идеализирующей высоты и дали. Речь вернулась от риторической расплывчатости к прежней замкнутости и мощи языка чувств. И хотя артист несравненно меньше прежнего говорил о том, что он делает и чувствует по пьесе, внутренние движения, которых драматург слова избегал из боязни мнимой их несценичности, вызывали в зрителе страстное сочувствие, между тем как сопровождающий их язык жестов мог теперь проявляться в более мягких переходах. Вообще выражение страсти в пении длительнее, чем в словах. Музыка как бы растягивает ощущение, поэтому артисту, который одновременно и певец, приходится преодолевать слишком непластическую размашистость движений, от которой страдает на сцене литературная драма. Он стремится придать больше благородства своим жестам, тем более, что музыка погружает его чувство в волны более чистого эфира и тем невольно приближает его к красоте.
Чрезвычайные задачи, какие Вагнер возлагает на актеров и певцов, возбудят среди целых поколений соревнование в стремлении воплотить своей игрой образ каждого вагнеровского героя с той пластической законченностью и рельефностью, которая уже дана Вагнером в самой музыке его драмы. Следуя за ним, пластический художник увидит, наконец, чудо нового мира образов, которые до него впервые увидел только сам творец «Кольца Нибелунгов”, этот создатель пластических образов высшего порядка, подобно Эсхилу указывающий пути грядущему искусству. Уже одно соревнование вызовет к жизни великие дарования, когда искусство пластики станут сравнивать по впечатлению с такой музыкой, как вагнеровская. В ней источник светлого, лучезарного счастья. Когда слушаешь ее, почти вся прежняя музыка кажется внешней, связанной, несвободной, как будто она до сих пор служила только игрой для тех, кто недостоин серьезного, или поучением и уяснением для тех, которые не заслуживают даже игры. Прежняя музыка доставляла лишь на краткий миг то счастие, которое постоянно дарует нам вагнеровская музыка. Кажется, лишь в редкие минуты забытья, как бы находившие на нее, она обращалась к самой себе и устремляла свой взор подобно рафаэлевской Цецилии, ввысь, дальше от слушателей, требующих от нее развлечения, увеселения и учености.
О Вагнере-музыканте можно вообще сказать, что он дал язык всему в природе, что до тех пор не хотело говорить. Он не верит, чтобы что-нибудь могло быть немым. Он погрузился в утреннюю зарю, леса, туманы, ущелья, горные вершины, ужасы ночи, блеск месяца и подметил в них затаенное желание: и они также хотят звучать. Если философ говорит, что в одушевленной и неодушевленной природе существует воля, жаждущая бытия, то музыкант прибавляет: и эта воля на всех своих ступенях хочет бытия в звуках.
До Вагнера музыка была в общем замкнута в тесные рамки, она соответствовала устойчивым состояниям человека — тому, что греки называют ethos, и лишь начиная с Бетховена, она впервые стала обретать язык пафоса, страстной воли, внутренних драматических переживаний человека. Прежде одно какое-нибудь настроение сосредоточенности, веселости, благоговения, раскаяния должно было найти выражение в звуках; стремились посредством определенного заметного однообразия формы и продления этого однообразия внушить слушателю смысл этой музыки и привести его, наконец, в соответствующее настроение. Для изображения всех таких настроений и состояний были необходимы известные формы, и некоторые из них. благодаря условности, стали в таких случаях обычными. Их продолжительность зависела от предусмотрительности музыканта, имевшего в виду дать соответствующее настроение, но в то же время не наскучить излишней монотонностью. Был сделан шаг вперед, когда стали изображать противоположные настроения одно за другим, подметив прелесть контраста, а затем пошли и далее, и одна и та же пьеса стала воспроизводить противоположные «этосы”, например противоборство мужской и женской темы. Все это — еще грубые и первобытные ступени музыки. Боязнь страсти диктует одни законы, боязнь скуки — другие. Всякое углубление и нарушение границ чувства казалось «не этическим”. Но после того, как искусство этоса в своем произведении обычных состояний и построений стало бесконечно повторяться, оно, несмотря на удивительнейшую изобретательность его мастеров, истощилось. Бетховен первый заставил музыку заговорить новым языком, запрещенным до того времени — языком страсти. Но так как его творчество выросло на законах и условностях искусства этоса и принуждено было как бы оправдываться перед последним, то его художественное развитие страдало от своеобразных затруднений и неясности. Внутреннее, драматическое событие — ибо всякая страсть имеет драматическое течение — стремилось вылиться в новые формы, но традиционная схема музыки настроения противоборствовала и возражала чуть ли не с видом морали, восстающей против вторжения безнравственности. Иногда кажется, что Бетховен поставил себе противоречивую задачу — средствами этоса дать выражение пафосу; но к величайшим и позднейшим произведениям Бетховена это представление не вполне применимо. Чтобы передать великую кривую, описываемую страстью, он действительно нашел новое средство: он брал отдельные пункты ее траектории и обозначил их с величайшей точностью, чтобы слушатель мог по ним восполнить всю линию. С внешней стороны новая форма представлялась как бы соединением в одно целое нескольких музыкальных пьес, из которых каждая в отдельности выражала как будто некоторое устойчивое состояние, в действительности же — только один момент в драматическом течении страсти. Слушатель воображал, что он слушает старую музыку настроения. Ему стало лишь непонятным взаимоотношение отдельных частей, которое нельзя уже было объяснить из канона противопоставления. Даже у менее значительных композиторов явилось некоторое презрение к требованию художественной целостности композиции, последовательность частей в их произведениях стала произвольной. Изобретение великой формы страсти привело по недоразумению к прежней отдельной музыкальной теме с произвольным содержанием, и взаимное соотношение частей исчезло совершенно. Вот почему после Бетховена симфония представляет такую до странности неясную картину, в особенности когда она в частностях еще лепечет языком бетховенского пафоса. Средства не соответствуют цели, да и самая цель в общем не ясна слушателю, потому что и самому композитору она никогда не была ясна. Но именно требование, чтобы было сказано что-либо определенное и притом сказано с совершенной ясностью, тем настоятельнее, чем выше, труднее и значительнее самый род произведения.
Поэтому все усилия Вагнера были направлены на то, чтобы найти все средства, служащие ясности. Прежде всего он должен был освободиться от всех предрассудков и требований старой музыки состояний и заставить говорить свою музыку — этот звучащий процесс чувства и страсти — вполне недвусмысленным языком. Если мы сравним его реформы в музыке с тем, что сделал изобретатель свободной группы в области пластики, то мы получим представление о том, чего он достиг. Вся прежняя музыка, при сравнении с вагнеровской, покажется скованной, боязливой и неловкой, как будто на нее нельзя смотреть со всех сторон и она стыдится самой себя. Вагнер улавливает каждую ступень, каждый оттенок чувства с величайшей уверенностью и точностью. Он берет самое нежное, отдаленное, тонкое движение души, не опасаясь, что оно ускользнет от него, и фиксирует его как нечто твердое и устойчивое, между тем как всякому другому показалось бы, что это неуловимый, хрупкий мотылек. Его музыка никогда не страдает неопределенностью, никогда не зависит от настроения; все, что говорит ею — человек или природа — отличается строго индивидуализованной страстью. Буря и огонь получают у него характер принудительной мощи, присущей личной воле. Над всеми этими звучащими индивидами и над борьбой их страстей, над всем этим водоворотом противоположностей парит верховное понимание правящего симфонического разума, непрестанно вносящего в борьбу примирение. Вся музыка Вагнера в целом является образом мира в том смысле, как его понимал великий эфесский философ, — как гармонии, порожденной спором, как единства справедливости и вражды. Я изумляюсь возможности найти великую линию единой страсти в множестве расходящихся по различным направлениям страстей. А что это возможно, доказывает каждый отдельный акт вагнеровской драмы, рассказывающий одновременно частные истории отдельных индивидов и вместе с тем общую историю всех. С самого начала мы уже замечаем, что перед нами — противоположные отдельные течения, над которыми властвует один могучий, определенно направленный поток. Вначале этот поток неспокойно течет по подводным утесам, воды как будто стремятся иногда разделиться, броситься в разные стороны. Но постепенно мы начинаем замечать, что внутреннее общее течение становится могущественнее, стремительнее. Порывистое беспокойство переходит в покой широкого грозного движения к еще неведомой цели. И внезапно, в заключение, поток во всей своей шири низвергается в глубину, в демоническом порыве к клокочущей бездне. Никогда еще Вагнер не бывал в большей степени самим собою, как тогда, когда трудности удесятерялись, и он с радостью законодателя мог широко проявить свою власть. Укрощать бешеные непокорные массы, приводя их к простому ритму, проводить сквозь пестрое многообразие требований и стремлений единую волю — таковы задачи, для которых он чувствует себя рожденным и в сфере которых он чувствует себя свободным. И при этом он никогда не изнемогает, не падает от истомления у цели. В то время, как другие старались сложить с себя бремя, он постоянно стремился связать себя самыми тяжелыми законами. Жизнь и искусство становились ему в тягость, если он не мог играть самыми трудными их проблемами. Стоит хоть раз вникнуть в отношение мелодии в пении к мелодии в речи, посмотреть, как Вагнер относится к высоте, силе и темпу речи обуреваемого страстью человека, видя в ней природный прототип, подлежащий переработке в искусстве, сообразить затем, как эта поющая страсть введена им во все симфоническое построение музыки, чтобы получить представление о чуде преодоленных трудностей. При этом его изобретательность в малом и в великом, вездесущность его духа и постоянное трудолюбие таковы, что при одном взгляде на вагнеровскую партитуру начинаешь думать, что до него не существовало настоящего труда и усилий. Кажется, что и в отношении трудностей искусства он мог бы с полным правом сказать, что главная добродетель драматурга заключается в самоотверженности: но он, вероятно, возразил бы нам, что существует только одна трудность, это — когда человек еще не свободен. Добродетель же и добро — легки.
Общее впечатление от Вагнера как художника сближает его — чтобы напомнить более знакомый тип — с Демосфеном: суровая строгость в отношении к предмету, умение властно взяться за дело и охватить его: стоит ему лишь наложить на что-либо свою руку, и она уже не упустит из своих железных пальцев раз схваченное. Как Демосфен, он скрывает от нас свое искусство, вынуждает забыть его, заставляя думать о самом деле. И все же он, как и Демосфен, — конечное и высшее явление в целом ряде могучих художественных гениев, и следовательно, ему приходится больше скрывать, чем первым в этом ряду. Его искусство действует как природа, как обновленная, вновь обретенная природа. В нем нет ничего аподиктического, как у всех прежних композиторов, играющих при случае своим искусством и выставляющих напоказ свое мастерство. При исполнении произведения вагнеровского искусства не думаешь ни об интересном, ни о забавном, ни о самом Вагнере, ни вообще об искусстве, чувствуешь лишь необходимое в нем. Какую строгость и выдержанность воли, какое самоподчинение должен был проявить художник в период своего развития, чтобы наконец, достигнув зрелости, с радостным чувством свободы в каждую минуту творчества создавать одно необходимое, — в этом едва ли кто-либо и когда-либо будет в состоянии отдать себе полный отчет. Достаточно, если мы хоть в отдельных случаях замечаем, как его музыка с какой-то суровой решимостью подчиняется ходу драмы, неумолимому, как рок, между тем как огненная душа этого искусства жаждет хоть раз без всяких препон пронестись на свободе по пустыне.
Художник, имеющий над собой такую власть, подчиняет себе других художников, даже не стремясь к этому. С другой стороны, только для него покоренные им его друзья и приверженцы не представляют опасности или стеснения, между тем как менее значительные характеры, ищущие опоры в друзьях, обыкновенно теряют при этом свободу. Весьма интересно проследить, как Вагнер всю свою жизнь избегал всякого образования партий, и как все же каждый фазис его творчества создавал круг приверженцев, который, по-видимому, имел целью удержать его на этом фазисе. Но он всегда вырывался из этого круга, не позволяя связывать себя. К тому же его путь был слишком длинен, чтобы каждый мог легко с самого начала угнаться за ним, и при этом столь необычен и крут, что у самого верного спутника порой захватывало дух. Почти во все периоды жизни Вагнера друзья охотно возвели бы его учение в догму, а равным образом и враги, хотя по другим основаниям. Будь чистота его художественного характера на одну ступень ниже, он гораздо скорее мог бы сделаться решающим хозяином в современном искусстве и музыке, чем он теперь в конце концов и стал в том более высоком смысле, что всякое новое художественное творение невольно приводится на суд его творчества и его художественной индивидуальности. Он подчинил себе самых ярых противников. Нет больше одаренного музыканта, который бы в душе не внимал ему и не считал его более достойным внимания, чем себя и всех прочих композиторов вместе. Те, которые во что бы то ни стало желают чем-нибудь выдвинуться, борются именно с этой покоряющей их внутренней прелестью, и с боязливым старанием замыкаются в кругу старых мастеров, предпочитая искать опоры для своей «самостоятельности” лучше в Шуберте и Генделе, чем в Вагнере. Напрасно! Сопротивляясь лучшим порывам своей совести, они, как художники, становятся незначительнее и мельче. Они портят свой характер тем, что принуждены терпеть плохих союзников и друзей, и несмотря на все эти жертвы, им все же по временам приходится прислушиваться, хотя бы в сновидениях, к Вагнеру. Эти противники достойны жалости: они воображают, что много потеряют, потеряв самих себя, и в этом они заблуждаются.
Вагнеру очевидно мало дела до того, будут ли отныне композиторы сочинять по-вагнеровски, и вообще будут ли они сочинять. Он даже делает все возможное, чтобы разрушить ту губительную веру, будто к нему должна еще примкнуть новая школа композиторов. Поскольку он оказывает непосредственное влияние на музыкантов, он старается научить их искусству великого исполнения. Он полагает, что наступила пора в развитии искусства, когда настойчивое стремление стать дельным мастером изображения и исполнения гораздо ценнее, чем капризная прихоть во что бы то ни стало «творить” самому, ибо это творчество на той ступени, которой достигло искусство, роковым образом ведет к тому, что действительно великое опошляется в своих действиях от постоянного применения его без разбора, и средства и приемы гения тратятся при ежедневном пользовании ими. Даже хорошее в искусстве излишне и вредно, если оно основано на подражании лучшему. Вагнеровские цели и средства составляют одно неразрывное целое, и требуется лишь простая художественная честность, чтобы почувствовать всю недобросовестность подражания его приемам в совершенно других, более мелких целях.
Если Вагнер, таким образом, не хочет иметь ничего общего с толпой сочиняющих по-вагнеровски музыкантов, то тем настоятельнее он выдвигает перед всеми талантливыми людьми новую задачу — отыскать вместе с ними законы стиля драматической передачи. Настоятельнейшая необходимость влечет его установить для своего искусства традицию стиля, которая дала бы возможность erо произведениям сохраниться в чистом виде, пока они не достигнут того будущего, к которому они предназначены своим творцом.
Вагнер обладает ненасытным стремлением сообщить все, что имеет отношение к этому обоснованию стиля и тем самым к дальнейшему существованию его искусства. Сделать свое произведение, говоря словами Шопенгауэра, священным вкладом, и истинный плод своего существования — достоянием человечества, завещать их правильнее судящему потомству, — это стало для него высшей и первой целью, ради нее он нес терновый венец, который со временем превратится в лавровый. На сбережении и охранении своего создания он сосредоточил все свои стремления так же решительно, как насекомое в последней стадии своего развития прилагает все старания, чтобы охранить свои яички и обеспечить свое потомство, которого оно никогда не увидит. Оно кладет яички там, где оно уверено, что они найдут жизнь и питание, — и спокойно умирает.
Эта первая и непосредственная цель побуждает его все к новым открытиям. Чем сильнее в нем сознание борьбы с самым враждебным ему веком, сознательно и упорно не желающим внимать ему, тем более черпает он средств из своей демонической способности сообщать себя людям. Но постепенно даже эта эпоха начинает поддаваться его неустанным попыткам и гибкой настойчивости и прислушиваться к нему. Как только хоть издалека представлялся более или менее значительный случай пояснить свои мысли на примере, Вагнер с готовностью пользовался им. Он применяет свою мысль ко всяким данным условиям и даже при самых неблагоприятных условиях для ее воплощения находит ей выражение. Встречая душу, сколько-нибудь способную понять его, он бросает в нее свои семена. Он не терял надежды и там, где холодный наблюдатель только пожимал плечами. Стократ он впадает в ошибки, чтобы хоть раз оказаться правым перед этим наблюдателем. Как мудрец вступает в тесное общение с людьми лишь постольку, поскольку он в состоянии через них умножить сокровищницу своих знаний, так и художник не имеет, по-видимому, почти никакого отношения к своим современникам, если только они не могут сделать чего-либо для увековечения его творчества. Его можно любить, только любя это увековечение, и равным образом ему чувствителен только один род направленной против него ненависти, именно ненависть, которая стремится разрушить мосты к этой будущности его творчества. Ученики, которых Вагнер воспитал себе, отдельные музыканты и актеры, которым он сказал что-либо или показал какой-либо жест, большие и малые оркестры, которыми он дирижировал, города, в которых проявлял серьезную деятельность, властители и женщины, которые полубоязливо, полулюбовно принимали участие в его планах, различные европейские страны, где он временно был судьею и карающей совестью их искусства, — все постепенно стало отголоском его мысли, его ненасытного стремления к грядущей жатве. Если этот отклик и долетал к нему часто искаженным и неясным, то все же наконец победное могущество его голоса, сотни раз разносившегося в мире, должно было вызвать и могучий отзвук; и скоро станет немыслимым не слышать или превратно понимать его. Этот отклик уже теперь потрясает посвященные искусству учреждения современных нам людей; всякий раз, когда веяние этого гения проносилось по этим садам, все засохшее и не способное устоять против ветра начинало шататься; но еще красноречивее, чем это шатание, говорило везде возникавшее сомнение. Никто не мог предвидеть, где и когда могло внезапно прорваться влияние Вагнера. Он совершенно не способен рассматривать благо искусства отдельно от всякого другого блага или невзгоды. Где только современный дух таит в себе опасности, он проницательно-недоверчивым взглядом чует опасность и для искусства. В своем представлении он разбирает по частям все здание нашей цивилизации, и ничто подгнившее, кое-как слаженное не ускользает от его взора. Если при этом он наталкивается на устойчивые стены и вообще на прочные фундаменты, он ищет средства использовать их в качестве бастионов и защитных крыш для своего искусства. Он живет как беглец, который думает не о своем спасении, а о сохранении тайны, как несчастная женщина, которая хочет спасти не свою жизнь, а жизнь ребенка, которого она носит в себе. Он живет, подобно Зиглинде, «ради любви”.
Ибо, конечно, полна многообразных страданий и стыда жизнь того, кто скитальцем и чужаком живет в этом мире, и все же принужден говорить с ним, обращаться к нему с требованиями, презирать его и не быть в состоянии обходиться без него. Это собственно и есть горе художника будущего. Он не может, подобно философу, в темном углу для себя лично гнаться за познанием. Он нуждается в человеческих душах, как в посредниках между собой и будущим, в общественных учреждениях, как в поруке этого будущего, как в мостах между настоящим и будущим. Его искусство не может быть погружено и ввезено на корабле письменности, что способен сделать философ. Искусство нуждается в мастерах для своей передачи, а не в буквах и нотах. В течение целых периодов жизни Вагнера не покидает страх не отыскать таких мастеров и быть вынужденным, вместо примеров, которые он мог бы им дать, ограничиться указаниями на бумаге, а вместо примера на деле дать слабое отражение этого дела, пригодное для тех, кто читает книги, т. е. кто не художник.
Вагнер, как писатель, производит тяжелое впечатление храброго человека с раздробленной правой рукой, вынужденного сражаться одной левой. Писать для него всегда мучение, когда по временно непреодолимой необходимости он лишен настоящего, свойственного ему способа выражения в виде блестящих и победоносных примеров. В его писаниях нет ничего канонического, строгого, но в его произведениях заключен канон. Его писания — это попытки осознать тот инстинкт, который побуждал его к творчеству, и как бы посмотреть самому себе в глаза. Он надеялся, что, если ему удастся претворить свой инстинкт в познание, в душах его читателей произойдет обратный процесс. С этой целью он и взялся за перо. Если бы оказалось, что он в данном случае преследовал невозможное, то Вагнер разделил бы лишь судьбу всех, кто размышлял об искусстве; но перед большинством из них он имеет то преимущество, что обладает могущественнейшим общим инстинктом искусства. Я не знаю сочинений по эстетике, которые проливали бы столько света, сколько сочинения Вагнера. Из них можно узнать все, что можно вообще узнать о рождении художественного произведения. В них выступает свидетелем один из истинно великих, и его показания становятся с годами более правильными, свободными, ясными и определенными. Даже когда он спотыкается на пути познания, искры брызжут из-под его ног. Такие сочинения, как «Бетховен”, «О дирижировании”, «Об актерах и певцах”, «Государство и религия”, отнимают всякую охоту возражать и склоняют к тихому, внутреннему, благоговейному созерцанию, словно при открытии драгоценных ковчегов. Другие, а именно более ранние его произведения, в том числе «Опера и драма”, волнуют, возбуждают беспокойство. В них чувствуется неравномерность ритма, благодаря чему они, как проза, приводят в некоторое смущение. Диалектика часто не выдержана в них, ход их, благодаря скачкам чувства, скорее замедленный, чем быстрый. На них, как тень, лежит отпечаток какого-то отвращения автора, словно художник стыдился отвлеченных рассуждений. Не вполне подготовленного читателя, быть может, более всего стесняет тон, исполненный достоинства, авторитетности, ему одному свойственный и трудно поддающийся описанию. На меня это производит часто такое впечатление, словно Вагнер говорит перед врагами, ибо все эти сочинения написаны в разговорном, а не в обычном литературном стиле, и покажутся более ясными, если их услышать в выразительном чтении перед врагами, с которыми он не хочет сближаться, а потому и держится холодно и на известном расстоянии. Тем не менее нередко захватывающая страстность его чувства прорывается сквозь эту намеренную личину. Тогда исчезают искусственные, тяжелые, загроможденные словами периоды и вырываются предложения и целые страницы, которые можно причислить к лучшему, что имеется в немецкой прозе. Но если даже предположить, что в этих частях своих писаний он обращается к своим друзьям и призрак его противника уже не стоит около него, то все же все эти друзья и враги, к которым Вагнер обращается, как писатель, имеют нечто общее, что их глубоко отделяет от того «народа”, ради которого он творит как художник. При своем утонченном и бесплодном образовании они ничуть не народны, и тот, кто хочет быть понятым ими, должен говорить не народным языком, как и говорили наши лучшие прозаики, а вместе с ними и сам Вагнер. Можно себе представить, какого насилия над собой это ему стоило. Но заботливое, так сказать, материнское влечение, которому он приносит всякие жертвы, толкает его самого в туманную атмосферу ученых и образованных, которую он навсегда покинул в качестве творца-художника. Он подчиняется языку образованности и всем законам ее речи, хотя он первый почувствовал глубокое несовершенство этого способа общения.
Ибо различие его искусства от всего искусства новейших времен заключается именно в том, что он не говорит языком кастовой образованности и вообще не признает более противоположности между образованными и необразованными. В этом отношении оно является прямой противоположностью ко всей культуре ренессанса, которая до сих пор действовала на нас, современных людей, своими светлыми и теневыми сторонами. Искусство Вагнера освобождает нас на мгновенья от нее, и мы только тогда и получаем возможность окинуть взглядом ее однообразный характер. Мы начинаем видеть в Гёте и Леопарди последних великих потомков итальянских филологов-поэтов; в Фаусте — воплощение самой ненародной загадки, которую задали себе новые времена в лице жаждущего жизни теоретического человека. Даже гётевская песня есть перепев народной песни, а не прообраз ее, и ее творец прекрасно понимал это, когда с такой серьезностью старался внушить одному из своих приверженцев такую мысль: «Мои произведения не могут стать популярными. Заблуждается тот, кто думает об этом и стремится к этому”.
Нужно было узнать на опыте, но нельзя было угадать возможность зарождения такого лучезарного и согревающего искусства, способного одновременно и озарить своими лучами малых и нищих духом, и растопить высокомерие знающих. Но в сознании каждого, кто это узнал, этот опыт должен теперь совершенно изменить взгляды на воспитание и культуру. Перед ним поднимается завеса будущего, когда не будет высших благ и счастия, которые не были бы доступны сердцам всех. И позор, который лежал до сих пор на слове общедоступный, снимется с него. Если предчувствие с такой смелостью уносит нас в даль, мы не можем не отнестись сознательно к пугающей социальной неопределенности нашего времени и скрыть от себя опасности, грозящей искусству, не имеющему по-видимому никаких корней, разве только в том отдаленном будущем, цветущие ветви которого видны нам, между тем как основание, на котором оно растет, скрыто от наших глаз. Как нам спасти в ожидании будущего это бездомное искусство, как нам задержать поток по-видимому неизбежной всеобщей революции так, чтобы вместе со многим заслуженно обреченными на гибель не были унесены волнами воодушевляющие предвестия и залоги лучшего будущего, более свободного человечества?
Кто задумывается над такими вопросами, тот принимает участие в заботах Вагнера. Он вместе с ним будет стремиться отыскать те устойчивые силы, которые согласятся стать гениями, защитниками благороднейших ценностей человечества в дни землетрясения и крушений. Только в этом смысле Вагнер своими писаниями вопрошает образованных людей, хотят ли они укрыть и сохранить в своих сокровищницах его наследие — драгоценное кольцо его искусства; и даже то великое доверие, которое Вагнер выказал немецкому духу в его политических стремлениях, я мог бы объяснить тем, что он верил в силу, кротость и отвагу народа реформации, — в те свойства, которые необходимы, чтобы «ввести море революции в русло спокойно текущего потока человечества”, и я готов допустить, что не что иное, как это хотел он выразить символикой своего Kaisermarsch'a.
В общем же готовый на всякую помощь порыв художника-творца слишком велик, любовь его к людям слишком широка, чтобы взор его мог ограничиться пределами национальных перегородок. Его мысли, как у всякого истинного и великого немца, сверхнемецкие, и язык его искусства обращен не к народам, а к людям.
Но к людям грядущего!
Это и есть его вера, его страдание, его гордость. Ни один художник прошлых времен не получил такого замечательного дара в удел от своего гения, никто, кроме него, не был приговорен к этой капле страшной горечи, примешанной к каждому кубку нектара, подносимому вдохновением. Не то чтобы он был, как можно было бы подумать, непризнанный, оскорбленный, одинокий в своем веке художник, который создал себе эту веру в целях самозащиты. Успех или неуспех у современников не могли бы ни сломить, ни утвердить этой веры. Он не принадлежит к настоящему поколению, будет ли оно восхищаться им или порицать его: это подсказывал ему его инстинкт; и явится ли когда-нибудь поколение, которое признает его своим, этого нельзя доказать тому, кто не хочет в это верить. Но этот неверующий может, пожалуй, поставить вопрос, каково должно быть то поколение, в котором Вагнер признал бы свой «народ”, как совокупность всех страждущих одним общим горем и ищущих спасения в одном общем им всем искусстве. У Шиллера, правда, было больше веры и надежды. Он не спрашивал, каково будет это будущее, если инстинкт художника, возвещающего наступление его, окажется не ложным. Он прямо требовал от художников:
На смелых крыльях поднимитесь
Над бегом проходящих лет;
И в вашем зеркале зарею
Грядущий отразится век!
Да хранит нас здравый рассудок от веры, что когда-нибудь человечество может найти окончательный идеальный строй, и счастье, подобно солнцу тропических стран, будет посылать неизменно свои знойные лучи всем людям этого строя. Вагнер ничуть не разделяет этой веры — он не утопист. Если же он не может отказаться от веры в будущее, то лишь постольку, поскольку он находит в современном человеке свойства, не составляющие неизменной принадлежности характера и органического строения человека, а нечто изменчивое и преходящее; именно благодаря этим свойствам искусство среди людей этого времени не имеет родины, и сам Вагнер является предвестником и посланником другой эпохи. Ни золотого века, ни безоблачного неба не суждено этим грядущим поколениям, на которые указывает ему его инстинкт и смутные черты которых можно угадать по тайнописи его искусства, насколько вообще возможно по роду удовлетворения судить о характере нужды. Над полями этого будущего не раскинутся, подобно вечной радуге, сверхчеловеческое добро и справедливость. Быть может, грядущее поколение покажется в общем даже более злым, чем наше, ибо оно будет откровеннее как в дурном, так и в хорошем. Возможно, что душа его, если бы ей дано было высказаться во всей полноте и свободе, потрясла и испугала бы наши души, как если бы мы услышали голос какого-либо дотоле скрытого злого демона в природе. Какое чувство вызвали бы в нас утверждения, что страсть лучше стоицизма и лицемерия, что быть честным, даже во зле, лучше, чем утратить себя, подчиняясь традиционной морали, что свободный человек равно может быть и добрым и злым, но что человек несвободный — позор для природы и для него нет ни земного, ни небесного утешения, что, наконец, тот, кто хочет быть свободным, должен достигнуть этого сам, и что свобода никому не падает в руки, как чудесный дар. Как бы резко и страшно ни звучали эти слова: это есть голос того грядущего века, который действительно нуждается в искусстве и может найти в нем действительное удовлетворение, — это язык природы, возрожденной и в самом человечестве, это именно то, что я назвал выше истинным чувством в противоположность господствующему ныне лживому чувству.
Истинное удовлетворение и спасение дается только настоящей, а не извращенной природе, не лживому чувству. Извращенной природе, если только она осознает самое себя, остается лишь одно — стремление к небытию. Природа, напротив, жаждет преображения силой любви. Первая хочет не быть, вторая быть иной. Кто понял это, пусть пересмотрит в душевной тишине несложные мотивы вагнеровского искусства и спросит себя, кто здесь преследует свои только что описанные нами цели — действительная природа или природа извращенная?
Отчаявшийся скиталец находит освобождение от своих мук в сострадательной любви женщины, предпочитающей умереть, чем быть ему неверной — мотив «Моряка-Скитальца”. — Любяшая женщина, отрекшись от личного счастья, путем небесного преображения amor в caritas, достигает святости и спасает душу возлюбленного — мотив «Тангейзера”. — Самое дивное и высокое нисходит к людям с открытой душой, не позволяя спрашивать себя — откуда и когда роковой вопрос задан, с мучительной борьбой возвращается к своему высшему существованию — мотив «Лоэнгрина”. — Любящая душа женщины, а с ней и народ, радостно приемлют нового гения благодетеля, между тем как ревнители предания и обычая отвергают и поносят его мотив «Мейстерзингеров”. — Двое любящих, не зная о своей взаимной любви и считая себя, напротив, глубоко уязвленными и оскорбленными, просят друг у друга смертельного напитка, как бы для искупления нанесенного оскорбления, но в действительности подчиняясь безотчетному стремлению: они в смерти хотят найти освобождение от возможной разлуки и всякого притворства. Уверенность в близкой смерти освобождает их души и приводит их к краткому, полному ужаса счастью, словно они действительно вырвались из уз дня, обманчивых грез и даже самой жизни — мотив «Тристана и Изольды”.
В «Кольце Нибелунгов” трагическим героем является бог, все существо которого жаждет власти; гоняясь за ней, на всех путях, он связывает себя договорами, теряет свою свободу, и на него падает проклятие, тяготеющее над властью. Он сознает свою неволю, когда видит, что у него нет более средств овладеть золотым кольцом, символом всей земной власти и вместе с тем высшей для него опасности, пока оно в руках его врагов. Им овладевает страх гибели и сумерек всех богов, а также отчаяние от сознания, что он может лишь идти навстречу этой гибели, но не предотвратить ее. Ему нужен свободный, бесстрашный человек, который восстал бы против божественного порядка и сам, без его совета и содействия, по собственной воле совершил запрещенный богу подвиг. Он не видит его, и именно тогда, когда у него пробудилась новая надежда, он должен подчиниться тяготеющему над ним року. Собственной рукой он должен погубить самое дорогое для него, самое чистое сострадание, к его несчастью, должно быть наказано. Им овладевает, наконец, отвращение к власти, таящей в своем лоне только зло и рабство, его воля сломлена, он сам жаждет конца, грозящего ему издалека. И лишь теперь совершается то, чего он так страстно ждал, — появляется свободный, бесстрашный человек; его рождение нарушает все установленные законы. Его родители несут кару за союз, противный порядку природы и нравственности. Они погибают, но Зигфрид остается жить. При виде его чудного роста и расцвета отвращение покидает душу Вотана. С отеческой любовью и заботливостью он следит за судьбою героя. Как он кует себе меч, убивает дракона, добывает кольцо, избегает лукавого обмана, пробуждает Брунгильду, как проклятие, тяготеющее над кольцом, не щадит и его, все ближе и ближе надвигаясь на него, как он, оставаясь верным в неверности, из любви нанося раны любимому, окружается туманом и мраком преступлений, но наконец выходит из туч чистый, как солнце, и склоняется к своему закату, зажигая все небо своим огненным сиянием и очищая мир от проклятия — все это видит бог, могучее копье которого сломано в борьбе с свободнейшим; и бог, потерявший на нем свою власть, все же упоен своим поражением и полон сорадости и сочувствия к своему победителю. Его взор, сияя мучительным блаженством, покоится на последних событиях в жизни мира, он обрел свою свободу в любви, он освободился от самого себя.
И теперь спросите сами себя вы, поколения живущих в наше время людей: для вас ли это было создано? Хватит ли у вас мужества поднять руку к звездам этого небосклона, сияющего красотой и добром, и сказать: это нашу жизнь Вагнер вознес к звездам?
Кто из нас из собственной жизни уяснил себе божественный образ Вотана? Кто из вас возвышается по мере своего отречения, подобно Вотану? Кто из вас способен отрешиться от власти, сознавая и на опыте чувствуя проистекающее из нее зло? Где те, которые, подобно Брунгильде, приносят в жертву любви свое знание и все же, наконец, обретают в своей жизни наивысшее познание: «скорбной любви глубокая мука открыла мне очи”. Где свободные и бесстрашные, вырастающие из себя и цветущие в самобытной невинности; где Зигфриды между вами?
Кто так спрашивает и тщетно спрашивает, должен обратить свой взор на будущее: и если он откроет где-нибудь вдали тот «народ”, который вычитает в письменах Вагнера свою собственную историю, то он поймет и то, чем Вагнер будет для этого народа: именно тем, чем он не может быть для всех нас, — не пророком грядущего, каким он может казаться нам, но истолкователем, преображающим прошлое
И.А. Корзухин Н. Римский-Корсаков и Рихард Вагнер
1910г.
Возрождающаяся Россия должна создать театр Р.-Корсакова, подобно тому, как Германия в своё время создала театр Вагнера (Байрейт).
Мысль о сопоставлении Римского-Корсакова и Вагнера появилась в России сравнительно недавно: со времени создания Римским-Корсаковым “Сказания о Невидимом Граде Китеже и Деве Февронии”. В “Китеже” захотели увидеть русского “Парсифаля”, о котором в то время (1906г.) русские музыкальные круги знали, вообще говоря, более чем мало.
Если подойти к вопросу о генезисе подобной мысли, то едва ли мы ошибёмся, если скажем, что сравнение между Китежем и Парсифалем в корне своём имеет чувство, выраженное ещё Ломоносовым:
“И может собственных Платонов
И быстрых разумов Невтонов
Земля Российская рождать”.
Теперь, когда “Китеж” приобрёл в России широкую популярность, которая с каждым годом неуклонно растёт, мы должны откровенно сознаться, что в первое время своего сценического существования “Китеж” не вызывал в публике особо горячего восторга. С другой стороны, однако, автор “Снегурочки” и длинного ряда других великих произведений являлся в период создания им “Китежа” естественным главой русского музыкального искусства. Произведения его, как бы они ни были трудны для понимания широких масс, получали даже со стороны этих масс полное признание. Кому же, как не маститому главе русского музыкального искусства, возможно было создать русского “Парсифаля”, к которому развивавшееся на смену Писаревщины и Передвижничества религиозно-мистическое течение в мыслящем русском обществе чувствовало известное тяготение?
При таких условиях создание такого удобного лозунга, как фраза о том, что “Китеж” есть русский “Парсифаль”, было более чем естественно.
К сожалению, лозунг этот существует и даже получает в некоторых случаях всё большее и большее распространение и до настоящего времени, несмотря на то, что со времени появления “Китежа” творчество Вагнера, включая и Парсифаля, получило огромное распространение в России и должно было бы считаться выяснившимся для всех, кто хоть сколько-нибудь привык разбираться в музыкально-художественных вопросах.
В сущности говоря, как мы увидим дальше, трудно указать в музыке всех народов два произведения, которые были бы так не схожи между собою, как Китеж и Парсифаль, и потому указанный ходовой лозунг должен был бы считаться не только безусловно ошибочным, но даже вредным, как затемняющий суть столь великого музыкально-культурного произведения, как “Китеж”.
В лозунге этом, однако, есть одна хорошая сторона: в нём может быть впервые сопоставляются имена Р.-Корсакова и Вагнера, а это сопоставление имеет, как мы постараемся доказать, более чем глубокое общественно-культурное значение.
Дело в том, что как Вагнер, так и Р.-Корсаков не могут считаться только музыкальными художниками наподобие Бетховена, Шопена, Листа, Чайковского и др. Гении по своим музыкальным способностям, они в то же время являются несравненными выразителями своей народности и притом в таком объёме и размере, что сплачивают не отдельные круги населения, а многомиллионные массы людей, принадлежащих к одной расе, может быть ещё рассеянных между собою политическими условиями.
По отношению к Вагнеру положение это, если и не общеизвестно, то всё-таки является весьма доступным для понимания, ибо в настоящее время трудно представить себе, чтобы Бисмарку так сравнительно легко и быстро удалось создать из конгломерата бесчисленных отдельных государств “единую Германию”, если бы одновременно с политическими мероприятиями немецкому народу в различных его разновидностях не было предложено Вагнером в гениальных сценических – а, следовательно, доступных широким массам – образах истинно германское мировоззрение со всеми его изгибами души. Психика героев Вагнера в значительной степени, конечно, понятна самым разнообразным народностям, но в полном своём объёме она, несомненно, может быть понятна одним немцам: недаром почти все без исключения поклонники и толкователи Вагнера, не принадлежащие к германскому племени, всегда останавливаются в известном смущении перед так называемой “реальностью” и жизненной правдоподобностью героев Вагнера, в то время как немецкие писатели не находят в тексте вагнеровских музыкальных драм ни малейших отклонений от здравой обычной человеческой логики. Все иностранцы, подходящие к Вагнеру, естественно безусловно преклоняются перед глубиною и поэтичностью его замыслов и образов, не говоря даже о всепобеждающей и гипнотизирующей силе звуков, созданных Вагнером, но в тоже время, думается, едва ли какому-нибудь европейцу не из немцев вполне понятны, например, отношения между Вотаном и Фрикою и Брунгильдою, длинные рассуждения между Вотаном и Миме и т.д.
Несомненно, Вагнер, как художник, явление мировое и “общечеловеческого”* в его произведениях заключается бесконечно много, но в тоже время он прежде всего германец, который сумел воплотить в своих творениях истинно германское мировоззрение, и именно это последнее обстоятельство и имело огромные политические последствия. Реально эти последствия, конечно, не осязаемы и, не произойди благодаря Бисмарку и ряду других политических деятелей политического объединения Германии, о значении Вагнера в качестве политического деятеля можно говорить лишь принципиально и теоретически с уклоном к пророчеству. Но судьбе было угодно создать для творения Вагнера иные условия, давшие им возможность необычайно быстро принести пышные плоды. Духовная жизнь всякой нации покоится на целом ряде психических особенностей, обусловленных климатом, географией, историей, бытом и темпераментом, т.е. расовою кровью, – в этом отношении пресловутая, столь нашумевшая ныне теория самоопределения народностей имеет полное обоснование. Но каждый из этих факторов с течением времени может изменяться, что в итоге может привести к большей или меньшей денационализации народа.
Политические обстоятельства и зависящий от них уклад жизни народа, как тому нас учит история всего мира, – могут в течение сравнительно короткого времени разъединить на, по-видимому, совершенно различные части людей, живших и чувствовавших себя прежде как один народ.
Темперамент – кровь народа также без особых затруднений может вследствие смешанных браков подвергнуться существенным изменениям.
Однако, все подобные изменения, как бы с внешней стороны сильно они не давали себя чувствовать, лишь редко, да и то после неопределённо долгого времени, могут окончательно истребить в людях первоначальные их чувствования и в особенности память о существовавших когда-то иных условиях. Так, например, все европейские арийцы, в течение тысячелетий разделявшиеся на целый ряд совершенно различных наций, до сих пор ещё сохраняют целый ряд преданий и чувствований с их когда-то общей родиной – Индией и Памиром. Эти общие предания и чувствования могут спать в душе человека, но могут быть пробуждены, причём пробуждение это будет иметь тем большее реальное значение, чем ближе эти воспоминания к современности и чем полнее комплекс их. Дожившие до настоящего времени общеарийские чувствования могут, конечно, зазвучать однажды в душах европейцев, но едва ли могут привести европейские нации к тому или иному, в особенности политическому, единству; слишком отрывочны и малочисленны эти общие чувствования.
Совершенно иначе обстояло всего полвека тому назад дело с такими двумя народностями, как северо-германцы и южно-германцы (например, с саксонцами и баварцами). Разница была колоссальна: и религия, и политика, и темперамент, и язык – всё это было различно – но явился Вагнер, возобновивший в бесконечно совершенной форме целый комплекс почти что забытых, но общих для обоих народов чувствований и преданий, и ставшие, было, чуждыми друг другу народы почувствовали себя братьями и тесно связанными между собою.
Конечно, можно возразить, что подобное сближение между названными народами достигнуто не одним Вагнером, и что наряду с ним работал в том же направлении целый ряд выдающихся людей в самых различных областях человеческой жизни. Несомненно, подобное заявление имеет свою силу и значение, но нельзя забывать того, что Вагнер действовал в сфере искусства и в частности в области сценического музыкального искусства, которое является, может быть, самым могучим из факторов воздействия на психическую жизнь людей. Всякому, кому пришлось быть в Вене на “фридхофе”, у могилы Бетховена и Шуберта, наверное, не могло не придти в голову, что здесь покоится прах двух людей, равным которым по количеству наслаждения, доставленного людям, не найти. Ни Гёте, ни Гюго, ни Пушкин, не говоря уже про величайших философов, конечно, не облагодетельствовали своими произведениями такого числа людей, как Бетховен и Шуберт. Причина этого кроется в способе воздействия, так сказать в языке воздействия. Музыка понятна всем. Она не требует ни переводчиков, ни образования. Эмоциональное значение её бесконечно.
Вполне понятно, что гениальный музыкант Вагнер, пользуясь одновременно с музыкой ещё силой воздействия сценической красоты, мог и должен был подействовать на разъединяющиеся народы бесчисленных государств Германии сильнейшим образом, ибо он говорил о том, что до введения христианства у германцев были одни и те же боги, одна и та же космология. В то же время он своим гениальным чутьём сумел создать такие человеческие образы, которые были дороги по своей национальной сущности всякому немцу, к какому бы государству он ни принадлежал. Все эти, а также длинный ряд им подобных соображений, не могут, по-видимому, в настоящее время в ком-либо вызвать возражений.
Гораздо более затруднительным представляется вопрос о значении Р.-Корсакова, как объединителя русского народа. Прежде всего, приходится отметить, что в то время, когда Р.-Корсаков жил и создавал свои произведения, самый вопрос об объединении русского народа большинству русских мог показаться совершенно странным и бесцельным. Единственной группой русского общества, которой подобный вопрос не был совершенно чужд, являлись славянофилы, мечтавшие о воссоединении всех славянских племён, и следует признать, что в деятельности Р.-Корсакова мы сразу легко можем найти доказательства сочувствия автора этим идеям. Безусловный и ярко выраженный националист и народник, Р.-Корсаков не ограничивает области своего творчества только русским народом, но либо, как в “Младе”, непосредственно обращается к воспроизведению быта западных славян, либо, что случается несравненно чаще, воспроизводит в своих творениях не просто русских, а первобытных славян, ещё не разделившихся друг от друга под влиянием политических обстоятельств.
Именно эта сторона деятельности Р.-Корсакова и заслуживает особого внимания с точки зрения занимающего нас вопроса.
Русское искусство вообще отличается от искусства других европейских стран не столько сильно выраженною национальностью, но даже временами почти что этнографичностью, благодаря чему современный различным русским художникам русский человек должен считаться нашедшим себе в искусстве самое яркое и подлинное изображение. В качестве некоторых примеров напомним про произведения Перова, Мусоргского, Достоевского, Тургенева и т.д.
В музыке наиболее ярко современный русский человек, являющийся славянско-татарско-европейской амальгамой, выражен в произведениях Чайковского.
Р.-Корсакова современный ему русский человек, по-видимому, никогда не интересовал, и почти во всех своих произведениях он стремился воспроизвести русского человека ещё того периода, когда ни татарщина, ни европейская культура не видоизменили первоначального славянского облика его. Конечно, в этой области Р.-Корсаков не стоит совершенно одиноко: седая русская старина всегда манила к себе русских художников, часто достигавших в её воспроизведении поистине замечательных результатов. Напомним хотя бы Пимена и ряд других лиц в “Борисе Годунове”, персонажей “Князя Игоря” и т.д. Но все подобные произведения являлись в творчестве данного художника лишь более или менее спорадически, или же, как у Бородина, оставались отдельными гениальными достижениями, не могшими иметь всеобъединяющего значения.
В деятельности Р.-Корсакова наблюдается как раз обратное явление: с исключительной, почти беспримерною настойчивостью, он, при всём многообразии увлекавших его художественных задач, преследует одну единственную цель: воссоздание художественного мира и быта славян, теряющихся во мгле веков, когда славяне ещё не распадались на отдельные государства и не подвергались тому или иному иностранному влиянию.
Снегурочка, Млада, Царь Салтан, Кащей Бессмертный, Золотой Петушок – все эти произведения относятся к доисторической эпохе жизни славян. Но и другой ряд произведений Р.-Корсакова, относящихся уже к периоду исторической жизни славян, образовавших Россию: Псковитянка, Садко, Китеж и т.д., по психологическому укладу своему приводят нас к началам не только русского, но общеславянского мировоззрения, ибо автор тщательно устраняет из своих творений все те, даже ставшие впоследствии, “истиннорусскими”, черты и штрихи, которые внесены в русскую жизнь чужестранными воздействиями. В этом отношении Р.-Корсаков является настоящей противоположностью всем остальным русским композиторам, за исключением, может быть, Глинки и Бородина, которые брали русскую национальность таковой, как она была, устраняя из неё более молодые явления.
За самыми ничтожными исключениями всё творчество Р.-Корсакова зовёт нас от современной сложности жизни к первичным источникам нашего духовного уклада. Пока Россия существовала и была высока и могуча, на обстоятельство это, вообще говоря, обращалось более чем мало внимания. Текущая жизнь захватывала нас целиком, и мы часто готовы были смотреть на образы Р.-Корсакова, как на милые “сказочки” – и в этом надо безусловно видеть одну из причин, благодаря которым Р.-Корсаков, как композитор, приобрёл свою популярность сравнительно с другими русскими композиторами относительно медленно. Теперь , когда Славянство, начиная с русского, унижено, раздроблено и оскорблено в своих лучших чувствах, оценка Р.-Корсакова будет иная. Именно на его образах сойдутся между собой, найдут общие точки соприкосновения разрозненные и разрознившиеся части великого славянского племени, как бы они ни “самоопределялись” в настоящий момент.
С этой точки зрения Р.-Корсаков и Вагнер могут и должны быть сравниваемы с тою только оговоркой, что творчество Вагнера уже осуществило свою задачу и действует только предохраняющим образом, творчество же Р.-Корсакова только ещё должно начать свою созидающую роль. Само собою разумеется, что указанная аналогия в значении Вагнера и Р.-Корсакова для их наций не даёт никаких оснований говорить о сходстве между обоими этими гениями. Наоборот, именно на почве данной аналогии, вникнув в существо творчества Вагнера и Р.-Корсакова, мы можем придти к заключению, что они по отношению друг к другу буквально-таки полярны, являясь представителями двух, так сказать, миров – германского и славянского. Борьба между этими мирами идёт на протяжении уже многих сотен лет и, конечно, не может быть отнесена за счёт одних только политических обстоятельств. Причины её лежат гораздо глубже: в самом мировоззрении германского и славянского племён. Обстоятельство это, идущее, конечно, в разрез с международными утопиями об интернационализме, давным-давно подмечено выдающимися умами.
Германская точка зрения на славянство общеизвестна: славяне – это “Дюнгерфольк”, т.е. народ, более чем ценный, но не могущий иметь самостоятельного политического значения. В наши задачи не входит разбор такого мнения, и мы заметим только, что оно принадлежит народу, непосредственно заинтересованному в одолении славянства. Французы рассматривают данный вопрос существенно иначе: не будучи до сих пор в состоянии точно уяснить себе особенности славянского мировоззрения, они изобрели для его определения характерное название: “Ame slave”, изучение сущности которой они пока производят, главным образом, по творениям Толстого и Достоевского.
Не будем опять-таки касаться вопроса, на сколько плодотворным может быть именно этот путь изучения l’ame slave, но заметим только, что подавляющая часть того, что во Франции написано по поводу “Ame slave”, не отличается особою верностью истины. Для нашей задачи важно только одно: Европа в лице своих лучших представителей как бы инстинктивно чувствует в славянстве нечто совершенно особое, отличное от себя. Думается, что параллель между Вагнером и Р.-Корсаковым кое в чём может уяснить этот вопрос.
С чисто музыкальной точки зрения полярность Вагнера и Р.-Корсакова проявляется меньше всего, ибо мир звуков, очевидно, покоится прежде всего на законах физики (т.е. акустики), а не на законах национальной психологии, в зависимости от чего техника, т.е. грамотность музыкального творчества композиторов различных национальностей не может существенно отличаться друг от друга, и весь вопрос о сравнении техники любых двух композиторов различных национальностей сводится к вопросу о богатстве изобретательности их в области мелодии, гармонии и ритма – этих основных трёх элементов, из которых слагается музыкальное искусство. Что сказать о Вагнере и Р.-Корсакове в этом отношении? Сколько-нибудь точными способами измерения в этой области мы не располагаем, и всякая попытка разобраться в вопросе об абсолютном размере чисто музыкальной изобретательности двух музыкальных гениев, о которых идёт речь, свелась бы к измерению субъективных чувствований автора такого сравнения. Нельзя, однако, не остановиться на одном, к сожалению, весьма распространённом в России мнении, будто Р.-Корсаков чрезвычайно много заимствовал у Вагнера. Одновременно с этим как бы подразумевается, что Вагнер – явление совершенно самобытное и не зависящее ни от одного из живших до него и при нём композиторов. Что касается влияния Вагнера на Р.-Корсакова, то его, конечно, отрицать невозможно. Сам Р.-Корсаков в своей “Летописи” подробно останавливается на этом вопросе и прямо констатирует, что “многие приёмы Вагнера” вошли с течением времени в его “композиторский обиход”. Но явление это должно считаться не только нормальным, но прямо-таки неизбежным, и ещё не было в мире ни одного композитора, который не воспользовался бы, не “ввёл бы в свой композиторский обиход” тех или иных музыкальных изобретений и открытий своих предшественников. Преемственность в искусстве – явление совершенно неустранимое и безусловно желательное, и нельзя забывать того, что Р.-Корсаков по рождению своему лет на 25 моложе Вагнера. С другой стороны совершенно невозможно упускать из вида того, что Вагнер при всём своём гении, может быть, более, чем какой-либо иной композитор “заимствовал, вводя в свой композиторский обиход изобретения” других композиторов, в том числе Листа. Небезынтересно по этому поводу привести следующую историческую справку. Как известно, симфонические поэмы Листа появились в печати почти одновременно и притом более или менее неожиданно: от Листа-пианиста никто не ожидал такого выступления в качестве композитора. Вагнер, конечно, одним из первых изучил произведения своего друга и благодетеля и, как показывают некоторые места его интимной переписки, был совершенно потрясён гениальностью и новизной их. Это впечатление было настолько сильно, что однажды Вагнер, вообще, всегда до самых последних мелочей заботившийся о своей репутации, написал Листу следующую фразу: “Под влиянием твоих поэм я в гармоническом отношении сделался совершенно иным человеком”.
По истечении нескольких лет, благодаря некоторым поклонникам Листа, находившим, что шумиха, поднятая вокруг имени Вагнера, чересчур затемняет деятельность самого Листа, эта фраза Вагнера появилась в печати. Боже, какой вопль поднял тогда, как сам Вагнер, так и друзья его. Сам Вагнер выразился так: мало ли что то, что я написал – правда, распубликовывать это всё-таки нельзя.
Вообще при оценке деятельности Вагнера никогда не следует забывать того, что как сам Байрейтский маэстро, так и его сторонники не мало поработали на пользу того, чтобы создать Вагнеровскую легенду и то, что считается “истиной” про Вагнера, при ближайшем рассмотрении оказывается лишь сильно ретушированной фотографией истины.
Возвращаясь к вопросу о соотношении между Вагнером и Р.-Корсаковым с чисто музыкальной точки зрения, следует – опять-таки не касаясь вопросов об измерении дарований того и другого – сказать, что звуковой материал, которым мог оперировать Р.-Корсаков, несравненно богаче материала, бывшего в распоряжении у Вагнера. Дело в том, что будучи, так сказать, воплотителем при помощи звуков истинно русского славянского мира Р.-Корсаков естественно должен был вовлечь в область своего творчества и восточную музыку со всеми её мелодическими, гармоническими, а также ритмическими возможностями, что конечно открывало совершенно особую область для чисто музыкальных изобретений. Для Вагнера восточная музыка просто на просто практически не существовала, ибо германское племя, если и приходило когда-либо в реальное соприкосновение с востоком, то совершенно утратило об этом всякое воспоминание. Со славянами дело обстоит совершенно иначе: последние арийцы, выброшенные Востоком в Европу, – славяне, в сущности говоря, никогда не теряли связи с востоком. И вся, как доисторическая, так и историческая жизнь их всегда была теснейшим образом переплетена с жизнью их соседей – тех или иных восточных народов.
Это обстоятельство, хотя, может быть, совершенно интуитивно, было постигнуто гениальным основателем музыкального русского искусства – Глинкой, который в своём Руслане широко использовал возможности, открывающиеся для музыканта в восточной музыке. С этих пор восточный элемент почти у всех русских композиторов стал излюбленной областью применения фантазии и изобретательности.
В западноевропейской музыке “восток” также является для многих композиторов крупной приманкой, но особого распространения не получил, ибо главнейшие источники его турки (всевозможные alla Turca, Janitscharen Music), а в последствии Тунис и Алжир (у французских композиторов) не отличались особенным богатством.
Восточный элемент, использованный русскими композиторами, совершенно другого происхождения. Родина его прежде всего – Кавказ, где “обрёл” его ещё сам Глинка. Что создали на почве использования восточного элемента различные русские композиторы, – общеизвестно, и мы не будем останавливаться на этом вопросе, но следует отметить, что Р.-Корсакову, как никому иному, суждено было не только широчайшим образом использовать “восток” для своих творческих целей, но существенно до небывалых пределов расширить эту область. Р.-Корсакову, в творчестве которого элемент фантастичности занимает существенное место, удалось в молодости побывать под Экватором и лично воспринять впечатления от тёплого южного океана с его опьяняющими красотами и негою. О том, посколько сильно было это впечатление, можно судить – независимо от музыки – хотя бы потому, что уже в пожилых годах, излагая свою “Летопись”, написанную, вообще говоря, больше чем простым и далёким от всякой поэзии тоном, Р.-Корсаков находит для описания своих впечатлений под тропиками совершенно особо звучащие, полные восторга выражения.
Подавляющее большинство русских композиторов, использовавших в своих произведениях “восток”, пленялись главным образом страстностью и порывистостью его в связи с возможностью богатейших гармонических и ритмических сочетаний, несмотря на то, что ещё Глинка в своём Руслане не ставил дело так узко. Р.-Корсаков подошёл к данному вопросу по пути, начатому Глинкою и в его “востоке” (Антарь, Шехерезада и т.д.) мы находим целый мир, обнимающий большую гамму всевозможных настроений, а не только страсти и неги, как например у Балакирева, или же дикости и варварства, как у Бородина (Половецкие танцы).
В произведениях Вагнера восток отсутствует вполне, хотя, например, в Парсифале (Klingsor) и был бы вполне мыслим и, может быть, вполне уместен. Объяснение этому обстоятельству несомненно следует искать в том, что Вагнеру – носителю, как выше указано, исключительно германского мировоззрения, восток является вполне чуждым. Говорить о том, на сколько благодаря использованию восточного элемента творчество Р.-Корсакова с чисто принципиальной точки зрения могло быть богаче чисто музыкальными изобретениями и открытиями, чем творчество Вагнера, не приходится: в искусстве имеет значение лишь качество, а не количество, и всё значение только что изложенных соображений сводится лишь к выяснению органической разницы или, как было уже сказано выше, – полярности Р.-Корсакова и Вагнера.
Не меньшее, и притом самого органического свойства, различие между нашими композиторами заключается и в их мировоззрениях на форму музыкальных произведений.
Вагнер по отношению к этой области объявлял себя всегда безусловным революционером. Исходя из известного толкования 9-ой симфонии Бетховена, а также из своих теоретических соображений о древнегреческой трагедии, он – как известно – со всей ему свойственной бурной, неистовой энергией стал на сторону, или вернее, во главе новаторов своего времени. Музыкальная форма определялась для него содержанием музыки, т.е. текста и ситуации, причём Вагнер блистательно осуществил свои теории на практике, дав в своих “музыкальных драмах” действительно высокие, бессмертные творения искусства. Как сами теории Вагнера, так и применение их на практике вызвали к жизни целую огромную литературу, разбор которой отнюдь не может входить в наши задачи. Следует , однако, заметить, что несмотря на то, что Тангейзер и Лоэнгрин появились около 1849г., а сам Вагнер скончался в 1883г., до сих пор вагнеровские теории не послужили основой ни одного сколько-нибудь действительно крупного музыкально-сценического произведения, хотя писать “по Вагнеру” пытались очень и очень многие композиторы. Обстоятельству этому как-то мало до сих пор придаётся значения, но на самом деле оно является весьма знаменательным. Теории Вагнера, несмотря на их внешнюю стройность, являются, в сущности говоря, не теориями для создания сценических произведений, а лишь блестящим изложением существа творческого процесса самого Вагнера. В сущности говоря, вагнеровские музыкальные драмы не созданы согласно теориям автора, а создались в душе композитора совершенно интуитивно, в след за чем в целях, так сказать, оправдания их особенностей была создана самим Вагнером соответственная теория. Неудивительно, поэтому, что в настоящее время совершенно не может быть речи об использовании в полном объёме доктрин Байрейтского “реформатора”.
Подобная точка зрения не умаляет великого значения Вагнера в музыкальном искусстве вообще. Доктрины Вагнера, не представляя собой абсолютной истины, послужили мощным толчком к пересмотру господствовавших в искусстве часто более чем рутинных традиций и взглядов. Кроме того, многое из действительно жизненного, что считается внесённым в область музыкальной драмы лишь Вагнером – например, значение и роль оркестра – на самом деле существовало уже до Вагнера в произведениях различных композиторов, но оставалось как-то незамеченным и во всяком случае мало оцененным. Если мы несколько останавливаемся на данном вопросе, то делаем это потому, что Вагнера очень многие готовы считать за настоящего творца – “музыкальной драмы”, в то время, как на Р.-Корсакова охотно смотрят, как творца “обыкновенных опер”. Ошибочнее подобной точки зрения трудно себе представить что-либо. Главной причиной этого является конечно и “Вагнеровская легенда” т.е. поистине невероятная шумиха, поднятая самим Вагнером, а в особенности его друзьями, которые с усердием, достойным лучшей цели, старались доказать, и помимо того очевидную, музыкальную гениальность Вагнера при помощи логически построенных теорий. Вряд ли, однако, в настоящее время может существовать сомнение в том, что Вагнер “завоевал культурный мир” не своими доктринами, а мощью своего творчества.
Р.-Корсаков, который в резкую противоположность Вагнеру не только отличался скромностью, но был действительно образцом объективного и самостоятельного мышления в вопросах искусства, никогда не выступал ни с какими теориями, работая лишь в области практического творчества. В начале своей композиторской деятельности ему пришлось пережить русскую фазу вопроса о том, как следует писать оперы, т.е., в сущности говоря, вопроса, которому Вагнер посвятил столько томов своей литературной деятельности. Мы имеем ввиду вопрос о “Каменном Госте” Даргомыжского. Многим в то время, и много лет спустя, казалось, что “Каменный Гость” есть именно настоящее разрешение данного вопроса, но Р.-Корсаков, несмотря на свою молодость, сумел не поддаться такому взгляду и вполне сохранил свою самостоятельность, несмотря на то, что находился в самых тесных отношениях с Даргомыжским, по завещанию которого он даже должен был оркестровать Каменного Гостя, чего Даргомыжский по болезни своей не рассчитывал успеть сделать.
Р.-Корсаков до конца дней своих сохранил исключительную любовь к великому творению Даргомыжского, но обстоятельство это также, как впоследствии знакомство с творчеством и доктринами Вагнера, не привело его в оковы какой-либо ограниченной тесными рамками теории создания опер. Для этого он был через чур широко чувствующим и объективным человеком. Поэтому лишь взятое в целом оперное творчество его ясно показывает нам, как собственно он смотрел на задачи и условия сценического творчества. Несколько лет тому назад в русской литературе появилось мнение, что Р.-Корсаков должен считаться творцом так называемого “Синтетического” типа оперного творчества. В объяснениях этого термина автором его мы встретим очень много ценных и безусловно правильных взглядов на оперное творчество вообще, но несмотря на это самый термин “синтетический” должен считаться мало удачным.
В сущности говоря, собственно “опер” у Р.-Корсакова не много, большинство же его творений носят различные и притом весьма характерные наименования: Весенняя сказка, Осенняя сказочка, Опера-балет, Опера-былина, Сказание, Небылица в лицах и т.д., причём структура каждого произведения обуславливается лишь ему свойственными особенностями. Таким образом, в творчестве Р.-Корсакова, взятое в целом, говорит нам, что форма всякого сценического произведения должна являться исключительно функцией самого сюжета. Вагнер с этим обстоятельством не считался и избегал возможных печальных последствий своих теорий лишь таким путём, что брал сюжеты и обрабатывал их известным, определённым, свойственным особенностям его гения образом. Р.-Корсаков не отличался такою исключительностью, как Вагнер. Его душу и сердце, его творческое воображение затрагивали самые разнообразные литературные и музыкальные мотивы и сюжеты и – мудрый художник – он не укладывал их на Прокрустово ложе каких-либо теорий. В различных сценических произведениях Р.-Корсакова мы, конечно, найдём все завоевания и достижения в области вопроса о музыкальной драме или опере, сделанные в различное время различными композиторами. Но такое использование уже открытого отнюдь не может считаться чем-либо вроде эклектизма.
Вот почему между прочим термин “синтетическая опера” по отношению к созданиям Р.-Корсакова должен считаться слишком мало определённым и потому неудачным. Трудно, несомненно, подобрать для сценических произведений Р.-Корсакова один какой-либо общий термин наподобие пресловутого лозунга “музыкальная драма”, от которого, заметим мимоходом, отказался сам автор его, назвав своего Парсифаля не музыкальной драмой, а “Bühnenfestweihspiel”: торжественным и освящающим сценическим действием. Называя свои произведения то сказкой, то былиной, то “небылицей в лицах” и т.д., Р.-Корсаков ясно показывает нам, что задача и средства осуществления каждого произведения совершенно самобытны и присущи лишь данному произведению. Таким образом, произведения эти являются вполне самодовлеющими и, кто знает, может быть, самое лучшее было бы назвать Р.-Корсакова творцом “самодовлеющего музыкально-сценического произведения” в противоположность Вагнеру – творцу Музыкальной драмы.
В тесной зависимости от такого осуществления принципа самодовлеемости Р.-Корсаков не стесняет себя, как то предлагал сделать Вагнер, ни обязательным на протяжении всего произведения переносом определённых функций (например, воспроизведения психических переживаний) на оркестр, ни непрерывностью течения музыкальной ткани, ни наконец какими-либо определёнными правилами об ансамблях, об использовании хоровых масс и т.д.
Там, где это по внутреннему содержанию произведения требуется, Р.-Корсаков создаёт и непрерывно развёртывающуюся музыкальную ткань. Но вообще он безусловный сторонник закруглённой, законченной формы. Всё в жизни, говорит Р.-Корсаков в своей летописи, имеет своё начало и свой конец: почему же на сцене, в опере нельзя допускать законченных номеров?
Чувство архитектоники в музыке было, вообще говоря, сильнейшим образом заложено в душе Р.-Корсакова, и в этом отношении он несравненно более близок к так называемой “абсолютной музыке”, чем Вагнер, который считал таковую умершей. Следует, однако, сказать, что эта склонность к музыкальной архитектонике у Р.-Корсакова всегда подчиняется общим задачам, вследствие чего музыкальные формы, творимые Р.-Корсаковым, бесконечно разнообразны. Как на один из многих примеров, укажем хотя бы на знаменитый пролог к “Царю Салтану”, где заявление о своих мечтах трёх сестёр (кабы я была царицей...) образует удивительно стройное целое. Р.-Корсаков в противоположность Вагнеру не только не обусловливает применение хора рядом специфических условий, но наоборот широко пользуется хоровыми массами, причём ему удаётся путём удивительной дифференциации этих масс создавать действительно живые, полные реальной жизни народные сцены. Уже в самом начале своей деятельности ему удалось создать потрясающую сцену в “Псковитянке”, и это искусство использования хора в дальнейших произведениях его подверглось только дальнейшему развитию и усовершенствованию. Напомним хотя бы сцену ярмарки во “Младе”, или же хоровые сцены в “Садко”.
У Вагнера, обладавшего, как известно, совершенно исключительным пониманием условий сценического произведения, конечно, мы имеем целый ряд поистине удивительных хоровых сцен, но значение их в общей совокупности его произведений несравненно более слабо, чем значение хоровых масс у Р.-Корсакова.
Гораздо сильнее различие между Р.-Корсаковым и Вагнером в области обращения с человеческим голосом и в особенности с речитативами или, вернее, с музыкальной декламацией. Как известно, поскольку можно говорить о недостатках в произведениях Вагнера, музыкально-декламационная их сторона является наиболее слабой. Нередок случай, когда на долю певца у Вагнера достаётся лишь произнесение слов на нотах, гармонически комбинирующихся с музыкальной тканью. У Р.-Корсакова мы никогда не встретим подобного обращения с голосом певца, что, впрочем, более чем понятно, если принять во внимание, что Корсаков – русский композитор и вырос на образцах Глинки, Даргомыжского, а также Мусоргского, т.е. на школе так называемой музыкальной правды. Как известно, школа эта ставила непременным условием вокального произведения, чтобы сам голос выражал все малейшие изгибы чувства, характеризованного словом. Интонация таким образом приобретает существенное значение, сопровождающий же голос музыке предоставлялось лишь гармонически подкреплять эту интонацию и увеличивать её воздействие на слушателей. По пути достижения этой цели русскими композиторами был пройден долгий путь – от великих романсов Глинки, где интонация голоса при всей её выразительности и соответствии чувству имеет явный уклон к чистой мелодии, до “Каменного Гостя” Даргомыжского и “Женитьбы” Мусоргского, где местами партия певца представляет собою просто интонацию декламации.
Такого направления вокальной композиции в Европе не существовало никогда, и лишь сравнительно за самое последнее время, под влиянием увлечения Мусоргским, у европейских композиторов начал ставиться в очередь и этот вопрос. Р.-Корсаков, благодаря своей удивительно уравновешенной художественной натуре, никогда не увлекался крайними теориями музыкальной правды. Ещё в ранней молодости, принадлежа к тесному кружку друзей Даргомыжского в период создания “Каменного Гостя” и состоя в самых близких отношениях с Мусоргским, – он отдавал должное и преклонялся перед рядом достижений этих композиторов, но сам в своём творчестве не шёл далее известных пределов, диктовавшихся ему его врождённым инстинктивным чувством к абсолютной музыке. Поэтому речитативы и вообще партии голосов в произведениях Р.-Корсакова отличаются весьма большим разнообразием, безусловно, так сказать, реальны, т.е. точно соответствуют изгибам голоса и настроения, но всегда более или менее имеют уклон в сторону мелоса и никогда не опускаются до такой степени, которая так часто встречается у Вагнера – степени чисто служебного значения. Человеческий голос никогда не рассматривается Р.-Корсаковым, как один из инструментов, находящихся в распоряжении композитора. В тех или иных моментах сценического действия он может не принимать участия вовсе, но там, где он выступает, он является господином положения и естественно имеет самостоятельное значение, не зависящее от того, в какой степени поддерживает его и усиливает его действие оркестровая ткань. Что касается владения оркестром, то исключительное мастерство Р.-Корсакова в этом отношении давным-давно является общепризнанным, причём даже, к сожалению, нередко приходится слышать мнение, будто центр тяжести значения Р.-Корсакова лежит именно в искусстве оркестровки. Само собой разумеется, ничего более ошибочного и несправедливого нельзя сказать по отношению к великому художнику. В последующем изложении мы должны будем коснуться вопроса о причинах того, что Р.-Корсаков в течение всей своей жизни не получил того признания, которого он заслуживал; здесь же мы ограничимся лишь констатированием того факта, что как мелодическое и гармоническое, так и ритмическое творчество Р.-Корсакова является бесконечно богатым и принадлежит вообще к высшим достижениям человеческого духа.
За отсутствием каких бы то ни было точных измерительных приборов невозможно, конечно, реально сравнивать в этой области Вагнера и Р.-Корсакова*, но во всяком случае следует сказать, что мощь творчества обоих этих композиторов составляет как бы две вершины, высоко возвышающиеся над уровнем всего их окружающего.
Выше мы охарактеризовали Р.-Корсакова и Вагнера, как гениальных воплотителей и выразителей души народностей, к которым они принадлежат, и лишь стоя на этой плоскости рассмотрения можно детально разобраться в той глубочайшей разнице, которая существует между творчеством обоих этих композиторов.
Р.-Корсаков – славянин, и как таковой он, подобно славянам седой древности, – пантеист. Природа с его точки зрения не только вечно прекрасна, всеобъемлюща, но и непосредственно обуславливает всю жизнь человеческую, которая растворяется в ней, представляя собой ничто по сравнению с вечно живущей и вечно обновляющейся, всеохватывающей мощью Матери-Природы. Как известно, славянам в силу исторического хода их жизни не суждено было объединить свою теогонию в одно стройное целое, наподобие, скажем, греков или – хотя в значительно более слабой степени – германцев, и Р.-Корсаков не мог, поэтому, подобно Вагнеру создать какое-либо тео- или космогоническое целокупное произведение. С тем более удивительным терпением и настойчивостью Р.-Корсаков собрал и в гениальных образах воплотил, так сказать, отдельные моменты религиозной жизни славян, поскольку они были созданы этим народом.
Центральное место в этой области занимает культ солнца, который и запечатлен Р.-Корсаковым в его Снегурочке (весна), в Младе (лето), в Ночи перед Рождеством (зима), а также в некоторых других произведениях, как например в Майской Ночи. В то время, когда жил и творил Р.-Корсаков, песнопения, созданные древними славянами для празднования ими отдельных моментов их религиозного культа, а также некоторые обряды, которыми сопровождался этот культ, существовали ещё хотя, конечно, в различной степени сохранности, в народных толщах России. Ряд незаметных тружеников собрал их и запечатлел на бумаге, и из этого сырого материала Р.-Корсаков воссоздал нам во всей их чарующей красоте бессмертные и полные жизни образы из духовно-религиозного быта славян.
Образы эти одинаково понятны, доступны и дороги не только отдельным разновидностям славянского племени, составляющим Русскую Империю, но несомненно – и, может быть, уже в самом близком будущем с такою же силою (будут?) ударять по сердцам и тех славян, которые в силу исторических судеб оказались в виде отдельных островов заброшенными в чужеземном море, как это, например, случилось с чехами. Наряду с крупными религиозно-бытовыми обрядами Р.-Корсаков всегда любовно посвящал свои силы и более мелким, отдельным бытовым явлениям славянской и древнерусской жизни, вследствие чего его произведения всегда останутся нетленными памятниками исконно русского быта.
В руках более мелкого художника подобное направление могло привести к созданию интересных в этнографическом, и только в этом отношении произведений, но гений Р.-Корсакова – коренного русского славянина по происхождению, проведшего своё детство в скромной и тихой, но чарующей и полной пережитков далёкой старины обстановке Тихвинского уезда Новгородской губернии, претворил материал, поступавший в его распоряжение в художественные, полные жизни картины и образы.
Из биографии Р.-Корсакова мы знаем, сколько времени своей беспримерно трудовой жизни он отдал на изучение русской народной песни, которая с её мелодическими, а также ритмическими особенностями вошла, так сказать, в плоть и кровь композитора, благодаря чему огромное количество созданных Р.-Корсаковым напевов и тем совершенно неотличимы от подлинно народных. В этом отношении Р.-Корсаков явился истинным продолжателем и, может быть, завершителем творческих мечтаний Глинки, который, выростя подобно Р.-Корсакову в русской деревенской глуши, среди песен, часто сохранённых народом от доисторических времён, инстинктивно чувствовал в русской песне нечто настолько самобытное, мощное и богатое, что считал возможным положить это “нечто” в основу здания русского музыкального искусства.
У Глинки для осуществления этой задачи, однако, был в распоряжении только один непостижимый его гений, соединявшийся с необычайной интуицией. У Р.-Корсакова, начавшего свою деятельность четвертью века позднее Глинки и отличавшегося, кроме того, исключительной работоспособностью, кроме гения и интуиции было в распоряжении огромное количество звукового материала, собранного на Руси. Работа над этим материалом позволила ему приобрести и настоящее познание русской песни, без которого, конечно, далее более или менее удачных опытов пойти нельзя.
Это “познание” русской песни и творческие результаты, достигнутые Р.-Корсаковым на этой почве, несомненно, имели бы своё огромное всегда и при всяких обстоятельствах, но судьбе было угодно, чтобы именно эта сторона деятельности Р.-Корсакова приобрела поистине безразмерное значение, ибо уже ко времени конца жизни создателя Снегурочки русская сложившаяся историческая песня стала быстро вымирать в народе. По совести говоря, она сохранялась в России необычайно долго, чему причиной является отсталость развития главной массы населения России от развития народов других стран.
То, что у народов Западной Европы считается народной песнью, в сущности говоря, является чем-то совершенно иным, чем русская народная песня. Эта последняя создана действительно самим народом и в известной степени ещё в незапамятно-древние времена. Европейская “народная песня”, наоборот, в подавляющей части своей создана композиторами, отчасти даже известными нам и сделалась народной, получив распространение в народе. Поэтому, как верно чувствовал и утверждал Глинка, русская народная песня могла и должна лечь в основу русской музыки, чего, конечно, нельзя сказать о европейской “народной песне”.
Как в дальнейшем сложатся судьбы русского музыкального искусства – предугадать нельзя, но несомненно одно: благодаря обширному записанному материалу этих песен, а также благодаря творчеству русских композиторов, начиная с Глинки, выросших в атмосфере русской песни, русское музыкальное искусство всегда будет обладать источником, какого не имеется у музыкального искусства ни одной из европейских стран.
Значение Р.-Корсакова как гениального последнего современника живой русской песни, положившего её в основу своего творчества, конечно никогда не сможет быть в достаточной степени оценено. Вагнер в своём творчестве находился в совершенно иных условиях: от древнегерманского мира, над воссозданием которого он трудился, музыкальных следов не осталось никаких. Весь имевшийся материал сводился к области литературы, которой Вагнеру и пришлось серьёзно заняться. С необычайным проникновением в дух германизма Вагнер сумел из разрозненных литературных обрывков создать литературную основу для своей музыки, но за отсутствием исторического материала для последней он естественно должен был отказаться от бытового, собственно народного элемента и перенести центр тяжести в область психологии, т.е. во внутрь своего “я”, для которого у него – истинного германца – естественно нашлись богатейшие звуковые краски.
Это перенесение Вагнером центра тяжести своего творчества в область личной психологии естественно приводило к выделению и возвеличению личности, а это прежде всего несомненно отвечало самым основным элементам психологии германского народа, который, как показывает вся его история, всегда питал совершенно особый культ героев, т.е. личности. С другой стороны, сам Вагнер, как истинный сын своего народа, был человеком более чем властным и в жизни своей отличался крайней самостоятельностью; узкий эгоист в личных делах, он был весь проникнут чувством величия своего “я” и величия взятых им на себя задач, при осуществлении которых он не допускал никаких препятствий.
Р.-Корсаков – верный и подлинный сын славянства – является натурой прямо-таки противоположной натуре Вагнера. В личной жизни он был идеалом скромности, и как огня боялся на кого-либо оказывать давление, несмотря на то, что колоссальность его личности давала для этого все основания. Влюблённый в вечные красоты природы и видящий в ней проявление Высшего Начала, он смиряется перед Космосом, по отношению к которому каждая отдельная личность является чем-то преходящим. И только, может быть, совокупность личностей – народ, вправе составлять нечто более самостоятельное и веское. Личность, как таковая, конечно, в произведениях Р.-Корсакова не только не отсутствует, но занимает чрезвычайно важное место, но воссоздание этой личности у Р.-Корсакова совершенно своеобразно: почти исключительно в пределах отношений или связи этой личности с Космосом-природой.
В одних случаях “личность” в произведениях Р.-Корсакова является посредником между Высшей Силой-Природой и людьми, делающим людей причастными вечной Красоте или истолковывающим людям веления Высшего Начала.
Таковы: Лель в Снегурочке и Садко.
В других случаях “личность” является проповедником, вождём и примером, зовущим и влекущим ввысь – к Высшему Добру и Вечному Свету. Такова, между прочим, дева Феврония. Типы других категорий в произведениях Р.-Корсакова спорадичны и, вообще говоря, являются синтетическим воплощением какого-либо общего, опять-таки по отношению к Космосу понятия или представления, как, например, Царь Берендей – благости, татары в Китеже – зла и т.д.
Вечно юная, прекрасная Природа не знает зла личного. Против неё борются, правда, известные тёмные силы. Но эти силы безличны и притом участь этой борьбы против Света предрешена в смысле победы Света. И в произведениях Р.-Корсакова зло всегда как бы безлично. Зло в изображении Р.-Корсакова конечно отталкивает от себя душу слушателя, но лишь самым принципом своим, а не своей индивидуальной преступностью. Гаген или Клингзор в творчестве Р.-Корсакова немыслимы. Его герои зла, так сказать, схематичны.
В душе художника они при своём возникновении ненависти не возбуждали: ибо всё равно судьба их предрешена заранее, и они служат скорее всего тенью, заставляющей ещё более сиять свет. В общем трактовка Р.-Корсаковым своих сюжетов и персонажей вернее всего может быть охарактеризована как эпическая. Страсти, горе и радость, счастье и несчастье, волнение и злоба – всё это в произведениях Р.-Корсакова не имеет злободневной остроты и напряжённости, а, наоборот, изображается в каком-то как бы смягчённом и, во всяком случае, спокойном свете. Автор, как мудрый и вещий художник, обладает своим, ему одному известным знанием Высшего, перед которым всё человеческое преходяще.
Центральной фигурой всего творчества Р.-Корсакова является светлая, недоступная человеческим дрязгам Дева, которая любя и страдая, ведёт своего любимого человека, а также и людей вообще, ввысь – в мир вечного Света и Радости. Иногда эти героини Р.-Корсакова – сверхъестественного происхождения: Снегурочка, Волхова-Царевна, Лебедь-Птица и т.д. В других случаях это – смертные, отмеченные выше особой чистотой и святостью, или же очистившиеся страданием и смертью: Млада, Феврония, Панночка, Сервилия. Наиболее реальные типы этой категории – Ольга, Ганна, Вера Шелога – в существе своём весьма близки к вышеназванным “неземным” типам.
По сравнению с кротостью, можно сказать лучезарностью, беззаветной преданностью любимому человеку и устремлённостью ввысь героинь Р.-Корсакова даже самые кроткие героини Вагнера: Елизавета и Сента кажутся совершенно земными и грешными, не говоря уже о бурнопламенной Брунгильде, которая, потеряв своего возлюбленного, не задумывается погубить весь мир, или о полной всепожирающей страсти Изольды.
Героини Р.-Корсакова даже в этих случаях, когда они принадлежат языческому миру, сильнейшим образом приближаются к женскому типу, создавшемуся в нашем воображении для эпохи первого христианства. Любовь их чиста, беззаветна и бесконечна и, погибая вследствие этой любви, они никогда не испытывают чувства отчаяния, а так сказать блаженно растворяются в Космосе: Снегурочка, Волхова-Царевна. Ни о каком искуплении, которое, как известно, является одним из основных психологических мотивов у Вагнера, у Корсакова и речи нет. Для его героинь всё светло и просто, без каких бы то нибыло “изгибов души” и без мерцающего мрака “тайны”. Конечно, при желании, можно сказать, что героини Р.-Корсакова по сравнению с героинями Вагнера слишком бесплотны, мало реальны и слишком далеки от жизни, но причины этого обстоятельства лежат не столько в индивидуальности самого художника, сколько в психологии той нации, сыном и воплотителем душевного мира которой он является. Если мы вспомним русские женские типы, созданные в различное время различными русскими писателями – возьмём, например, хотя бы Пушкина и Тургенева – то мы не можем не найти в них органического сходства с типами Р.-Корсакова, поскольку сходство это не затемняется условиями искусства, их изображающего: музыка, благодаря самому существу своему, могла воспроизвести эти типы в более внутреннем, так сказать, абсолютном существе их, чем литература, не могущая воспроизводить типы без реальной обстановки места и времени.
В тесной связи с подобным глубоконациональным взглядом и подходом к “вечно-женственному” и находится то обстоятельство, что во всём творчестве Р.-Корсакова мы не найдём нигде действительно сильного изображения “пожара страсти”.
Не то мы видим у Вагнера, который с известной точки зрения является эротиком чистейшей воды и который умеет находить поистине потрясающие звуки для изображения всепожирающей страсти. Любовная страсть занимает в творчестве Вагнера едва ли не центральное место. Насколько Вагнер действительно считал именно страсть главным фактором человеческой жизни, видно хотя бы из того, что в наиболее зрелом и проникновенном произведении своём – в Парсифале – он находит возможным воспроизвести победу Парсифаля лишь над одним искушением – искушением страсти и физической любви, победив которое Парсифаль сразу оказывается достойным высшего блаженства. Правда в тексте Парсифаля есть указание, что “сердцем чистый, простец святой” одолел на своём пути к вечному блаженству также ряд других соблазнов и искушений, но о сущности их мы так таки ничего и не узнаем из всего грандиозного творения Вагнера.
При таком миросозерцании, при такой оценке значения “пожара страсти” Вагнер и в самой природе видит, находит созвучия и поддержку своему настроению. Яркими примерами в этом отношении могут служить “пришествие весны” в Валькирии, а также “шелест леса” в Зигфриде. У Вагнера природа волнует человека, пробуждает и повышает не только его чувства, но и чувственность.
В этом “чувственном” уклоне психология Вагнера несомненно заключается одна из причин того всепокоряющего действия его творений на массы слушателей. Покоряясь действительно одурманивающему и опьяняющему воспроизведению порыва страсти, звучащему с бесчисленного числа страниц Вагнеровских партитур, тысячи слушателей охотно “прощают” автору многое и даже весьма многое, принадлежащее всецело к области искусства, недоступного широким массам.
Р.-Корсаков в области “страсти” является настоящим антиподом Вагнера. Даже в таких случаях, как, например, в Снегурочке, где весна, палящий жар солнца и любовь являются центром всего произведения, он не рисует нам никакого “пожара страсти”. Любовь у Р.-Корсакова лишена чувственного элемента: чувственная страсть преходяща, мир же – Великий Космос – вечно сиял и будет сиять людям ровным непреходящим светом, в котором всё лично-человеческое теряет свою сторону. Восприятие Р.-Корсаковым лично человеческого во многих отношениях напоминает нам отношение к этой области со стороны первоначального христианства с тою, конечно, существенною разницею, что аскетизма, к которому, как известно, быстро пришли не в меру ревностные последователи Христа, мы у Р.-Корсакова не найдём нигде, несмотря на то, что христианству, и в частности христианству византийского происхождения, получившему на Руси столь крупное значение, он в своём творчестве уделял не мало внимания. Наивысшим достижением Р.-Корсакова в этом отношении, конечно, является “Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии”, в котором он с непостижимой проникновенностью сумел воспроизвести самые глубины религиозного мировоззрения толщ русского народа, который ещё перед самой революцией многими тысячами совершал паломничество к озеру, на дне которого стоит и живёт своей светлой жизнью град Китеж.
Именно этот глубоко-национальный подход к тайне Китежа и делает это творение Р.-Корсакова такой противоположностью Парсифалю, что ни о какой параллезации их и говорить нельзя. Китеж – художественное воплощение Восточной, Византийской и в частности руссковизантийской религиозной мысли и чувства. Парсифаль же воплощает западноевропейские мысли и чувства. Между Западной и Восточной церквами, между католицизмом и кафолицизмом, совершенно независимо от чисто догматических различий между ними, имеется та коренная разница, что западная религия насквозь проникнута поистине одурманивающим мистицизмом; религия же востока, Византия, не отрицая, конечно, “таинств” и своего рода мистики, чужда дурманам мистики и отличается простым, временами пожалуй даже трезвым подходом к религиозным вопросам. Едва ли не наиболее ярко проявилась эта “простота” в Четьях Минеях – этом эпическом, глубоко-национальном изложении жития святых, легшим в основу русского религиозного творчества.
В “Парсифале” – всё таинственно и непостижимо, начиная с самой Кундри и кончая Титурелем “таинственно сохраняющем жизнь в гробу”. Религиозно-философский мотив искупления, который, кстати сказать, вообще составляет у Вагнера нечто вроде “idee fixe”, господствует над всем “Парсифалем”.
В “Китеже” всё просто. Сама героиня – Феврония –смиренная угодница Божия – и в церковь не ходит, не говоря уже о том, что совершенно незнакома ни с какой “догмой”. Она – святая простота. Храм Божий, радость и смысл жизни она видит в природе, в которой “день и ночь – служба воскресная” и с которой она сливается в одном общем чувстве славословия Творцу Вселенной. Рай в “Китеже” также лишён каких бы то ни было таинственных мистических прообразов. Это – царство Высшего Света и Духовной Радости, настолько близкое и доступное человеку, что из него к страждущим и мучающимся на земле людям можно даже послать “грамотку”.
Следует, конечно, помнить, что собственно духовным композитором Р.-Корсаков никогда не был, а касался религиозной области лишь настолько, поскольку она имела значение в человеческой жизни. Религиозность в произведениях Р.-Корсакова имеет таким образом чисто бытовое значение. Без этого воспроизведения “души русского народа”, конечно, не могло бы быть полным. Весьма знаменательна поэтому та часто встречающаяся в произведениях Р.-Корсакова наивная и трогательная смесь христианства и язычества, которую, например, мы видим в Садко или в Царе Салтане. Христианство, войдя в плоть и кровь славян, тем не менее не могло вытеснить известных пережитков язычества, причём оба эти казалось бы непримиримые элементы отлично сжились между собой. У Р.-Корсакова этот симбиоз взаимно исключающих мировоззрений находит себе не только яркое живое воплощение, но и подлинное объяснение в чувстве Космоса, в пантеистическом взгляде на мироздание.
Вот почему те люди, которые особенно сильно умеют понимать и сознавать Космос и передавать это чувство людям – по пониманию Р.-Корсакова эти люди художники- особенно дороги и милы сердцу нашего композитора.
Мы уже говорили о том, что Лель и Садко с особою любовью созданы Р.-Корсаковым. К этой же категории лиц относятся вещие баяны, гусляры, калики-перехожие и т.п., под рокот струн, под звуки пения которых народ отвлекается от текущей жизни в величавую область Красоты и Истины. Мысль об особом, высшем значении художника, как посредника между Космосом и человеком, увлекающего последнего ввысь, не чужда и Вагнеру. Его Вальтер в Мейстерзингерах – настоящий, Божией милостью художник – также является как бы стоящим над толпою, которую он ведёт за собой ввысь силою своего пения, которому он научился у природы. Если, однако, вникнуть в сущность значения личности Вальтера несколько глубже, то мы должны будем признать, что в Мейстерзингерах мы имеем не воспроизведение апофеоза искусства, как такового, а апофеоз свободы искусства от рамок и оков, навязанных ему бездарными педантами искусства. В конечном итоге эти апофеозы несомненно приводят к одному результату, но для нас важно отметить именно это обстоятельство, лишний раз характеризующее разницу психологий обоих композиторов.
Из всего изложенного видно, насколько органично различие в психологии Р.-Корсакова и Вагнера. Коснёмся ещё одной области, в которой также с необыкновенной ясностью проявляется это различие: Р.-Корсаков – пантеист, убеждённый служитель красоты, не мог не быть органическим оптимистом. Отношение его к злу уже отмечено выше, здесь же отметим только, что именно благодаря оптимизму Р.-Корсаков не мог подобно Вагнеру, почти совершенно ограничить своего творчества рамками трагедии и драмы. Жизнь разнообразна, как разнолик и многообразен Космос, и рассматривать её лишь под углом зрения трагических проблем и коллизий, несомненно, значило бы искажать сущность её. Увлечение Вагнера учениями пессимизма общеизвестно. Кроме того, по самой натуре своей он был типичным драматиком. В пафосе драматизма он стремился если не обхватывать весь микрокосмос, то во всяком случае найти его смысл.
Р.-Корсаков по натуре своей был эпик, и именно этот уклад его души тянул его к истинно народному художественному творчеству. Вот от чего в творчестве Р.-Корсакова мы лишь сравнительно редко встречаемся с настоящей драмой и наоборот находим сказки, былины, сказания и т.п.
Нельзя не отметить также, что именно эта область художественного творчества народа независимо от своего внутреннего психологического уклада бесконечно богата самыми разнообразными возможностями для приложения и проявления самой прихотливой, самой пышной фантазии художника, что именно для Р.-Корсакова имело исключительное значение. Изобретательность его в области фантастики бесконечна. Чародей звука, непостижимый мастер оркестровых красок, он нашёл в сказках, былинах и песнях русского народа бесчисленные стимулы для проявления своего гения, благодаря которому мы являемся ныне обладателями бесконечно высоких образов, неразрывно связанных с народной душой славянина: заколдованные леса, светлые и тёмные духи, ведьмы, лешие, бесконечно разнообразный в своих проявлениях, но всегда полный чарующей красоты море-океан, звёздное небо, обольстительно-таинственные картины востока – всё это являлось излюбленной областью творчества Р.-Корсакова.
Иногда, на первый взгляд, образы эти имеют как бы даже шутливый характер: автор сплошь и рядом относится к “чудесам” с лёгким и тонким юмором, но под этой ласковой поверхностью приветливо журчащих сказочных небылиц мы инстинктивно начинаем постигать смысл глубокого значения, так сказать, первичных движений народной души.
У Вагнера юмор отсутствует совершенно. Единственное его произведение, в котором он имел ввиду отдать дань Комическому в Искусстве – это Мейстерзингеры – весьма далеко от сущности Комического.
В сущности говоря, Мейстерзингеры являются полною злобою и желчью пародией, бичующей изуверство музыкального искусства. Вместо смеха слышится бич Сатиры...
Насколько отлична от этого злого смеха, мягка, полна чарующей красоты и тонкой, но добродушной иронии “Сатира” Р.-Корсакова в Золотом Петушке!
Опять-таки: ещё лишний пример полярности славянского и германского композиторов.
Рассмотрение наше различие между Р.-Корсаковым и Вагнером закончено. Автор ни в малейшей степени не обольщает себя мыслью, что рассмотрение это является сколько-нибудь исчерпывающим данный вопрос, и считает свой труд лишь первой попыткой проникнуть в ту область, в которой надлежало бы начать работать.
Всякая “литература” по поводу музыкальных произведений весьма затруднительна и относительна, ибо как найти слова для того, что так свободно и убедительно излагает нам сама музыка! Если бы это было всегда возможно, то не было бы разве излишне само музыкальное искусство. Поэтому ко всем тем, кто заинтересуется изложенными мыслями, автор обращается с просьбой проверить их музыкально. Для этого следует только непосредственно друг за другом прослушать хотя бы следующие “пары” отрывков из произведений Р.-Корсакова и Вагнера: Сцена таяния Снегурочки. Смерть Изольды. Прощание с Садком Волховы Царевны. Прощание Брунгильды с Зигфридом. Похвала Пустыне. Шелест леса. Сцена Весны Красны и Снегурочки. Дуэт Зиглинды-Зигмунда. Изображение татар (зла) в Китеже. Сцена Альбериха, Гагена или Клингзора.
Типография О. Штольберг и Ко., Берлин
Анри Лиштанберже Рихард Вагнер как поэт и мыслитель.
Анри Лиштанберже. Рихард Вагнер
СПб., 1904
СОДЕРЖАНИЕ
Вступление Библиография
Глава I: Детские и юношеские годы Вагнера
Глава II: Вагнер в Дрездене
Глава III: Вагнер в изгнании
Глава IV: Возвращение Вагнера в Германию. Байрейтское предприятие
Глава V: Заключение
Вступление Библиография
ПРЕДИСЛОВИЕ
В нашей переводной литературе есть один непростительный пробел: мы как будто забыли о первоклассном немецком поэте-мыслителе Рихарде Вагнере. Правда, у нас есть кое-какие свои намеки в виде приложений к театральным либретто его музыкальных драм, в виде маленьких биографий и от времени до времени появляющихся пустеньких брошюрок; но это очень слабые намеки.
То, что писал о Вагнере Ницше, не может дать нам правильной оценки Вагнера как поэта и мыслителя; что сказал о нем в своем "Вырождении” Нордау, мы считаем пошлым и несерьезным. Тот, "кому, — как говорит новейший историк немецкой литературы Куно-Франке, — немецкая литература обязана первым энергичным провозглашением художественных идеалов будущего, идеалов коллективистического пантеизма”, достоин и у нас на Руси более объективной и более правильной оценки. На Западе, как известно, о Вагнере существует целая литература, среди которой много очень серьезных, чисто-научных исследований и работ, у нас же — почти ничего; а потому мы позволяем себе предложить русской большой публике свой перевод работы одного из добросовестных и беспристрастных критиков Рихарда Вагнера, — профессора-филолога Анри Лиштанберже.
С. Соловьев.
Декабрь 1904 г.
ВСТУПЛЕНИЕ
Вагнеровская драма. — Философия Вагнера. — Эстетика Вагнера.
— Общий план. — Библиографические указания.
Творчество Рихарда Вагнера представляет интерес не только для истории музыки, но вообще для истории искусства и цивилизации в Германии. В самом деле, Вагнер создал новую форму искусства, музыкальную драму. В его критических сочинениях, которые составляют документ бесконечно ценный для эстетики музыки, изложенный в отвлеченных теориях, мы находим законы его драмы и искусства вообще. Наконец, как все великие художники, размышляя над вечной проблемой значения жизни, он и нам сообщил свои идеи о судьбе человека как в символической форме своих драм, так и в отвлеченной форме своих теоретических сочинений. Одним словом, он не только музыкант, талант которого в настоящее время почти уже неоспорим, но кроме того — драматург, эстет и мыслитель. С этой троякой точки зрения мы и намерены здесь рассмотреть его.
Прежде всего несколько слов о драматическом творчестве Вагнера.
До Вагнера вопрос о соединении драмы и музыки почти все время затрагивал музыкантов, и они решали его каждый по-своему. Одни отводили больше места драме и старались как можно вернее сообразовать музыку с той поэмой, которую она должна была переводить, создать, насколько возможно, искреннюю и верную лирическую декламацию; другие, напротив, утверждали за музыкой право и необходимость следовать своим собственным законам и вместе с Моцартом провозглашали, что "в опере безусловно необходимо, чтобы поэзия была послушною дочерью музыки”. Но никогда почти не задавались вопросом, становясь на точку зрения драматурга, и не старались установить тот определенный вид, в каком должна существовать драма, предназначенная к положению на музыку. В союзе музыканта с поэтом главным действующим лицом был вообще музыкант; поэт как лицо подчиненное, работая по заказу, старался изо всех сил угодить музыканту и слишком часто с успехом только мешал ему; в выборе сюжетов и в манере обращаться с ними он применялся к установленным традициям, не заботясь подвергнуть те же традиции сколько-нибудь серьезной критике. Одна же из самых оригинальных сторон реформы Вагнера, соединяя в его лице поэта с музыкантом, ясно поставила вопрос о соединении драмы с музыкой на двойную точку зрения драматурга- композитора и первая дала подробную и точную теорию того, какова должна быть драма, "задуманная в музыкальном духе”. Чтобы установить тип музыкальной драмы, Вагнер кладет в основание внимательное изучение выразительных средств, свойственных поэзии с одной стороны, и музыке — с другой. Цель всей поэзии вообще и драмы в особенности — всегда изображать человеческую душу, или, по выражению Вагнера, "внутреннего человека”, его чувства, его эмоции, — а также и в душе зрителя вызывать соответствующие эмоции. Только эта передача эмоций не происходит посредственно, а совершается орудием слова, стало быть, через посредство разума. Эмоции действующих лиц драмы претворяются в слова, которые, будучи восприняты зрителями, превращаются снова в эмоции. Но между эмоцией начальной и словом, которое служит знаком ее, нет необходимой и естественной связи: слово хорошо может указывать на причины эмоции, радости, скорби, или анализировать их действия, или еще — точно определять, при каких обстоятельствах эта эмоция произошла; но оно не в силах выразить, дать почувствовать эмоцию, скорбь, радость самих в себе. Стало быть, поэзия не передает начальной эмоции непосредственно душе слушателя; она только подсказывает аналогичную эмоцию благодаря слову, которое действует на разум, а потом на воображение. С другой стороны, что такое музыка? На этот вопрос нет определенного ответа; музыкальное чувство — недоступная тайна для ума, и было бы совершенно напрасно желать доказать, что она выражает нечто такое, что приписывают ей некоторые музыканты. Однако все имеют смутное чувство того,что существует тесная связь между миром эмоций и звуков, что музыка способна непосредственным действием на чувства возбудить в нас очень сильные, хотя и очень неопределенные эмоции. Отсюда Вагнер заключает, что музыка и есть именно то адекватное и непосредственное выражение эмоции, которого не может найти слово. Поэзия исходит от сердца и через посредство разума и воображение говорит сердцу; музыка исходит от сердца и говорит непосредственно сердцу, не имея иного посредника, кроме чувства слуха. Каждое из этих двух искусств находит одно в другом свое естественное дополнение. Голое чувство, которое уже не может быть выражено словом, стремится вылиться наружу при помощи музыки, трогательный язык которой дивно способен выражать наши задушевные радости и печали. Но музыка, в свою очередь, нуждается в помощи слова для точного выражения того, что она хочет сказать. Предоставленная своим собственным средствам, она не в силах вывести нас из туманной области простой эмоции; это какой-то близкий и сильный голос, который потрясает самые потаенные фибры нашего сердца, но ничего не говорит нашему уму. Поэтому-то Бетховен, заставив в своих первых 8 симфониях одну музыку высказать все, что только она могла высказать, как вдохновенный гений решается в конце девятой симфонии приобщить к оркестру человеческий голос: он пророчески провидел, что музыка может выполнить самое высокое назначение только в связи с поэзией.
Теперь понятно, как слово и музыка могут соединяться в лирической драме. Поэт должен будет дать внешний план действия: ему одному надлежит вводить действующие лица в драме, располагать ими во времени и пространстве, точно определять: кто они, к чему стремятся, чего хотят. Тогда музыкант разоблачит пред нами, что происходит в глубине их сердец, заставит нас принять участие в их внутренней жизни, вибрировать в унисон с их радостями или их скорбями. Таким образом, от союза слова и музыки произойдет художественный образ жизни, самый высокий, самый полный, какой только можно себе представить. "Но, — заключает Вагнер, — это соединение только тогда может оказаться плодотворным, когда музыкальный язык сольется с теми элементами, которые в разговорном языке имеют наибольшее сродство с музыкой. Определенное место, где происходит слияние двух искусств, — это пункт, где разговорный язык проявляет непреодолимое стремление выразить эмоцию в ее наличной и ощутительной действительности. А этот пункт определяется самой природой мотивов, с которыми приходится иметь дело и содержание которых может быть более интеллектуально или эмоционно. Предмет, дающий пищу только уму, зато и переводим только на разговорный язык; чем больше клонится он к проникновению эмоцией, тем еще больше требует для полного выражения своего тех выразительных средств, которые может дать только один музыкальный язык. Таким образом, природа предметов, открывающихся поэту-музыканту, определяется самою силою вещей; его область — вечно человеческое, чуждое всякого условного элемента.
Легко видеть, что драмы, построенные на таких началах, лишь весьма несовершенным образом могут отвечать на требования нашей театральной эстетики, и это в силу самого их определения. В самом деле, для Запада основной элемент всякой поэзии, и в особенности поэзии драматической, есть действие, и существенная задача драматурга состоит, следовательно, не в том, чтобы выражать ряд эмоций, но чтобы изображать завязку с ясно определенными фазами. Только, с другой стороны, надо хорошо заметить, что такая всецело внутренняя, вполне эмоционная драма, какою ее определяет Вагнер, не так необычайна в Германии, как она необычайна во Франции. В самом деле, в глазах немцев — расы, кажется, крайне идеалистической и склонной более к мечтам, чем к действительности — внутренняя жизнь человека, мир идей и чувств представляет больше интереса, чем внешние, активные проявления этой жизни. Такое направление ясно сказывается в истории их литературы. Например, несомненно, что лирический и сентиментальный элемент в трагедии Шиллера и особенно в трагедии Гете более значителен, чем в трагедиях Корнеля, Расина или Вольтера. Завязка, видимое действие, которое передается в событиях, стремится стать у них побочной вещью, между тем как существенный элемент драмы это — невидимое действие, разыгрывающееся в глубине сердец действующих лиц. Возьмем для примера один из классических образцов театра Гете, "Ифигению в Тавриде”: внешнее действие развертывается широко, чинно, не спеша, без неожиданностей, без искусственных оборотов и без бурных столкновений страстей. Очевидно, поэт рассчитывает заинтересовать публику тем, что не принадлежит фабуле драмы; и Шиллер не совсем был не прав, говоря по поводу "Ифигении”, что "все, что относит произведение к категории драматических поэм, безусловно наносит ему ущерб”. Что особенно было важно для Гете, это — картина внутреннего человека: он хотел развернуть пред нами светлую, полную гармоний душу Ифигении в ее чистой красоте. Эта кроткая и сильная девушка, с сердцем, открытым для всех благороднейших человеческих чувств, инстинктивно находит верный выход из тех столкновений, которые создает драма; ее благотворное влияние смягчает страдания преследуемого фуриями Ореста, смиряет гнев, клокочущий в смятенной душе Фоаса и научает этого варвара скорбной добродетели отречения. Вот настоящий, всецело внутренний сюжет его пьесы. Упростите теперь мысленно драму подобного рода; уничтожьте в ней сложность, не скажу — бесполезную, но без которой, строго говоря, можно обойтись; сократите завязку до более простого выражения; сделайте характеры возможно более общими и типичными; разверните в то же время в наиболее широкой мере внутреннее действие, которое станет существенным элементом пьесы, и вы будете иметь музыкальную драму так, как понимает ее Вагнер. В "Тристане и Изольде”, которую можно рассматривать как образец этой драмы, вполне характеристичный и некоторым образом парадоксальный. поэту достаточно шестидесяти стихов, чтобы описать положение дела и представить своих действующих лиц, после чего действие вполне развивается в глубине душ двух героев драмы. Тристан и Изольда любят друг друга любовью непреодолимой, способной на все, более сильной, чем закон чести, который надменно разделяет их; и эта любовь гасит в них жажду жизни, потому что для них становится недостижимой единственная форма существования, которая может быть пригодной для благородных душ: жизнь долгая, честная, без угрызений совести и без позора. Вся пьеса повествует о долгой агонии двух влюбленных, которые пьют смертельный яд в любовном напитке, об их постепенном удалении из злой, полной обмана жизни, от взоров сверкающего ложью дня — их разлучника, о постоянном пламенном стремлении их к смерти-освободительнице, к благодетельной ночи, вливающей высшее успокоение в их сердца, раздавленные страданиями жизни, — ночи, которая усыпляет их, соединенных навсегда, в великом покое небытия. Внешнего действия больше нет: весь второй акт есть только беспрерывный дуэт двух влюбленных, весь третий наполнен стонами раненого Тристана, который боится умереть, не увидав своей возлюбленной, и прощанием Изольды с жизнью, — Изольды, которая умирает над трупом Тристана от любви. Такое, до крайности упрощенное, внешнее действие есть, так сказать, не более, как план, притом художественно разработанный, в котором с великолепной полнотой развертывается внутренняя драма любви и смерти, и в котором стихи поэта гармонично сочетаются с музыкой композитора. Можно, конечно, спорить о том, будет ли, собственно говоря, такая драма, как "Тристан”. пьесой для театра; можно, например, смотреть на произведения Вагнера, как на "высокие драматические симфонии, которые дают немцам иллюзию театра”. Тем не менее остается верным то, что Вагнер дал лирической драме оригинальную форму, которая может подавать повод к критике, но которая, во всяком случае, хорошо подходит к духу германской расы. Мы намерены здесь изучить генезис и законы этого нового жанра; мы увидим, как Вагнер путем непрерывного ряда исследований пришел к окончательной формуле своей музыкальной драмы, какие материалы служили для создания этих произведений и какими способами он воздвиг строения, вместе столь простые и столь смелые, которые поражают нас своей очаровательной мощью и циклопической грандиозностью.
Изучение вагнеровской драмы вполне естественно приведет нас к изучению философии и эстетики Вагнера.
Прежде всего драма Вагнера — в высшей степени философская, или, лучше сказать, символическая. И это не зиждется на произвольном законе, данном по личной прихоти Вагнера; это есть логическое следствие самой природы музыкальной драмы, как мы ее определили. Тем самым, что она должна быть "задумана в музыкальном духе” и что главным предметом она имеет чувства вечные, элементарные, общие всему человечеству, — тем самым, в силу необходимости, она должна принять характер философской общности. Когда поэт-музыкант более склонен выводить на сцену человека, чем индивидуум, более — типичный случай, чем частное явление, то поневоле он предлагает в своих драмах, совершенно как философ в своих рассуждениях, те великие проблемы, которые во все времена усердно посещали человеческую мысль: проблему любви, смерти, смысла жизни — и разрешает их, следуя своим временным убеждениям. Часто эта склонность его к символизму и философии вредила ему; его упрекали в том, что неразумно впутывать в поэзию умозрение, прерывать поэтическое действие холодными, отвлеченными тирадами, заимствованными из доктрин Фейербаха или Шопенгауэра, длинными метафизическими разговорами, которые утомляют и нагоняют скуку на слушателя, отвлекая внимание его от содержания. Рассуждающие подобным образом, полагаем, сами уличают себя в том, что они не только не признают истинной ценности творений Вагнера, но еще и в том, что они не одобряют немецкой поэзии и даже вообще поэзии германской за то, что в ней может быть наиболее оригинально: это — соединение живого образа с идеей, — видимой и осязательной реальности с идеальным законом, объясняющим частный случай, — соединение, которое так часто осуществляется, напр., в поэзии Гете или еще (хотя иным способом, но также в высокой степени) в драмах Ибсена. Гете создал теорию такого рода познавания вещей и назвал это созерцанием. Созерцание, по собственному его определению, по существу, состоит в том, чтобы видеть в каждом частном образе общую идею, которую этот образ вмещает в себе. Пример лучше пояснит это абстрактное определение. Однажды Гете видит вблизи Шафгаузена яблоню, обвитую плющом, и тотчас же эта картина принимает в его глазах все более и более общее значение; он представляет себе яблоню заросшей, заглушенной растением-паразитом, которое прицепляется к стволу тысячью незримых волокон, вытягивает из него свой корм и мало-помалу сушит в нем источники жизни; и это дерево, заглушенное растением, являющееся опорой ему, становится для него символом человека, к которому привязывается женщина; как плющ, она гибка и ласкова; как плющ, она нуждается в том, чтобы связать свою жизнь с другою жизнью; как плющ, она душит, истощает и губит того, кто позволяет этому опасному гостю пустить в себя корни. Таким образом, частный образ в уме Гете превращается в общую идею, в символ, выражение которого в удивительной форме мы находим в элегии "Аминтас”. "Все преходящее есть только символ”, — говорит он во второй половине "Фауста”. И этот таинственный дар воспринимать вместе с формой идею, видеть одним взглядом реальный объект и общую идею, символом которой он служит, предполагает, собственно говоря, по его мнению, гения. Нам очень кажется, что у Вагнера был этот таинственный дар "созерцания”, и что в нем поэт не может и не должен быть отделяем от мыслителя.
Когда он изучал легенду о Тристане и Изольде, ему казалось, что он видит, так сказать, в этой реальной и живой легенде тот общий закон, выражением которого была она; что любовь, доведенная до известной степени исступления, у лучших натур отказывается от всякой примеси эгоизма и приводит человека к желанию смерти, к уничтожению индивидуума на груди вечной ночи. Так же, когда он рассматривал легенду о Парсифале, она представлялась ему, как символ искупления человечества сознательной жалостью. Как Гете, Вагнер исходил из частного случая, из разукрашенного образа, пластического, живого, но сквозь этот образ он различал общий закон, тонкие признаки которого он видел в частном проявлении. Когда же он создавал свои драмы, то, вполне придавая предмету, насколько это возможно, чувственно внешнюю, картинную жизнь, он инстинктивно стремился сделать видимыми в то же время глубокие вещи, тайное значение сцен, которые он желал развернуть пред глазами зрителя. Вагнер, стало быть, не поэт-аллегорик, который исходит из отвлеченной идеи и старается потом дать оболочку своим абстракциям, олицетворить в более или менее живом образе выкладки своего разума. Он идет обратным путем: он наблюдает и раскрывает реальную, живую природу и человеческие события; только в природе, в человеческих событиях он открывает действие общих законов, тех самых законов, которые философы, вроде Фейербаха или Шопенгауэра, излагали абстрактным языком для чистого разума. Вагнер — самородный и инстинктивный гений, хотя вполне сознательный; вдохновенный художник, хотя одаренный умом, смело обобщающим. Поэтому было бы совершенно бесполезно искать у него какой-нибудь философской системы в собственном смысле этого слова. Даже в его прозаических произведениях — где, однако, он говорит сильно отвлеченным языком, — он прежде всего остается художником и действует скорее интуицией, чем рассудком. На все великие проблемы бытия у него имеются остроумные взгляды, глубокое зрение; но он мало заботится о том, чтобы привести их в порядок, представить их в форме свода доктрин. И в самом деле, он не старается убедить разум логическими доводами, — он хочет ударить по воображению, говорить с сердцем. Он не философ, который кропотливо громоздит научным образом выведенную систему, а вдохновенный мыслитель, "видящий”, в известной степени тоже апостол. И если его мысль произвела столь глубокое действие на такую массу наших современников, так это могло быть не потому, что он открыл свету новые истины, а главным образом потому, что сумел взять от отвлеченных идей, высказанных философами, то, что они заключают в себе прекрасного и эмоционного, потому что в наш век он, как и Толстой, явился вдохновенным поэтом "религии человеческого страдания”.
Изучение драмы Вагнера приводит нас другим путем к рассмотрению его теорий в искусстве. Вагнер, действительно, менее всего принадлежит к тем наивным гениям, которые, по выражению Гете, поют, "как птички на ветвях”. Немногие художники так, как он, задумывались над законами своего искусства и в той же степени, как он, сознавали истинную природу своих творческих способностей. Неоднократно, в течение более или менее продолжительного времени, он прерывал всякую творческую деятельность, откладывая в сторону всякий поэтический или музыкальный труд, и смело брался за перо или затем, чтобы защищаться от нападок, предметом которых он был, и произвести расправу с клеветами и ложными идеями, щедро распространяемыми на его личность или на его произведения, или затем, чтобы изложить в деталях свои взгляды на музыкальную драму или на искусство вообще, чтобы познакомить публику с генезисом своих произведений и идей, осветить ее взгляд на свои настоящие намерения и облегчить ей понимание своих драматических и музыкальных сочинений. Его теоретические произведения, таким образом, снабжают нас комментариями к его драмам, чрезвычайно любопытными и поучительными, и они составляют документ исключительной важности для истории искусства, так как Вагнер — единственный из современных музыкантов, который долго думал над столь темным и столь сложным вопросом о слиянии музыки с драмой. Противники его, не будучи в состоянии оспаривать этот факт, постарались воспользоваться им же против Вагнера, утверждая, что мысль у него заглушила художественное вдохновение; они представили его как отвлеченного мыслителя, скорее — ученого музыканта, чем настоящего художника, — задумывающего сначала эстетические теории, а потом кропотливо строящего произведения сообразно с программой, которую он себе наметил. Этот мотив мы встречаем изложенным, например, в известном ряде статей, выпущенных Фетисом в 1852 году против музыки будущего. Потом этот мотив обошел всю музыкальную прессу для того, чтобы в конце концов сделаться одним из лейтмотивов, благоприятных враждебной Вагнеру критике. Однако при ближайшем рассмотрении это только парадокс и — маловероятный. Прежде всего сравнительное изучение драм и теорий Вагнера покажет нам, что в действительности произведения предшествовали теориям. Вагнер, сочиняя, вполне отдавался своему творческому инстинкту, а потом уже осознавал свои действия и старался рационально оправдать их, так что его музыкальные теории в окончательном анализе являются систематическим обобщением его художественных опытов. Но у него далеко не было задержки в самопроизвольности вдохновения; напротив, размышление помогло ему вполне освободиться от условных обычаев, мешавших ему свободно следовать своему творческому инстинкту. Мы увидим, что в начале своего поприща Вагнер, как и всякий начинающий, подчиняется влиянию идей, господствующих в музыке и в музыкальной драме; что мало-помалу он стряхивает несносное иго школьных традиций и научается двигаться более свободно, то с помощью счастливых случайностей или направляемый своим таинственным художественным инстинктом, то выводимый на истинный путь напряжением своего сильного ума; что, наконец, после громадной умственной работы он окончательно сознает, кто он и чего он желает. Тогда только он чувствует, что он избавился от всяких схоластических предрассудков, что навсегда свободен от законов, которые не предназначены для него, что он может быть вполне "самим собою”, не боясь ошибиться. И тогда только в своей работе он вкушает то высшее блаженство, которым наслаждается художник, когда он с полной независимостью отдается живущему в нем творческому инстинкту и когда творенье льется свободно, — так, как он его воспринимает, без усилий, каким оно должно быть в силу постоянной необходимости. Вагнер говорит, что это наслаждение он познал во всей полноте его при сочинении "Тристана”. "Это произведение, — пишет он, — можно оценивать по самым строгим законам, вытекающим из моих теоретических положений, не потому, чтобы я сообразовал его со своей системой — ибо в то время я совершенно забывал о всякой теории, — но потому, что в тот момент я доходил до движения с наивысшей независимостью, свободный от всяких теоретических предубеждений, счастливый, во время творчества, ощущением того, насколько мой полет возвышается над пределами моей системы”. Это чувство радостной самоуверенности — он знал это хорошо — было у него плодом удивительного усилия мысли, приобретенным несколькими годами раньше и давшим ему ясное понятие о цели, к которой он стремился и которую он более или менее смутным образом только предугадывал. С этих пор верный своему инстинкту, стремления и, так сказать, механизм которого мог проверять его разум, он мог с полной безопасностью ввериться внушениям своего творческого гения.
В нашем изучении Вагнера как поэта и мыслителя мы намерены следовать просто хронологическому порядку фактов. Этот порядок обыкновенно нарочно сохраняется для разбора драм. Полагаем, что он необходим также и для изучения философских мыслей Вагнера. Так как идеи его не имеют ничего систематического, и так как они подвергались довольно значительным переменам в различные периоды его жизни, то было бы смелостью искусственно ставить их в рамки системы; напротив, гораздо лучше разобрать их в их исторической эволюции. Совсем не то можно сказать относительно идей Вагнера в искусстве: они, действительно, составляют свод доктрин. По счастью, систематическое изложение теории музыкальной драмы имеет вполне определенное место в хронологическом изучении творений Вагнера: почти все его великие произведения в области эстетики появились между 1849 и 1851; а с этого времени существенные данные относительно вагнеровской доктрины о музыкальной драме более уже не изменялись. Итак, мы будем наблюдать за великим художником в последовательных пунктах его длинного поприща, начиная с его смелой и трудной юности и кончая полным триумфом байрейтского дела, сокращая, по возможности, хорошо известное, все чисто биографические подробности, и более всего стараясь сделать понятной эволюцию "внутреннего человека”, его идей и его верований. Прибавлю, наконец, что я постараюсь придать моему изложению, насколько возможно, характер объективный и строго беспристрастный. В то время, как большинство сочинений о Рихарде Вагнере носит характер либо апологий, либо памфлетов, я, напротив, постараюсь скорее описывать, чем судить, скорее констатировать факты, чем излагать субъективные оценки, — одним словом, сделать сочинение историческим, но не полемическим. Впрочем, так как я знаю, что никоим образом нельзя совершенно отвлечься от субъективных чувств, то я, полагаю, должен предупредить читателя — если он сам уже не заметил этого — что я наслаждаюсь творениями Вагнера и глубоко удивляюсь им и что вообще я склоняюсь со снисходительностью, быть может и чрезмерной, в пользу германского искусства с его "музыкальными” стремлениями к мечтам и символизму. После того, как я предупредил таким образом читателя о своем "личном беспристрастии” и о том духе, в каком я изучал свой предмет, и в случае, если он пожелает, со своей стороны, составить себе "объективное суждение”, он будет знать, в каком смысле он мог бы исправить мои впечатления и заключения.
БИБЛИОГРАФИЯ
Изучение жизни и произведений Вагнера породило огромное количество сочинений всякого рода; читателю-любителю библиографий можно посоветовать четыре тома М. Oesterlein'a, Katalog einer R. Wagner-Bibliothek, Leipzig, 1882-95. Мы ограничимся здесь перечислением главных документов, знакомящих с историей Вагнера; зато мы не станем называть никаких работ о Вагнере, так как их перечисления, даже если ограничиваться только главными этюдами, завлекли бы нас слишком далеко.
I. Сочинения Вагнера.
1. Gesammelte Schriften und Dichtungen (сокращенно: Ges. Schr.) 10 томов, 2-е издание, Leipzig, 1887-88.
2. Entwurfe, Gedanken, Fragmente. Leipzig, 1885.
3. Jesus von Nazareth, ein dichterischer Entwurf aus dem Jahre 1848, Leipzig, 1887.
II. Письма.
I. Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, Leipzig, 1887.
2. R. Wagners Briefe an Th. Uhlig, W. Fischer, Leipzig, 1888.
3. Briefe an A. Roeckel von R. Wagner, Leipzig, 1894.
4. Eliza Wille, Funfzehn Briefe von R. Wagner; Deutsche Rundschau, 1887, том 50.
5. Echte Briefe an Ferd. Proeger. Bayreuther Blaetter, 1894.
6. Th. Zolling, Richard Wagner und Georg Herwegh, 1897, № 1 и 2.
III. Разные документы.
1. Bayreuther Blaetter, Monatsschrift des Allgemeinen R. Wagner-Vereines, herausgegeben von H. von Wolzogen Bayreuth. 1878-1897.
2. Revue Wagnerienne. Paris, 1885-1888.
3. Glasenapp, Das Leben R. Wagners, 1-ое изд., 1876-77; 2-е изд. 1882; 3-е изд., том I, 1894; том II, 1896 (капитальный труд по биографии Вагнера; содержит большое количество неизданных и малоизвестных документов; является источником, которым пользуются все биографы Вагнера, а потому мы и приводим его в числе главных документов).
Глава I: I. Воспитание Вагнера
I. Воспитание Вагнера Детские и юношеские годы Вагнера. — Вагнер учится рисованию. — Вагнер и театр. — Классическое образование Вагнера. — Первые уроки музыки. — Влияние Вебера. — Влияние Бетховена. — Музыкальные занятия. — "Феи”.
Рихард Вагнер по происхождению своему — дитя народа. Биографы еще совсем недавно напали на след его предков в XVII и XVIII веках; это были скромные школьные учителя-саксонцы, выходцы из слоев народа и жившие с ним в прямом соприкосновении: вместе и наставники, и пасторы, органисты и учителя музыки, они брали на себя попечение об умственном и нравственном развитии своих соотечественников и учили их чтению, письму, счету, пению, основам религии и страху Божьему. Может быть, было бы возможно отметить в характере Вагнера некоторые черты, которые, кажется, были переданы ему этими смиренными предками. Кто знает, в самом деле, не от них ли он обладал той крепкой силой темперамента, благодаря которой он мог стойко и без ущерба для своих плодовитых способностей пройти сквозь всевозможные испытания, встречавшиеся ему на поприще художника: бедность, лишения, тяжесть изгнания, горечь громких поражений, гложущий страх перед тем, как бы не изнемочь, не получив возможности осуществить свои намерения. А также не обязан ли он, быть может, этим предкам-простолюдинам другой особенной чертой своего гения: инстинктивной любовью к народу, к толпе простых и наивных душ, с которыми он всегда чувствовал себя более по душе, чем с преступным и испорченным полупросвещением буржуа: верным угадыванием стремлений и вкусов народа, искренних убеждений его, его религиозных и моральных нужд; наконец, глубоким пониманием его мифов и старинных легенд, которые он воскресил с бесподобным блеском.
В конце XVIII века положение вагнеровского семейства, никогда не бывая очень блестящим, однако, значительно улучшилось. Дед его, Готлиб Вагнер, был таможенным чиновником в Лейпциге, а его отец, Фридрих Вагнер, — полицейским агентом. Таким образом, в среде честных и достойных немецких граждан протекают в общем мало чем выдающиеся годы детства Рихарда Вагнера. Родился он в Лейпциге 22 мая 1813 года, за несколько месяцев перед достопамятной "битвой народов”, окончательно сломившей могущество Наполеона и освободившей Германию от владычества Франции. Это великое событие отцу Вагнера косвенно стоило жизни: он пал в полном расцвете лет жертвой смертельной эпидемии, развившейся после битвы вследствие скопления трупов около города и даже на улицах и площадях.
Два года спустя его вдова снова вышла замуж за преданного друга ее первого мужа, Людвига Гейера, который соединял в себе довольно несоединимые способности — живописца и комедианта. Гейер участвовал в труппе дрезденского театра; в этом городе Вагнер провел свои первые годы и начал учиться. Затем, в 1821 году, умер также и Людвиг Гейер, и семейство Вагнера, лишившись во второй раз главы, спустя несколько лет, в 1827 году, снова поселилось в своем родном городе Лейпциге: здесь молодой Рихард окончил свое учение и прослушал некоторые университетские курсы, впрочем, очень краткие. Внешняя жизнь Вагнера, если взглянуть на нее, довольно бедна выдающимися событиями. Она вся протекает в Саксонии, между Лейпцигом и Дрезденом, в одной и той же среде. Не останавливаясь на этом слишком долго, мы перейдем непосредственно к истории его внутренней жизни.
Прежде всего один факт поражает критика, который старается понять, как и под какими влияниями образовался драматический и музыкальный гений Вагнера: он менее всего — дитя-диво; к тому же гений его даже и не выказывает себя в ранние годы ни одной из тех самопроизвольных настоятельных склонностей, которые безо всякого сопротивления определяют жизнь художника. В этом отношении он представляет собою самый полный контраст, какой только можно себе представить, с другим великим музыкальным гением, которого критика всегда любила противополагать первому, — Моцартом; последний трех лет пробовал воспроизвести на клавесине упражнения, сыгранные его старшей сестрой, и позже совершенно самостоятельно учился на скрипке; шести лет предпринимал концертное турне со своим отцом и сестрой и поражал дилетантов Мюнхена и Вены своей виртуозностью на клавесине; семи лет сочинил в Париже две сонаты для скрипки и клавесина, вошедшие в серию его полных сочинений. Ничего подобного — у Вагнера. Шести месяцев потеряв отца, потом восьми лет — отчима, он не имел вблизи себя воли человека, которая руководила бы его первыми шагами в жизни. Родители не навязывают ему никакой профессии, не толкают его систематически по проложенному пути, но предоставляют ему свободу развиваться по-своему, выбирать с полной самостоятельностью дорогу, соответствующую его наклонностям и подходящую к его природным дарованиям. А выбор не был легок, ибо за годы своей юности Рихард Вагнер подвергался влияниям весьма несовместимым: живопись, классическая филология, литература, драматическое искусство, музыка — завлекают его в различные области. Одаренный весьма разнообразными способностями, он довольно долго ждал, прежде чем остановиться на окончательном решении и сосредоточить все свои силы на вполне определенной практической цели. При тех условиях, в которых он находился, одно время можно было даже опасаться, как бы не вышел из него простой дилетант. Для такого ума, как его ум, это была серьезная опасность. Один из его дядей, Адольф Вагнер, сильно любивший его, к которому он чувствовал от природы симпатию, не сумел избежать этого подводного камня. Одаренный почти универсальной любознательностью, страстно любивший музыку, философ, филолог, ученый литератор, подчас и поэт, он никогда не умел извлекать пользы из всех этих столь богатых природных дарований, ни создать какой-нибудь действительно важный труд, который указывал бы на степень его таланта; слишком дорожа своей независимостью, для того чтобы добровольно суживать свой горизонт и круг своей умственной деятельности, он в продолжение всей жизни оставался только любителем, весьма выдающимся, уважаемым всеми, кто соприкасался с ним, но не имел реального воздействия на своих современников. Эта наполовину не удавшаяся судьба могла стать судьбою молодого Рихарда, если бы он сам не сумел вовремя остановиться на определенной цели. К счастью, Рихард Вагнер не был чистым мыслителем; с ранних лет он является личностью особенно сильной, с волей совершенно другого характера, чем дилетант Адольф Вагнер; и если ему и нужно было некоторое время для того, чтобы узнать себя в жизни и найти свой путь, то, раз уже вступив на этот путь, он двигался по нему с невероятной энергией и не позволял себе останавливаться ни перед какими препятствиями, встававшими перед ним.
Одним из первых влияний, которым подпал в молодые годы Рихард Вагнер, вполне естественно, было влияние его отчима. Гейера. Людвиг Гейер, актер по профессии, честно зарабатывавший свой хлеб в театре, сверх того обладал довольно скромным, хотя и действительным талантом — талантом живописи. Склонность к живописи он почувствовал в себе, будучи еще совсем ребенком, и потом никогда не переставал с особенной любовью развивать ее. В конце концов он прослыл за довольно хорошего портретиста, так что, продолжая свое ремесло комедианта, он написал портреты многих высокопоставленных лиц, между прочим короля и королевы саксонских и королевы Баварской. А так как он бесконечно более был счастлив успехами живописца, чем успехами комедианта, то грезил увидеть своего пасынка мастером в том искусстве, где сам мог быть только любителем. Итак, он старался зародить в Рихарде охоту к живописи. Но молодой Рихард был очень скоро обескуражен первыми, неизбежно сухими опытами обучения технике рисования. Он сейчас охотно сочинил бы грандиозные картины, подобные тем, которые видел в мастерской своего отчима, тогда как "его заставляли рисовать какие-то глаза”, — и это дело скоро прискучило ему. Но если занятия по рисованию и живописи не пошли очень далеко, то это не значит, что они не принесли никакой пользы в развитии гения Вагнера. И в самом деле, известно, до какой высокой степени развилось в нем воображение художника. "Каждое действие, — говорит критик, которого едва ли можно заподозрить в пристрастии к нему, — воплощается у него в ряд грандиознейших картин, которые, если представить так, как их видел своим внутренним зрением Вагнер, должны потрясать и приводить в восхищение зрителя. Прием гостей в зале Вартбурга, появление и отъезд Лоэнгрина в лодке, запряженной лебедем, игры трех дочерей Рейна в речной глубине, шествие богов по мосту-радуге к жилищу асов, внезапное появление лунного света в хижине Хундинга, скачка девяти валькирий через поле битвы, Брунгильда в кольце огня... братская трапеза рыцарей в замке Грааля, похороны Титуреля и исцеление Амфортаса — все это картины, которым нет до сих пор равных в искусстве”. Кто знает, не развился ли в нем этот удивительный талант "фрескового живописца”, — талант, которого не оспаривают у него самые смелые из его хулителей, — пока, будучи совсем еще ребенком, он с удивлением рассматривал картины Людвига Гейера и под его руководством обучался началам рисования.
Другие влияния, казалось, должны были склонить Вагнера к поприщу драматического артиста. Его отец Фридрих Вагнер, страстный любитель театра, сам играл когда-то на любительской сцене в Лейпциге и предназначал к театру старшую из своих дочерей, Розалию.
Влияние, которое Гейер, артист по профессии, оказывал потом на своих усыновленных детей, еще более укрепляло в них ту наследственную склонность, которую передал им их отец. Розалия Вагнер сделалась актрисой, как желал ее отец, и пятнадцати лет дебютировала на сцене лейпцигского театра. Две сестры ее последовали ее примеру: одна, Луиза, с 10-тилетнего возраста играла роли детей; другая, Клара, выступила на подмостках в том же возрасте. Старший брат Вагнера, Альберт, начав занятия по медицине, прервал их, чтобы также пуститься на драматическое поприще; сначала он сделался певцом, потом режиссером одного из берлинских театров и имел двух дочерей-певиц; одна из них, Иоанна Вагнер, приобрела потом значительную известность по всей Германии и с редким совершенством воспроизводила трогательный образ Елизаветы на первых представлениях "Тангейзера” в 1845 году. К такому влечению целого семейства, которое могло бы привести юного Рихарда к театру, прибавлялось еще влияние среды, действовавшей в том же направлении. Жизнь его протекала в артистическом мире: будучи совсем еще ребенком, он часто бывал с Гейером на репетициях и, таким образом, с самого раннего детства познакомился с миром кулис; дома Гейер любил собирать вокруг себя своих товарищей по дрезденскому театру и часто, по случаю семейных праздников, устраивал у себя представления пьес, содержание которых сочинял сам и которые он разыгрывал с друзьями дома; смерть Гейера не изменила среды Вагнера, потому что около него его брат и три сестры один за другим пошли по драматическому поприщу. Каждый раз он сопротивлялся наследственному влечению, как влиянию среды. Родители его не предназначали его к театру, да и он, по-видимому, ни одной минуты не помышлял когда-нибудь выступить на подмостках. Совсем напротив, с ранних лет он почувствовал некоторый род отвращения к "подкрашенным комедиантам” быть может, он заразился им от своего дяди Адольфа Вагнера, который мало ценил актерскую жизнь, считая ее фальшивой и деморализующей. Но если ремесло комедианта, по-видимому, не больше привлекало его, чем ремесло живописца, то едва ли нужно снова напоминать, насколько драгоценной оказалась для него впоследствии ранняя опытность в театральном деле, которую приобрел он в ежедневном соприкосновении с комедиантами: без усилий, совсем шутя, он явился, в конце детского возраста, посвященным в те тысячи мелких деталей драматической техники, стиль трудных для ознакомления без долгой практики в театре, знание которых все же необходимо для каждого автора, намеревающегося писать пьесы, действительно предназначаемые для сцены. Для того, чтобы хорошо понять, какова была особенная природа вагнеровского гения, немаловажно указать на то, что склонность к музыке появилась у него после склонности к литературе и в особенности к драме. В самом деле, драма-то и привела его к музыке, склонность же к драме явилась плодом классического образования, которое он получил в Дрездене и Лейпциге, 2-го декабря 1822 года, меньше чем через год после смерти его отчима, мальчик Рихард, в то время 9-ти лет, был послан в дрезденскую Kreuzschule. Его мать, давая ему полное классическое образование, исполняла волю Гейера, который нежно любил своего пасынка и желал видеть его "кончившим курс”. Мальчик не замедлил отличиться необыкновенным жаром в работе; он, совсем еще ребенок, с сильной страстью принялся за классические древности и одиннадцати лет от роду решил быть поэтом. Первым его опытом явились древние драмы, сочиненные по образцу трагедий саксонского поэта Апеля, новейшего подражателя греческому искусству, весьма чтимого в Дрездене и личного друга Адольфа Вагнера. Делая таким образом наброски драм, он в то же время сочинял также и лирические стихотворения; одно из них, написанное по случаю смерти одного товарища, было удостоено директором Kreazschule чести даже быть отпечатанным, 13-ти лет он перевел первые 12 песней "Одиссеи” он считался много смыслящим в литературе, и профессора видели уже в нем будущего филолога. Почти тогда же он страстно увлекся Шекспиром и старательно изучил английский язык, для того чтобы иметь возможность читать любимого автора в подлиннике. Результатом этих занятий явилась весьма грандиозная и мрачная драма, занимавшая его в продолжение 2-х лет, вроде смеси из "Гамлета” и "Короля Лира”: в течение пьесы умирало сорок два лица, и, как рассказывает сам Вагнер в своей автобиографии, участь их решалась так скоро, что нужно было заставлять многих из них снова являться в виде привидений, для того чтобы сцена не была пустой в продолжение последних актов. Отъезд вагнеровского семейства, покинувшего Дрезден в 1827 году, чтобы поселиться в Лейпциге, оказался поистине пагубным для изучения классиков, столь блестяще начатого молодым Рихардом. В Лейпциге он был отдан в коллегию Николаи, где перевели его на один класс ниже; это унижение, от которого он пришел в сильное негодование, сразу охладило в нем весь пыл в занятиях: он стал небрежным, ленивым и отложил в сторону решительно все филологические занятия, для того чтобы заниматься исключительно своей большой драмой в шекспировском духе, которой он посвятил все свое время и все свои силы. С грехом пополам он окончил курс сначала в коллегии Николаи, а потом в Thomasschule, после чего записался в университет не для того, чтобы приготовить себя к специальному поприщу — он решил уже сделаться композитором, — но просто чтобы прослушать некоторые курсы по философии и эстетике, которые он считал также полезными для будущего художника. Впрочем, собственно говоря, склонность к занятиям умерла в нем; вместо того чтобы слушать курсы, он стал лишь сильно предаваться заблуждениям студенческой жизни и делал это с той же горячностью, с которой он относился ко всякому делу. Но если он решительно не оправдал предсказаний своих старых учителей Kreuzschule, видевших в нем будущего филолога, то, по крайней мере, сохранил от своего изучения классиков страстную любовь к греческим древностям, навсегда оставшуюся в нем; позднее она дала ему мысль переделать в музыкальную драму легенду об Ахиллесе и главным образом внушила ему некоторые из его существенных идей относительно реформы нынешней оперы. Если же он отказался от чистой литературы, если не сделался блестящим гуманистом, как его дядя Адольф Вагнер, то он, по крайней мере, накопил за свои годы учения множество общих идей, которых не было до него ни у одного из великих немецких музыкантов — ни у Баха, ни у Моцарта, ни у Бетховена. Ум его оставался и впредь отзывчивым на все современные ему великие вопросы в литературе, философии и морали; всю жизнь свою он прожил, верный тому решению, которое он принял, будучи одиннадцатилетним ребенком: он был драматическим поэтом-драматургом, правда, своеобразным, так как изъяснялся одновременно на языке поэзии и музыки, но прежде всего и всегда — драматическим поэтом.
Склонность к музыке обнаружилась у Вагнера сравнительно поздно: тогда как все почти великие музыканты с ранних лет были виртуозами и с самого детства основательно изучали технику инструмента — фортепиано, органа или скрипки, — он никогда не выказывал никакого особенного расположения ни к одному из инструментов. Ребенком его выучили играть на фортепиано маленький романс "Ueb'immer Treu’ und Redlichkeit” ("Будь всегда правдивым и честным”) и хор девушек из "Фрейшютца” накануне своей смерти Гейер заставил его сыграть эти две мелодии, и из соседней комнаты ребенок слыхал, как больной сказал своей жене слабым голосом: "Может быть, у него талант к музыке?” Маленькому Рихарду было тогда 8 лет, и вот проходят еще годы, прежде чем тот талант, что предчувствовал в нем бедняга Гейер, начал проявляться. Сначала он одно время присутствовал на уроках фортепиано своих сестер, сам не принимая в них участия, так как был занят в то время изучением классиков.
Потом решили, что уроки ему будет давать тот учитель, который переводил с ним Корнелия Непота; но едва мальчик Рихард приобрел кое-какие смутные понятия о фортепианном строе, как начал, тайком и без музыки, разучивать увертюру из "Фрейшютца”: однажды учитель застал его врасплох, когда он разыгрывал на память на фантастических клавишах эту увертюру, и тут же объявил, что "из этого ребенка никогда ничего не выйдет”. "И он был прав, — заключает Вагнер, — ибо за всю свою жизнь я не мог выучиться игре на фортепиано”. На время Вагнер почувствовал отвращение к технике фортепиано так же, как несколькими годами раньше почувствовал отвращение к технике рисования; и так как он не мог мастерски играть блестящие пассажи, то с ранних лет возымел ужас ко всякого рода штрихам и фиоритурам. Когда Вагнер решил быть музыкантом, то у него не было заметно никакой склонности к какому-либо инструменту.
Два великих немецких композитора, к которым он почувствовал сильное влечение при первом знакомстве с ними, указали ему на его призвание к музыке; это — Вебер и Бетховен. Сначала он узнал о Вебере, с 1817 года исполнявшем обязанности капельмейстера в дрезденской Опере. То было время, когда Вебер, убежденный поборник за национальное искусство, старался создать немецкую оперу наряду с итальянской оперой, пользовавшейся тогда исключительным расположением при дворе и у большинства публики. Подвергаясь сильным нападкам со стороны влиятельного кружка, во главе которого стоял дирижер оркестра итальянской оперы Морлаки, он должен был во имя немецкого искусства выдерживать на себе борьбу всех времен. В этом столкновении на его стороне было полное сочувствие Людвига Гейера, передавшего и пасынку своему этот энтузиазм к музыке и личности великого композитора. Юный Рихард принял сторону его с такой страстью, что в своем отвращении ко всей "итальянщине” дошел скоро до того, что начал чувствовать презрение даже к "Дон-Жуану”, потому что итальянские слова казались ему смешными. У него был настоящий культ Вебера, и он всякий раз испытывал что-то вроде религиозного благоговения, когда замечал проходящую по улице худощавую, изнуренную фигуру великого музыканта. Этот энтузиазм достиг своего кульминационного пункта во время представлений "Фрейшютца” в Дрездене, в 1822 году. Вебер мог добиться исполнения своего шедевра в том театре, где он управлял оркестром, только после того, как поставил его раньше в Берлине и Вене — столь сильна была в Дрездене оппозиция, которую устроили ему сторонники итальянского искусства. Тем не менее успех был поразительный, и публики собралось очень много. Рихард Вагнер был в числе главных энтузиастов. В те вечера, когда играли "Фрейшютца”, он всегда умел сделать так, что получал — в случае необходимости при помощи слез — позволение идти в театр; там возбуждалось его детское воображение, пока он созерцал дирижирующего своим произведением с высоты капельмейстерского пюпитра маэстро, и он чувствовал, как все сильнее растет в нем пламенное желание сделаться со временем таким же музыкантом и оперным композитором, как Вебер, пред которым он так благоговел. Дома, вместо того чтобы работать над своими гаммами и упражнениями, он только коверкал увертюру из "Фрейшютца” тогда же он выпросил у матери два гроша на покупку нотной бумаги, чтобы переписать для своего обихода "Лютцовских охотников” Вебера. Он уже предчувствовал, что то, что создал Вебер, было одним из самых драгоценных перлов национальной немецкой вотчины, в особенности его "Фрейшютц”. И это чувство опять появилось в нем с необыкновенной силой 20 лет спустя, когда он вновь прослушал "Фрейшютца” в парижской опере, в том Париже, который так плохо принял его, в котором он чувствовал себя затерянным среди чужестранцев, бедным, беспомощным изгнанником вдали от своего отечества. "О мое великолепное отечество, Германия! — писал он только что вернувшись из оперы, — как я люблю тебя! как я страстно люблю тебя, хотя бы только за то, что "Фрейшютц” рожден на твоей почве! Как я люблю немецкий народ, который любит "Фрейшютца”, который теперь еще верит чудесам наивнейшей из легенд, который теперь, уже в зрелом возрасте, чувствует еще те таинственно-сладкие ужасы, что заставляли трепетать сердце его во времена его юности! О очаровательная немецкая мечта, мечта леса, мечта вечера, звезд, луны, сельского колокола, призывающего гасить огни! Как счастлив тот, кто может понимать вас и с вами верить, чувствовать, мечтать, воспламеняться!” Эти чувства, которые высказывал Вагнер в таком возбуждении в 1841 году, должно быть, были те же, что волновали, правда смутно, его детское сердце, когда он присутствовал на первых представлениях "Фрейшютца”. Немного позже, в 1825 году, он к великой своей радости увидел свою сестру Розалию создающей под руководством самого маэстро роль Прециозы, потом другую из своих сестер, Луизу, играющей в Лейпциге с большим успехом роли Прециозы и Сильваны (1827). И когда четыре года спустя, после триумфальных представлений "Фрейшютца” в Дрездене, Вагнер узнал, что маэстро умер в Лондоне 5 июня 1826 г., изнуренный болезнью, трудами и заботой, — детская душа его наполнилась ужасом и скорбью от столь печального конца человека, который первый открыл перед ним мир музыки.
После Вебера Бетховен решил призвание Вагнера. Когда семейство Вагнера в 1827 г. снова поселилось в Лейпциге, молодой Рихард, в то время 14 лет, мог слушать на концертах Gewandhaus'u симфонии великого маэстро, который весной того же года в Вене только что окончил скорбное свое существование. Впечатление было подавляющее. В новелле, сочиненной потом в Париже, Вагнер выводит на сцене одного молодого немецкого музыканта, благоговейно совершающего паломничество в Вену, чтобы видеть там Бетховена, и заставляет героя рассказывать о своей истории. "Я не могу припомнить того, что хотели сделать со мной, я знаю только одно: вечером я слышал симфонию Бетховена, ночью у меня был приступ лихорадки, потом я валялся больной, и после своего выздоровления я стал музыкантом”.
Можно предполагать, что в этом картинном рассказе Вагнер, со свойственным поэту преувеличением, лишь описывает эмоцию, вызванную в нем внезапным открытием симфоний Бетховена. Не менее сильно было впечатление, которое он получил, прослушав в том же Gewandhaus'e музыку "Эгмонта”. В тот день он в первый раз осознал в себе призвание художника и решил выпустить в свет знаменитую свою трагедию в шекспировском духе, но только с аккомпанементом музыки, подобной той, что ему пришлось слышать. Несмотря на полное незнание гармонии, в первом пылу энтузиазма, ему показалось, что достаточно будет 8-ми дней работы, чтобы сочинить ту музыку, которую он считал нужной для понимания своего произведения. Сразу набросившись на трактат гармонии Лежьена, он вскоре же убедился, что дело не могло идти так скоро, но не упал духом. Как в былое время, познакомившись с греческой драмой и драмой Шекспира, он решил быть поэтом, так и теперь, услышав произведения Бетховена, он решил быть музыкантом и, не говоря ни слова своим домашним, начал сочинять сонату, квартет и большую арию.
Когда он решился открыться родителям в своем новом призвании, они, естественно, принялись очень горячо разубеждать его, боясь, не без некоторой доли основания, как бы этот внезапный энтузиазм к музыке не был только кратковременной вспышкой и вскоре же не рассеялся. Все же его мать решилась на то, чтобы он брал уроки у серьезного музыканта, Готлиба Мюллера. Но бедный человек имел дело с весьма своенравным учеником. В то время Вагнер с головой погрузился в чтение Гофмана, музыкальный мистицизм которого, граничащий с умопомешательством, производил на него сильное впечатление. Он пожирал те ненужные и почти безумные страницы "Phantasiestucke”, где Гофман рассказывает, как "числовые отношения в музыке и даже таинственные линии контрапункта вызывают в нем внутренний трепет”, где он призывает как реальные лица Основной Аккорд и Квинту, "этих двух колоссов”, и Терцию, "этого приятного, нежного молодого человека”, и где он описывает своего фантастического Крейслера, грозящего "пронзить себя большой квинтой”. Вагнер, в свою очередь, имел видения, во время которых "Основной тон, Терция и Квинта являлись ему в лицах и возбуждали в нем мистическое чувство”. Его учителю стоило громадных трудов, чтобы заставить понять его, что то, что он принимал за таинственные силы, было ничем иным, как интервалами и аккордами; и бедняга оставался при убеждении, что его ученик — сумасбродная голова, из которой никогда ничего не выйдет. Со своей стороны, Вагнер возымел предубеждение и против своего учителя, и против той гармонии, которую тот преподавал ему; он смотрел на нее как на педантскую и скучную науку, законы которой вставали перед композитором, как столько же ярлыков с надписью — "запретная дорога”, причем ни один из них не указывал дороги, которая приводила бы к цели. Поэтому он принялся сочинять по-своему, не смущаясь более условными правилами, которые профессор силился вдолбить ему в голову. Плодом его трудов оказалась беспорядочная увертюра, которую капельмейстер лейпцигского театра Дорн исполнил в 1830 году, по дружбе к юному семнадцатилетнему композитору и несмотря на протест со стороны своих музыкантов. "Эта увертюра, — пишет Вагнер в своей автобиографии, — представляет собою кульминационный пункт моих эксцентричностей. Для облегчения понимания оркестровой партитуры я решил написать ее тремя чернилами различных цветов: красными для струнных инструментов, зелеными для деревянных, черными для медных. Плетение этой удивительной увертюры было столь запутано, что IX симфония Бетховена рядом с ней казалась сонатой Плейеля. Публика осталась в недоумении перед таким несвязным произведением; что особенно повредило успеху — это удар fortissimo в литавру, который регулярно повторялся через каждые четыре такта; сначала слушатели, по-видимому, были изумлены упорством литаврщика, потом это раздражило их, и наконец они начали смеяться. Произведение, несмотря на его громадные недостатки, не было лишено интереса, и жалко, что оно теперь затеряно. Опыт дал возможность Дорну распознать в этом сумасбродном плоде усиленных трудов еще плохо уравновешенного дебютанта признак многообещающих дарований. "В нем содержались в зародыше, — говорил он впоследствии, — все великие дела, которые позже произвели революцию в музыкальном мире”.
Этот период исступления продлился недолго. Когда Вагнер, сделавшись "студентом музыки” Лейпцигского университета, напроказил и утомился от излишеств, довольно мало разнообразных в жизни студента, то снова возвратился, и на этот раз удачно, к занятию музыкой и имел счастливый случай встретить в лице Теодора Вейнлига, кантора Thomasshule, серьезного и скромного профессора, сумевшего вложить в пылкий характер своего ученика благотворную дисциплину. Под его руководством Вагнер менее чем в 6 месяцев основательно прошел гармонию и контрапункт. "То, что вы приобрели этим сухим изучением, это самостоятельность, — сказал ему на прощание его учитель. — Вероятно, вы никогда не будете иметь случая писать фугу; но факт, что вы можете писать ее, избавляет вас навсегда от тирании технических правил”. Преподавание Вейнлига принесло свои плоды. Благодаря его урокам с этих пор у Вагнера с обожанием Бетховена совместилось обожание Моцарта, хотя первое все-таки было у него более ревностно. В то же время дело сделалось; занятия с Вейнлигом укротили ту необузданную горячность, которая находила себе свободный доступ в его первых произведениях. В этом новом положении он сочинил произведения исправные и достойные уважения, которые грешили скорее недостатком оригинальности, чем странной погоней за эффектом: сонату, полонез, фантазию для фортепиано, увертюру, 2 симфонии, из которых одна была исполнена в Праге оркестром консерватории и в Лейпциге, на концертах Gewandhaus'u.
Точно так же и первые шаги его в деле музыкальной драмы не имели ничего революционного. Во время путешествия, предпринятого им в 1832 году в Вену и Прагу, он написал либретто трагедии "Невеста” за сочинение же самой трагедии он принялся тотчас же по возвращении в Лейпциг; но сестра его Розалия, когда он представил ей свой сценарий, не одобрила сюжет, и Вагнер тотчас же отказался от своего намерения. На следующий год он написал первую музыкальную драму "Феи”, во время пребывания в Вюрцбурге, куда он отправился, желая видеть своего старшего брата Альберта, который был тогда певцом в вюрцбургском городском театре. "Феи” — еще только традиционная романтическая опера с обязательными принадлежностями ее: феями, духами, волшебством, превращениями и т. п. Сюжет заимствован у Гоцци, "Драматические сказки” которого были указаны Гофманом как "источник, весьма богатый замечательными сюжетами для опер”. Вагнер старается заинтересовать нас взаимной любовью феи Ады и смертного Ариндала; он показывает нам, как Ада превращается в статую по вине Ариндала, заключающейся в том, что он на одно мгновение имел слабость усомниться в своей возлюбленной (здесь виден мотив, аналогичный тому, который Вагнер 12 годами позже взял за основную идею в "Лоэнгрине”), потом, как Ариндал, несмотря на все препятствия, проникает в подземные страны, где заключена его возлюбленная, и возвращает ей жизнь страстью своих песен. Автор не мог надеяться на то, чтобы эта наивная, мало оригинальная сказка сама по себе, своим драматическим интересом могла захватить зрителей. Очевидно, он рассчитывал прежде всего на свою музыку, — что она даст жизнь и краски его произведению; но самая музыка, несмотря на неоспоримо прекрасные места, особенно в конце второго акта, в общем мало еще оригинальна; в ней чувствуется, по признанию самого Вагнера, подражание Бетховену и Веберу. Впрочем, "Феи” не были поставлены; Вагнер не без успеха много раз исполнял отрывки из этой оперы на концертах в Вюрцбурге и Магдебурге и даже надеялся одно время, что лейпцигекий театр поставит его первую оперу: но управляющий театром, наговорив ему красных слов, отложил исполнение своих обещаний на неопределенное время. Это было первое крупное разочарование на художественном поприще Вагнера. Вскоре за ним последовали и другие.
Глава I: II. Первые опыты
Вагнер и "Молодая Германия”. — Статья о немецкой опере. — "Запрещенная любовь”.
С 1834 года замечается большая перемена во внешней жизни Вагнера. Ему исполнился 21 год, университетские и музыкальные занятия его окончились; теперь ему нужно было подумать о том, чтобы составить себе положение, которое позволяло бы ему самому зарабатывать хлеб и не оставаться дольше обузой для своей семьи. А так как он хотел быть музыкантом и, с другой стороны, не обладал талантом виртуоза ни на одном инструменте, то, в конце концов, оставалась почти одна только профессия, к которой он был подготовлен и по занятиям, и по способностям, это — должность капельмейстера.
И Вагнер, не питая слишком большого отвращения к этому ремеслу, особенно вначале, предался ему. Ему нравилось находиться в ежедневном соприкосновении с театральным миром, и он сильно надеялся, что благодаря своему положению ему легче будет найти удобный случай поставить оперы, которые он замышлял. Он довольно удачно начал свое поприще в качестве капельмейстера магдебургского театра (1834-1836). Но затем для него наступили тяжелые годы испытаний, за которые он должен был перетерпеть все житейские невзгоды артиста. Вынужденный оставить Магдебург по причине банкротства театра, сначала он появился на некоторое время опять в Лейпциге; отсюда он отправился в Берлин, где рискнул попытаться создать себе положение. Потом он дошел до Кенигсберга, где ему представлялась возможность занять место капельмейстера в театре; здесь же 24 ноября 1836 г. он обвенчался с одной молодой актрисой, Вильгельминой Планер, с которой был уже обручен в Магдебурге, и сделался таким образом 23 лет главой семейства без положения и без верного куска хлеба. Едва он получил желаемое место, как и в Кенигсберге обанкротился театр. Тогда Вагнер, гонимый нищетой, принужден был эмигрировать со своей женой в Ригу, roe с августа 1837 года он в продолжение почти двух лет исполнял обязанности капельмейстера.
Эта радикальная перемена в его внешней жизни сопровождается не менее глубокой переменой в его идеях.
Годы, следующие непосредственно за 1830, являются важной датой в истории немецкой мысли. Достаточно известны те бесконечные толки, которые были вызваны в Германии июльской революцией и торжеством либеральных идей во Франции. Большая часть немецкой молодежи под влиянием радикально-революционных доктрин, занесенных с того берега Рейна, восстала против той власти, которую присвоило себе историческое, традиционное правительство прошлого над настоящим поколением. Восстали против реакционного режима, которым политика Меттерниха давила Германию; против цензуры, которая искажала книги и зажимала рот прессе; против суровости старой немецкой морали, которая мешала свободному проявлению лучшей индивидуальности.
То было время, когда Гейне, увлеченный идеями сен-симонистов, шел войной против романтизма в литературе и в политике и пророчил пришествие социализма; когда Берне направлял после Парижа свою язвительную критику на трусливый, рабский дух немецкого народа; когда Гуцков — в своем романе "Wally”, Лобе — в романе "Молодая Европа” проповедовали "эмансипацию женщины” и "реабилитацию плоти”. Вагнер, как и громадное большинство его современников, заражается этими революционными идеями, хотя к ним приводил его также и глубокий инстинкт. Одна из наиболее характерных черт его натуры, проявлявшаяся во все времена его жизни, это поистине удивительная жизненность; он ощущал в себе сильную потребность жить в настоящем, действовать на современников, вступать с ними в возможно более тесное сообщение не с помощью печатной книги или оттисненной партитуры, но с помощью концерта и в особенности театрального представления. Натура, столь сильная, столь полная жизни, как его, необходимо должна была сочувствовать стремлениям "Молодой Германии” 1830 года и вместе с ней отстаивать права молодежи и настоящего у реакционного владычества традиции и прошлого. Действительно, мы видим, как с 1833 года он вступает в тесное сношение с одним из корифеев "Молодой Германии”, Лобе, редактором "Изящного мира”, одного из самых крупных литературных журналов в Лейпциге. В статье, полной энтузиазма, он прославлял симфонию Вагнера, исполненную на концерте Gewandhaus'a, и Вагнер, весьма признательный за такую оценку симфонии, не замедлил завязать с ним дружбу.
Немного спустя, 10 июня 1834 года, он напечатал в "Изящном мире” большую статью, в которой он совершенно свободно анализировал эволюцию своих мнений и горячо провозглашал новые идеи, привившиеся к нему от соприкосновения с доктринами "Молодой Германии”. Он переносил в область музыки, именно музыки драматической, теории Лобе, относившиеся к политике и морали; объявлял войну устарелому преклонению перед традициями и восставал против сухого педантизма музыкантов-профессионалов. У немцев, в сущности, говорил он, нет национальной оперы, потому что они слишком рассудочны, слишком добросовестны и слишком учены, для того чтобы создавать живые образы; они находят удовольствие в схоластических тонкостях контрапункта; в середине XIX столетия упражняются в формах, давно отживших, в которые никто уже больше не верит, как, напр., фуга или оратория; вводят в оперу, где нужно было бы больше жизни и страсти, сухие упражнения и отвлеченный символизм инструментальной музыки. Нужно, чтобы новый композитор имел смелость выбраться из этого хаоса, в котором он задыхается; "чтобы он выбросил большую часть контрапункта, который держит нас за горло; чтобы остерегался видений враждебных квинт и чудовищных нон; чтобы, одним словом, был человеком”. В этом отношении итальянцы стоят выше немцев: чуть ли не со смешным либретто и с музыкой, в сущности, очень бедной Беллини благодаря простой и изящной мелодии сумел создать поистине драматические и живые произведения, которые производят дивное впечатление в интерпретации такой гениальной артистки, как Шредер-Девриен. Но это не значит, чтобы он становился на сторону школы итальянцев; последние злоупотребляли легкостью своей мелодии, как немцы — своими музыкальными познаниями: "нужно держаться своего времени, отыскивать новые формы, применяться к новому времени, — и тот мастер, который сделает это, не станет писать ни по-итальянски, ни по-французски, но и не по-немецки”. В революционном пылу, в горячем восхищении пред полной огня и красок жизнью, пред чувственно дрожащей страстью Вагнер доходил почти до отречения от своих старых богов, великих учителей немецкой музыки. Бетховен, к которому он раньше стремился, перестал быть для него образцом; IX симфония показалась ему венцом закончившегося в настоящее время периода в искусстве, неподражаемым шедевром отжившего и не способного возродиться к новой жизни типа.
Под влиянием такого настроения летом 1834 года он написал либретто новой оперы "Запрещенная любовь”. Сюжет был заимствован из шекспировской драмы "Мера за меру”, но из оригинала Вагнер сделал весьма свободное применение, введя в свою пьесу оправдание любимой теории "Молодой Германии”, теории "реабилитации плоти”. Он рисует перед нами картину столкновения между губернатором Палермо, угрюмым немцем-пуританином, и его подчиненными — сицилийцами, которым он хочет запретить веселую вольность карнавала, легкие удовольствия и любовь, не одобряемую законом. Конечно, в развязке пьесы притворно стыдливый немец пристыжен и должен сознаться, что немецкая суровость не применима к веселой Италии, этой благословенной стране солнца, веселья и любви. Как видно, контраст полный между туманным мистицизмом "Фей” и чрезмерной чувственностью "Запрещенной любви”. Можно только удивляться той замечательной гибкости таланта, которая позволяла Вагнеру создать два произведения с промежутком в несколько месяцев, до такой степени противоположные по стилю, по вдохновению и по разработке.
Продолжая идти по этому пути, Вагнер рисковал, однако, впасть в тривиальность. Забота о непосредственном успехе, о прямом воздействии на публику может дать место пошлости, когда приходится быть капельмейстером в маленьком провинциальном театре и когда, для постановки новой пьесы, можно рассчитывать только на скудные средства театра его разряда. Вагнер испытал это на деле в Риге. Задумав написать одно легкое по форме и содержанию произведение для сцены того театра, где он дирижировал оркестром, он написал комическую оперу в двух актах, сюжет которой был заимствован им из сказок "1001 ночи” и которую он озаглавил "Счастливая семья медведя”. Но едва он принялся за композицию, как, к своему невыразимому ужасу, заметил, что пишет музыку "a la Адам”. Он тотчас остановился, так как чувствовал, что не может больше тратить время и талант свой на подобного рода произведения.
Глава I: III. “Риенци”
Сочинение "Риенци”. — Форма оперы в "Риенци”. — Драматический интерес "Риенци”. — Критика исторической оперы.
Вагнер задыхался в кругу мелочных забот; чтобы вырваться из него и стать выше мелких житейских нужд профессионального музыканта, весною 1838 года он решился кинуться в предприятие, требовавшее долгого времени, рискуя даже одно время потерять из виду непосредственно практическую цель. Вагнер снова взялся за тот план, который появился в его голове годом раньше, за чтением романа Бульвера "Риенци”, и через некоторое время имел его уже превосходно разработанным. Он задумал вывести на сцене величественную, симпатичную фигуру славного римского трибуна Риенци — человека с благородным, воспламененным свободой сердцем, любившего предаваться воспоминаниям о древнем Риме; благодаря измене пошлой и грубой среды, посланной ему роком, он становится жертвой своей преданности отечеству и своих смелых мечтаний.
Затрагивая такой предмет, Вагнер отлично знал, что он не мог надеяться увидеть свою новую оперу при огнях рампы такого маленького театра, как тот, с которым он имел дело до сих пор, но что для его произведения во что бы то ни стало нужна была такая блестящая и грандиозная рампа, как Grand Opera в Париже. Однако это не смутило его, и он взялся за работу, не беспокоясь о том, где можно было бы поставить "Риенци”, — точь-в-точь, как 20 годами позже, когда он предпринял свою большую трагедию на легенду о Нибелунгах, хотя был заранее убежден, что ни одна из оперных сцен в Европе не была бы в состоянии поставить задуманное им гигантское произведение.
Весною 1838 года он поселился в скромном, спокойном домике, в предместье Риги, почти в деревне; там он написал подробный сценарий своей драмы, сочинил музыку всего первого акта и большую часть второго. Рассказывают, что по временам он собирал своих друзей, чтобы познакомить их со сценами, только что им написанными; тогда это были вечера шумного энтузиазма: гости читали голосовые партии, как кто мог, Вагнер работал за фортепиано над оркестровыми партиями, скача в пылу исполнения по всем клавишам несчастного инструмента, в то время как жена утирала ему пот, струившийся по его лицу, а прохожие, запоздавшие в тихом предместье, останавливались в недоумении, чтобы послушать адский шабаш, потрясавший стены маленького уединенного домика.
Пока Вагнер в начале своего артистического поприща в одиночестве обрабатывал в Риге свое первое большое произведение, Grand Opera в Париже вступала в одну из самых блестящих своих фаз и необходимо должна была вызывать к себе в молодом, честолюбивом и знающем себе цену музыканте непреодолимое влечение. Первостепенные европейские композиторы — французские, итальянские и немецкие — несли туда свои совершеннейшие произведения и получали там окончательное утверждение своего таланта. То было время, когда Россини подряд дарил свет "Моисеем”, "Графом Ори” и своим классическим "Вильгельмом Теллем” (1829); когда Обер давал в 1828 году "Немую из Портичи”, а потом "Любовный напиток”, когда Мейербер получал первые великие триумфы за "Роберта-Дьявола” в 1831 году и за "Гугенотов” в 1836 году; когда Галеви ставил с 1835 по 1843 гг. "Юдифь”, "Кипрскую царицу” и "Карла VI”, когда, наконец, Доницетти получал аплодисменты за "Фаворитку” (1840) и за "Лючию Ламермур” (1846 г.). Вполне естественно, у Вагнера не было вначале никакой другой мысли, как лишь подражать тому, что было уже сделано, ни другой честолюбивой мечты, как добыть успех пьесе своего произведения в парижской Grand Opera. По собственным его словам, которые мы находим в его "Сообщении моим друзьям”, он инстинктивно рассматривал свой сюжет "через очки Grand Opera”. Трагедия "Риенци”, вполне естественно, представлялась его воображению в форме большой оперы в пяти актах, с пятью блестящими финалами, с гимнами, кортежами, воинственными сценами и т. п. Он не хотел вводить в свое произведение ни дуэтов, ни трио, ни больших арий, но они появлялись сами собой, потому что творческое воображение его так или иначе часто посещалось этими традиционными формами большой оперы. Он не искал также в своем сюжете и предлога к балету, но глазами оперного композитора, вполне естественно, заметил, что Риенци должен был давать народу праздник, на котором должны быть представлены характерные сцены, взятые из истории древнего Рима. Наконец, своей музыкой он прежде всего рассчитывал придать жизнь этой драме. Что касается стиля и отделки стихов, то он удовлетворился пока тем, что написал хорошее либретто, достаточно интересное и без пошлостей. Одним словом, "Риенци” вполне еще подходит под традиционный тип большой оперы. Исторический сюжет, пьеса для большого спектакля и без особенных литературных претензий, балет-пантомима, блестящая музыка, написанная по употребительным образцам, — все эти обыкновенные спутники оперы находят себе место в первой работе Вагнера. Следовательно, нечего удивляться тому, что, когда автор вполне понял самого себя и создал для себя оригинальную драматическую форму, то возымел довольно слабое уважение к этому произведению юных лет, столь мало удовлетворявшему требованиям его эстетики. Уже в 1847 году, управляя репетициями "Риенци” в Берлине, он заметил, что некоторые роли требовали со стороны певцов чрезвычайных физических усилий, и просил актеров простить ему эту ошибку как "грех юности”. Позднее, в своей переписке с Листом, он откровенно заявляет, что более уже не интересуется "Риенци” и смотрит на него как на пьесу эффекта, годную самое большее на то, чтобы приносить несколько денег. Наконец, в своих "Письмах о музыке” (1861 г.) Вагнер отзывается о нем довольно пренебрежительно, как о работе, "полной юношеского огня”, но с исторической точки зрения его идей не имеющей большого значения, лишенной истинной оригинальности и написанной по образцу героической оперы Спонтини и под влиянием французских опер Обера, Мейербера и Галеви.
Однако относительно "Риенци” невозможно принять без оговорок то мнение, может быть, весьма распространенное, хотя и основанное также, как видно, на признании самого автора, что это произведение есть только опера "a la Мейербер”, без всякого сходства с позднейшими произведениями Вагнера. В самом деле, есть весьма основательное указание на то, что самая дата композиции "Риенци” мешает отнести это произведение к произведениям, вышедшим из мейерберовской школы. Действительно, "Риенци” вышел в свет в 1838 г., следовательно, значительно раньше "Пророка” и "Африканки” что же касается "Гугенотов”, то, правда, они появились в 1836 году, но, приняв во внимание медленность сообщения между артистическим миром Парижа и Риги, станет невероятным, чтобы Вагнер знал о "Гугенотах” в тот момент, когда писал свою оперу. Чтобы утверждать, что доля влияния в композиции "Риенци” принадлежит Мейерберу, нужно доказать, что произведение Вагнера было подражанием "Роберту-Дьяволу” (1831 г.), а это особенно нуждается в правдоподобии. В сущности, Вагнер в "Риенци” скорее исходит от Глюка и Спонтини, чем от Мейербера.
С другой стороны, нужно еще не ошибиться в настоящем понимании признаний Вагнера относительно "Риенци”. Когда Вагнер говорил, что рассматривал свой сюжет "через очки оперы” и не придавал особенного значения стилю и форме стихов, то отнюдь не хотел этим сказать, что его либретто, как большинство оперных либретто, есть только простой предлог к музыке. Позднее Вагнер упрекает всех вообще оперных композиторов, а в частности и Мейербера, в том, что они вечно гоняются за эффектом ради эффекта и достигают своей цели ценою худших невероятностей, что сочиняют свои произведения, нанизывая один на другой ряд более или менее блестящих отрывков и не заботясь о достоинстве драматических элементов, заключающихся в их сюжетах. Но и сам он не уберегся от того, чтобы не впасть в ошибку, которую позднее должен был осуждать в своих соперниках. Его всегдашний исходный пункт — это драматическая идея. Он вполне искренно вдохновился своим сюжетом и "страстно полюбил своего героя Риенци вместе с великими мыслями, теснившимися в его голове и в его сердце”, трагическая судьба которого "потрясала сочувствием все мои нервы”.
Высшим источником вдохновения от начала до конца его работы была горячая любовь к свободе, пламя которой он ощущал в собственном своем сердце и славное и благородное воплощение которой он видел в Риенци. Не без вероятности можно сказать, во-первых, то, что "Риенци” был драмой Июльской революции, как понимал ее Вагнер, т. е. как борьбы за свободу и право против самоуправства и деспотического произвола грубой, развращенной аристократии, во-вторых, то, что всей драмой управляла моральная идея, выражаемая в разных формах действующими лицами — Риенци, Иреной и Адриано, — идея искупления отечества жертвою отдельной личности ради пользы целого общества. Вагнер всегда искренно стремился создать настоящую драму, которая представляла бы интерес сама по себе, а не только по тем музыкальным тонкостям, причиною которых она являлась. По отношению к самому Вагнеру она могла явиться доказательством добровольного отречения от всех чисто музыкальных эффектов, представлявшихся его воображению независимо от самой драмы. Поэтому он, в сущности, драматург — и это со времени "Риенци”, — но драматург, у которого столкновения страстей, кризисы чувств — вообще то, что составляет сущность каждой драмы, — одновременно вызывает мотивы поэтические и музыкальные. Но то, чем отличается "Риенци” от позднейших драм Вагнера, не состоит в преобладании музыкального элемента над элементом драматическим. В самом деле, "Риенци” есть драма по тому же праву, как и прочие произведения Вагнера. Только при разработке этой драмы художник придал больше значения музыкальной стороне своей работы, чем поэтической: слово служило ему лишь для того, чтобы вкратце набросать внешние контуры произведения, чтобы представить действующих лиц и установить общий план, не особенно заботясь о том специально поэтическом значении, которое мог иметь этот эскиз сам по себе; напротив, все свои заботы он сосредоточил на музыкальном воплощении драматической идеи, полагая, что и одной музыки достаточно для того, чтобы посвятить зрителей в страдания действующих лиц, выводимых на сцене, и сообщить им кое-что из того восхищения, которое сам он чувствовал пред величавой фигурой Риенци вместе с его идеями. Итак, нельзя, будучи справедливым, не признавать в опере Вагнера, несмотря на ее посредственность в литературном отношении, истинной красоты драмы, ни смешивать ее с теми, столь осуждаемыми Вагнером либретто, в которых драматический интерес так же сильно хромает, как и поэтическое достоинство.
Нужно ли теперь идти дальше и, как делает это один из наиболее справедливо уважаемых критиков-вагнерианцев, почитать в "Риенци” драму высокого стиля, более прекрасную и более "истинную”, чем роман Бульвера, из которого она взята? Может быть, и очень мало преувеличения в такой похвале произведению, в недостатках которого признавался сам автор. Из сравнения романа Бульвера с драмой Вагнера с первого же взгляда видно, что Вагнер сильно сжал историческое действие, развивающееся в несколько сложном повествовании Бульвера, и что он также упростил и обобщил характеры героев романа, иногда очень сложные. Например, Бульвер показывает нам в Риенци не только свободолюбивого патриота, но и искусного политика, покровителя промышленности, суеверного католика и, наконец, любовника одной богатой, знатной дамы. Вагнер довольствуется тем, что отмечает небольшое число существенных черт, рисующих нравственную физиономию его героя: восторженную любовь к отечеству, способность к самопожертвованию, великодушие по отношению к врагам, веру в Бога. Но это упрощение действия, эта идеализация характеров, т. е. то, чем отличается произведение Вагнера, не строит успеха необходимо на романе Бульвера. Желающие восторгаться оперой "Риенци” могут, по справедливости, опираться на факты, доказывающие, что Вагнер сумел сжать в одно, вместе простое и грандиозное, драматическое действие длинную и долгую эпопею Бульвера. А желающие осуждать ее могли бы основываться на тех же самых фактах, оказывающих, что Вагнер переделал картинный, живой роман своего предшественника в отвлеченное, вообще несколько банальное либретто. И они не нуждались бы в аргументах, говорящих в пользу этого положения. Они могли бы указать на то, что если характер Риенци и вышел довольно удачен, то прочие действующие лица — Ирена, Адриано, Орсини, Колонна, столь живые в романе Бульвера, в опере Вагнера — почти что силуэты; что особенно Адриано у Вагнера, — сначала такой нерешительный и неловкий в роли посредника между своими родителями и Риенци и такой сильный потом, когда однажды он принял сторону против трибуна, — фигура весьма неопределенная и малоинтересная. Они могли бы, наконец, заставить обратить внимание и на то, что как историческая драма "Риенци” нередко обладает свойством чересчур поверхностной психологии; например, большая сцена, которой начинается 4-й акт, после триумфа Риенци в конце 3-го акта, вряд ли достаточна для того, чтобы заставить нас действительно прочувствовать и понять мотивы, столь неожиданно лишающие Риенци доверия со стороны народа; что особенно перемена в поведении легата, который в четвертом акте отлучает Риенци от церкви, тогда как поддерживал его в начале действия, наступает в опере Вагнера, как событие неожиданное, ничем не подготовленное и причины которого для зрителей остаются почти непонятными.
Вагнер очень хорошо отдавал себе потом отчет в тех слабых местах, которые встречаются в его юношеской драме. Прежде всего видно, что "Риенци” осталась попыткой, стоящей особняком среди его произведений; что, несмотря на успех первой своей оперы, он никогда не возвращался уже к историческому жанру, а если ему и случалось впоследствии набрасывать драмы, взятые из истории, как "Манфред” или "Фридрих Барбаросса”, то в конце концов он всегда отступал пред исполнением. Позже, в "Опере и драме”, Вагнер изложил основания, препятствовавшие ему продолжать тот путь, с которым он был связан через "Риенци”. В самом деле, для него стало ясно, что исторические сюжеты не могут быть пригодны для музыкальной драмы именно в силу того, что, в данном случае, почти невозможно осуществить той гармонии музыки и слова, к которой должен стремиться поэт-музыкант.
Конечно, в большом историческом событии можно найти драму, в которой бы приходили в столкновение страсти вечно человеческие и потому годные для переложения на музыку; так, например, те общие чувствования, которые составляют некоторым образом основание драмы "Риенци” — патриотизм, любовь к свободе — могут быть одновременно выражены и поэзией, и музыкой. Но каждая историческая драма неизбежно заключает в себе кроме общечеловеческого элемента элемент специфически исторический и случайный; с такой точки зрения "Риенци” должен быть исторической картиной римской жизни в XIV веке, живым описанием людей той эпохи с их нравами, их обычаями, их моральными и социальными предрассудками. Но все, что условно, случайно, все, что меняется со временем и с модой, может быть выражено словом и понято умом; зато невозможно то же самое дать почувствовать непосредственно сердцу в музыке. Таким образом, автор исторической оперы является застигнутым врасплох между двумя одинаково настоятельными крайностями: с одной стороны, ему нужно выкинуть по возможности весь случайный элемент, — но тогда исторический интерес рискует испариться; с другой стороны, если он хочет сохранить на своем произведении отпечаток истории, то должен ввести в него длинные пассажи, где нужны одни только слова, для понимания которых не требуется никакого музыкального аккомпанемента; но если композитор упорно идет дальше, его музыка не имеет уже никакой необходимой связи с действием и словами; она является лишь накладным орнаментом по отношению к тексту, который вполне мог бы удовлетвориться самим собою.
Все эти возражения против самого жанра исторической оперы, изложенные Вагнером в 1850 году в его теоретических сочинениях, само собою разумеется, еще не чувствовались им в 1838 году, в то время, когда он писал "Риенци”, а потому он был счастлив, ставя на ноги "большую оперу”, которая, по его мнению, была по меньшей мере так же хороша, как те, которым рукоплескали в Париже в предшествующие годы. А когда в 1839 году ему было отказано от должности капельмейстера из-за интриг бессовестного друга, желавшего получить его место, он покинул Ригу без малейшего сожаления, почти без денег, но с сердцем, полным надежд, и отплыл на судне в Париж, где с помощью "Риенци” рассчитывал найти и славу, и деньги.
Глава I: IV. Вагнер в Париже
Дебюты Вагнера в Париже. — Первый эскиз “Моряка-скитальца”. — Мнение о парижских театрах. — Новый художественный идеал. — Новые композиции.
В новелле, являющейся продолжением “Паломничества к Бетховену” и озаглавленной “Конец одного музыканта-иностранца в Париже”, Вагнер в юмористической форме — с прибавлением трагической развязки — рассказывает о собственных своих мытарствах в Париже. Прежде всего он представляет нам своего героя, молодого музыканта-немца, только что высадившимся в Париже; он был одет по провинциальному и в сопровождении великолепного водолаза; его сострадательное сердце жалело бедных лошадей фиакра, которые под беспощадными ударами тащились по вязкой мостовой; и он никогда не сердился, если какой-нибудь уличный мальчишка налетал на него и сталкивал его в канаву. “К своему несчастью, он обладал артистически чувствительной совестью, был честолюбив, но без наклонности к проискам; раз как-то в юные годы он увидел Бетховена, который вскружил ему голову в то время, когда немыслимо было, чтобы он мог устроить себе карьеру в Париже”. Этот наивный энтузиаст прибыл в Париж попытать счастье — с серьезными и комическими операми, с партитурами инструментальной музыки, романсами, но без денег и без рекомендаций, рассчитывая в триумфе на свой талант, на виртуозов, которые станут исполнять в салонах его романсы, на директоров консерваторий и театров, которые поспешат познакомить публику с его произведениями, на беспристрастную и неподкупную прессу, которая повсюду сделает известным его имя. Естественно, разочарования не заставили себя долго ждать. Никто даже и не думает слушать его, потому что у него нет ни имени, ни случая; он тратит свои силы и энергию на бесконечные стояния во всех передних; средства его истощаются; он узнает голод: его единственная собака, красивый водолаз, и та покидает его, убегая за каким-то англичанином, меломаном-охотником, который потом причиняет несчастье бедному животному, заставляя его присутствовать при музыкальных упражнениях своего нового хозяина на охотничьем роге. Безумие овладевает им и омрачает его мысль. Он замышляет писать музыку для балаганных представлений “петрушки” на Елисейских полях; он бесцельно бродит по улицам, не смея больше показываться даже и в передних, до тех пор, пока, изнуренный голодом и нищетой, не умирает на чердаке Монмартра, исповедуя даже среди агонии свою непоколебимую веру в Бога, Моцарта, Бетховена и в высшую силу великой музыки, наполняющей бесконечной радостью тех, кто обещался ей верным и бескорыстным служением.
Подобно герою своей новеллы, Вагнер в один прекрасный день высадился в Париже — бедный деньгами, но богатый надеждами — с женой своей Минной и великолепным водолазом с кличкою Роббер. Более счастливый, чем его музыкант-немец, он являлся, по крайней мере, снабженный рекомендательными письмами от знаменитого и всемогущего своего соотечественника Мейербера, с которым ему удалось познакомиться в Булони. У него даже был счастливый случай получить доступ в парижский артистический мир под покровительством самого Мейербера, прибывшего на короткое время в Париж немного спустя после приезда Вагнера. Поэтому дебюты его сошли довольно удачно; он повсюду встречал если не очень теплый, то, по крайней мере, благосклонный и вежливый прием и первое время мог надеяться на то, что ему скоро придется представить свои произведения на суд публики. Но вскоре наступили разочарования, и он не замедлил убедиться в том, что добрые слова в Париже — только на языке, и что от обещания далеко до исполнения. Чтобы обратить на себя внимание, он попробовал сначала писать романсы для парижских салонов, положив на музыку “Двух гренадеров” Гейне, “Миньону” Ронсара, “Ожидание и “Сон моего дитя” Виктора Гюго; но эти романсы нашли слишком сложными для того, чтобы они могли иметь успех в салонах; к тому же он вскоре догадался, что модные певцы нисколько не заботились о том, чтобы показать парижскому свету нового молодого композитора-немца. В то же время, горячо поддерживаемый Мейербером, Вагнер принес директору театра Ренессанс Антенору Жоли “Запрещенную любовь”. После долгих и тяжелых хлопот усилия Вагнера, казалось, приводили его к цели: он нашел переводчика Дюмерсана, стихи которого, как оказалось, лучше подходили к музыке, чем стихи в немецком оригинале; ему удалось преодолеть последние колебания Жоли. В ожидании увидеть “Новость в Палермо” (такое название получила “Запрещенная любовь”) он уже подумывал переправиться в Ренессанс, сильно рассчитывая с этой пьесой, написанной в современном вкусе, на успех, который откроет ему двери Оперы, как вдруг весною 1840 года Ренессанс прогорел. После такой катастрофы, разрушившей его надежды, он унизился до того, что выпросил себе заказ — написать музыку к одному водевилю “Descente de la Courtille”, но и здесь ему не повезло, по мнению одних — из-за интриг профессионального водевилиста, сумевшего отбить у него заказ, по мнению других — из-за хористов Варьете, будто бы заявивших, что его музыка совершенно неисполнима.
Одно время он мог надеяться на блестящий реванш. Мейербер — за кратковременное свое пребывание в Париже в 1840 году — настоятельно рекомендовал Вагнера новому директору Оперы, Леону Пилье; и перед глазами молодого композитора блеснула перспектива постановки лирической драмы, которую Пилье заказал ему специально для Оперы. Придя в восторг от этого неожиданного предложения, Вагнер тотчас же набросал драму на сюжет легенды о Летучем Голландце, и поспешил снести ее к Пилье. Тем временем Мейербер покинул Париж. Пилье, прочитав сценарий, настолько остался доволен им, что предложил автору продать ему этот сценарий, чтобы отдать его какому-нибудь другому музыканту, — сказав при этом, что вследствие прежних обязательств он все равно не мог бы поставить написанную Вагнером оперу раньше 4-х лет, а до тех пор у композитора будет много времени для того, чтобы найти другой сюжет. Сначала Вагнер наотрез отказался от этой сделки в надежде на то, что возвращение Мейербера сделает Пилье более благосклонным к нему. Но Мейербер не приезжал. И когда до Вагнера дошли слухи, что Пилье, не посоветовавшись с ним, отдал его сценарий в руки либреттиста Поля Фуше, то, чтобы не остаться безо всего, он решился уступить свой эскиз за 500 франков (летом 1841 г.). Так плачевно окончились все попытки Вагнера видеть себя на парижской сцене. Не удалось ему также заставить оценить и свою симфоническую музыку: одна из его симфонических увертюр была прорепетирована для концерта консерватории в январе 1840 г., но никогда не исполнялась перед публикой; в следующем году он добился исполнения своей увертюры “Христофор Колумб” на одном концерте, устроенном издателем Шлезингером (4 февраля 1841 г.); но медные инструменты так врали, что она осталась непонятной для публики.
Естественно, что скудные средства Вагнера скоро были исчерпаны его пребыванием в Париже; с зимы 1839-1840 г. он узнал лишения. Потом это была черная нужда. И если он не впал в самую крайнюю нищету, то только благодаря Шлезингеру, которому рекомендовал его Мейербер: он дал Вагнеру работу, позволявшую ему добывать кусок хлеба. Вагнер должен был перекладывать для фортепиано с пением оперы вроде “Фаворитки” Доницетти, писать аранжементы для всевозможных инструментов, до корнет-а-пистон включительно, ко многим модным операм, как “Фаворитка”, “Гитарреро”, “Роберт-Дьявол”, “Гугеноты”, “Кипрская царица”, “Занетта” и т. п. Кроме того, он выступил в качестве писателя и художественного критика. Он сочинил для “Музыкальной газеты” Шлезингера две новеллы: “Посещение Бетховена” (1840 г.) и “Конец одного музыканта-иностранца в Париже” (1841 г.), которые понравились не только публике, но и таким знатокам, как Берлиоз и Гейне. Для той же газеты он написал ряд отчетов, фантазий и эстетических каприччио; в то же время он редактировал парижскую корреспонденцию для немецких журналов: “Neue Zeitschrift fur Musik” Шумана, “Europa” Левальда и дрезденской “Abendzeitung”. Сделавшись журналистом, он доволен был по крайней мере тем, что мог отомстить едкой иронией и острыми сарказмами за те оскорбления, которые ему приходилось выслушивать как артисту. “Я вступаю на новый путь, — говорит он, — это путь возмущения против современного артистического мира, с которым до сего времени я хотел жить мирно, думая найти счастье в его блестящей столице, в Париже”.
В самом деле, нескольких месяцев было достаточно для того, чтобы взгляды Вагнера на художественное значение французского музыкального мира изменились. Он пришел в
Париж с убеждением, что наша славная Королевская Музыкальная Академия была первой лирической сценой в Европе, и что успех в Париже окончательно классифицировал автора; конечно, он не преклонялся без исключения перед всей той музыкой, которая игралась в Опере, но он думал, по крайней мере, что этот театр откроет композитору — для осуществления его идей — единственный в мире источник средств, и что музыкант ничего так не должен желать, как только возможности воспользоваться всеми этими средствами для того, чтобы сделать ценным произведение возвышенного характера и искреннего вдохновения. Но скоро мнение его изменилось.
Он сейчас же увидел, что наиболее видные французские композиторы, как Обер и Галеви, обладали более умением, чем талантом, и что вместо того, чтобы преследовать чисто художественные цели, они, главным образом, старались с успехом эксплуатировать свой талант, искусно угождая вкусам публики. Он нашел, что исполнение в Большой Опере было не лучше, чем сами представляемые произведения; что в этом исполнении никогда не чувствовалось ничего высокого, ничего истинно художественного; что хоры там хуже, чем в дрезденском театре; словом, его приводила в восторг исключительно одна только сценическая постановка, блеск и утонченная роскошь которой доставляли его чувству страстное удовольствие. Большой Опере он предпочитал Комическую Оперу, представления которой, по его мнению, давали “нечто полное и оригинальное, чего напрасно было бы искать в Германии” зато та новая музыка, которая игралась там, “с ее пошлыми кадрильными ритмами”, принадлежала, по его мнению, “к самым гнусным произведениям, когда-либо появлявшимся в эпохи художественного упадка”. Что касается итальянской оперы, то она внушала ему настоящий ужас; итальянская музыка, чувственная красота которой одно время очаровывала его в Германии, теперь казалась ему гораздо ниже самой французской музыки; он возненавидел прославленных виртуозов-певцов, в особенности знаменитого в то время кумира парижской публики Рубини. И он пришел к тому заключению, что к искусству в Париже относятся легкомысленно и без уважения; что композиторы думают только о том, как бы набить себе карман, артисты — как бы блеснуть для своей выгоды — вместо того, чтобы верно исполнять произведения музыкантов; что, наконец, публика, которой также коснулась тлетворная зараза этой испорченной среды, потеряла всякое серьезное отношение к искусству и находит удовольствие в том, чтобы следить за трудными проделками виртуозов или созерцать великолепие роскошной сценической постановки.
Тогда-то, среди той парижской сутолоки, где он чувствовал себя одиноким и непонятым, в этом блестящем легкомысленном свете, который своим скептическим дилетантизмом в искусстве оскорблял самые священные его убеждения и сам ничего не смыслил в артистическом сознании и творческом гении молодого чужестранца, Вагнер почувствовал, как в душе его снова зажглась — более пламенно, чем когда-либо — любовь к великой немецкой музыке. Отдаваясь до сих пор чарам чувственного, светского искусства — французского и итальянского, — теперь он снова возвращался — униженный, с сокрушенным сердцем — к культу Бетховена, к тому богу его юности, которого одно время в начале своей композиторской деятельности он отвергал. Чуть ли не с религиозным восторгом прослушал он на концертах консерватории симфонические произведения маэстро, и в особенности — симфонию с хорами, всю божественную красоту которой впервые раскрыл пред ним Габенек со своим чудным оркестром.
Мужество вернулось к нему. Музыка явилась для него, как он говорит, добрым ангелом, который, утешая его в часы горя и уныния, мешал ему ожесточиться среди долгих испытаний, позволил ему в эти годы скорби и унижения сохранить неприкосновенными творческие способности артиста. Он почувствовал, что, несмотря на дорого стоившие ему заблуждения, он также был одним из тех немецких музыкантов, о которых он говорит с чувством нежной симпатии в статье, написанной им в то время; одним из тех убежденных, для которых искусство является святилищем, которые любят музыку саму по себе и за те святые минуты восторга, которые она дает им, потому что она является для них внутренней, глубокой потребностью, высшим наслаждением в жизни, а не потому чтобы они смотрели на нее, как на средство блеснуть или составить себе карьеру в свете. Теперь он наверное знал, что идет к художественному идеалу, радикально отличному от той французско-итальянской оперы, лживое изящество и пустую помпу которой он презирал; и, озаренный еще несколько смутной интуицией, он начал прозревать, какова должна быть та музыкальная драма, к которой он стремился всеми фибрами своего существа. В “Паломничестве к Бетховену” он влагает в уста Бетховена такую исповедь, которая, очевидно, является лишь выражением его собственных чувств. “Если бы я стал писать оперу, следуя моему влечению, то распугал бы ею всю публику, потому что моя опера не заключала бы в себе ни арий, ни дуэтов, ни трио, — ни одного из тех кусков, из которых кое-как скраивается нынешняя опера. Если бы я создал такое произведение, то я не нашел бы ни певцов, чтобы петь его, ни публики, чтобы понимать его. Все знают только раскрашенную ложь, блестящую пустоту да искусно прикрытую скуку. Того, кто захотел бы написать истинную музыкальную драму, сочли бы за сумасшедшего, и это было бы на самом деле, если бы, вместо того, чтобы хранить ее для себя, он вздумал показать ее пред публикой”.
Такую драму должно понимать так, как Шекспир понимал свои трагедии. Недостаточно написать для актрис несколько изящных музыкальных фраз, в которых они могли бы блеснуть своими вокальными средствами. Голос человеческий — несравненно более прекрасный инструмент, чем все инструменты оркестра; но мы должны научиться владеть им с такой же независимостью, как и последними, должны создать вокальную музыку, подобно существующей теперь музыке инструментальной. “Инструменты представляют собой примитивный орган живых существ и природы; то, что они выражают, никогда не может быть ясно определено и точно указано, потому что они воспроизводят первичные чувства так, как они вышли из начального хаоса творения, когда, может быть, даже еще и не было людей, которые могли бы воспринимать их в своих сердцах. Совсем другое — человеческий голос: он представляет собой человеческое сердце вместе с его определенными, индивидуальными впечатлениями. Следовательно, характер его является ограниченным, но при этом ясно и определенно. Теперь возьмите одновременно оба эти элемента и соедините их! Рядом с примитивными, дикими чувствами, стремящимися в бесконечную ширь и представляемыми оркестром, поместите ясное, определенное чувство, представляемое человеческим голосом. Своим вступлением на сцену этот второй элемент произведет благодетельное, примиряющее действие на борьбу первичных чувств: он придаст их бурному водовороту определенное, согласное течение. В свою очередь, человеческое сердце, ассимилируя эти примитивные впечатления, почувствует себя бесконечно более широким и окрепшим; оно станет способным ясно ощущать в самом себе дотоле туманную интуицию того, что есть высшего в мире, т. е. проникнется сознанием божественного”.
И вот в минуты, свободные от литературно-музыкального ремесла, которым он занимался, исполняя заказы Шлезингера, Вагнер снова принимается за композицию, не рассчитывая на непосредственный успех и не заботясь о том, где и когда могут быть исполнены его произведения. За зиму с 1839 на 1840-ой год, под впечатлением прослушанной им в консерватории симфонии с хорами, он пишет увертюру к “Фаусту” Гете; в продолжение 1840 г. (с 15 февраля по 19 ноября) заканчивает партитуру “Риенци” и сейчас же посылает ее в Дрезден, где благодаря еще сохранившимся связям можно было надеяться, что она будет благосклонно принята. Наконец, в 1841 году, после крайней неудачи с Леоном Пилье, он уезжает в деревню, в Медон, где в семь недель пишет своего “Моряка-скитальца” и 13 сентября оканчивает эскиз этой драмы, к которому мы и вернемся в следующей главе.
Работая над “Моряком-скитальцем” в первых числах июля, он получил известие, блеснувшее ему лучом надежды на счастье среди той черной нужды, от которой он отбивался. В письме, помеченном 27 июня 1841 г., управляющий дрезденским театром, фон Литтихау, сообщил ему, что “Риенци” принят и будет исполнен в возможно непродолжительном времени. Итак, он мог надеяться на удовлетворение — в одном из лучших немецких театров — за свои унижения и неприятности в Париже. И хотя сезон с 1841 на 1842 г. прошел, а дирекция дрезденского театра так и не решилась поставить на сцене его произведение, все же мужество и веселость вернулись к нему. В последние месяцы своего пребывания в Париже он принужден был с удвоенным жаром предаваться писательству по заказу не только для того, чтобы существовать, но и для того, чтобы заработать на поездку в Дрезден. Наконец 7-го апреля 1842 г. он мог двинуться в путь и возвратиться в тот город, где протекла его юность. “В первый раз, — говорит он в своей автобиографии, — я увидел Рейн: глаза мои наполнились слезами, и я, я, бедный артист, поклялся в вечной верности немецкой отчизне”. Горечь изгнания, вынужденное соприкосновение с французским духом, к которому он питал “инстинктивную антипатию”, разожгли в нем любовь к родной земле, нежную любовь к немецкой публике, среди которой он надеялся встретить сочувствие, в чем он так нуждался в Париже. Он отрекся — если не навсегда, то, по крайней мере, надолго — от своей мечты о всемирной славе, от того страстного желания успеха в Париже, которым было полно его сердце, когда он покидал Ригу. Создать себе имя, положение в Германии и трудиться над возвеличением немецкого искусства — такова была с этих пор его заветная мечта и надежда.
Глава II: I. Проекты реформы
“Победа! Победа! О мои добрые, мои верные, дорогие друзья! День настал; для всех вас будет светить он!” В таких выражениях Вагнер, шесть месяцев спустя после того, как покинул Париж, возвещал небольшому кружку преданных ему друзей — которых он оставил там — о блестящем успехе первого представления “Риенци” (20 октября 1842 г.). Внезапно, чуть ли не непосредственно после страха пред нищетой, он познал восторги триумфа; бедный музыкант, в продолжение трех лет прозябавший в безызвестности, пишущий из-за куска хлеба аранжементы и “копирующий” для музыкальных газет, в один прекрасный день проснулся знаменитостью, модным автором, большим любимцем дрезденской публики, которая каждый вечер восторженно аплодирует ему. И так как представления “Риенци” продолжали свое триумфальное шествие, то дирекция дрезденского театра приняла и “Моряка-скитальца”, партитура которого, забракованная в Мюнхене и Лейпциге, валялась среди хлама берлинской оперы; новое произведение Вагнера, быстро разученное, было представлено 2 января 1843 г. и имело столь же полный успех — по крайней мере, по-видимому, — как и “Риенци”. Благодаря этим двум триумфам молодой музыкант в конце января был назначен на весьма завидный пост капельмейстера Дрезденской Королевской Оперы, с годовым окладом жалованья в 1500 талеров. Это было большой неожиданностью для такого запутавшегося в долгах бедняка, как Вагнер. Однако он принял это предложение без восторгов и чуть ли не с грустью. Он боялся, как бы благодаря новым служебным обязанностям опять не впутаться в ту закулисную жизнь, всю мелочность которой он узнал за четыре года, когда был капельмейстером в Магдебурге, Кенигсберге и Риге. Принимая на себя официальную обязанность, которая необходимо должна была отнимать у него большую часть времени и энергии, он особенно боялся, как бы не продать своей свободы. Если тем не менее Вагнер решился принять предложенное ему место, то это случилось, быть может, менее всего из-за тех материальных выгод, которые оно доставляло ему, и больше — в тех видах, что ему как королевскому капельмейстеру представится возможность подготовить в Дрездене серьезную реформу оперы и проложить таким образом путь к тому новому пониманию искусства, которому он хотел положить начало в Германии.
Мысль — создать в Дрездене художественный центр, отвечающий его идеям, — вполне естественно пленила воображение Вагнера. В самом деле, Дрезденская Королевская Опера была одной из первых лирических сцен Германии. Театр только что был построен по планам Готфрида Семпера, и зал отделан лучшими парижскими декораторами. Оркестр был большой и состоял из превосходных артистов, из которых некоторые, как скрипач Липинский, виолончелист Доцауер и
особенно флейтист Фюрстенау, были знаменитые виртуозы. Хоры отличались стильностью исполнения благодаря Фишеру, сознательному, убежденному музыканту и задушевному другу Вагнера, которому он всегда помогал усердно, с трогательной самоотверженностью. Не менее усердным и столь же преданным делу Вагнера был и режиссер оперы, восхитительный Гейне, с которым маэстро был всегда в дружеских, сердечных отношениях. Персонал певцов и певиц был также весьма удовлетворителен. Во главе их нужно отметить двух перворазрядных артистов: тенора Тишачека, блиставшего в ролях Риенци и Тангейзера, и особенно Вильгельмину Шредер-Девриен, знаменитейшую актрису во всей Германии, которая, показав как-то Вагнеру в “Ромео” Беллини, как гениальное исполнение может преобразить в ее игре посредственное произведение, воплотила на сцене многие из его первых ролей: Адриано в “Риенци”, Сенту в “Моряке-скитальце”, Венеру в “Тангейзере”. Прибавим, наконец, что дрезденская опера пользовалась денежной субсидией; а это, по мнению Вагнера, должно было избавить его от необходимости раболепно подделываться под вкусы публики. Все это, в общем, требовало весьма солидных средств, значительную часть которых мог привлечь глава оркестра, энергичный и способный вложить во все эти различные элементы истинно художественный дух. Чего не доставало до того времени Дрездену, так это именно художественного духа. Не находилось никого, кто бы достойно мог продолжать дело реформы, столь славно начатое Вебером. Ни у товарища Вагнера, Готлиба Риссигера, занявшего в 1827 году после Вебера место капельмейстера, ни у директора Королевской Оперы, барона фон Литгихау, не было ни энергии, ни авторитета, ни способностей, необходимых для того, чтобы хорошо повести подобное дело. Им обоим недоставало священного огня и заразительного энтузиазма, необходимых для того, чтобы возбуждать и оживлять персонал оперного театра и получать от него нечто, превышающее скромную посредственность.
Вагнер думал, что Дрезден, в конце концов, застыл в каком-то оцепенении, при котором всякое истинно художественное представление было невозможно. Следовательно, коренная реформа напрашивалась сама собой. Нужно было восстановить строгую дисциплину среди музыкантов в оркестре: обратить внимание на те произведения, исполнение которых было испорчено небрежностью и забвением хороших традиций; посвятить больше заботы тем новым произведениям, которые ставились на сцене; перевоспитать певцов, застывших в оперной рутине, и приучить их к лирической декламации; пробудить в публике чувство прекрасного, предлагая ей классические образцы драматической и симфонической музыки, исполняемые в должном стиле и с полным совершенством; продолжать, наконец, художественное и патриотическое дело Вебера, объявив войну деморализующему влиянию французско-итальянской оперы и создав истинно национальную лирическую драму. Полный веры и решимости, Вагнер приступил к этой задаче. Он знал, что задача полна трудностей, но не считал ее неосуществимой, рассчитывая на свое упорство и на свою энергию, необходимые для преодоления всех препятствий. Сверх того, Вагнер чувствовал себя ободренным — благодаря тому блестящему успеху, который имел в Дрездене “Риенци”. Он надеялся, что публика, так хорошо встретившая его на первых порах, без затруднений пойдет за ним по тому новому пути, по которому он хотел вести ее. Три первые стадии этого пути мы сейчас и рассмотрим; то были: “Моряк-скиталец”, “Тангейзер” и “Лоэнгрин”.
Глава II: II. “Моряк-скиталец”
Рассказ Гейне. — Литературное значение “Моряка-скитальца”. — Вагнер и романтизм. — Вагнер и Гете. — Характеры в “Моряке-скитальце”. — Храктеристика Сенты. — Характеристика Летучего Голландца. — Внутреннее действие в “Моряке-скитальце”. а— Проблема искупления
История Летучего Голландца, мрачного героя первой музыкальной драмы Вагнера, взята из народной легенды. Начало ее нужно искать в суеверии, распространенном — несомненно, с незапамятных времен — среди приморского населения: корабли, которым суждено потерпеть крушение или уже потерпевшие его, как говорят, являются в виде теней или призраков на том месте, где произошла или должна произойти катастрофа. На этом суеверии, путем превращения народного поверия в эпическое повествование, сложилось множество рассказов, где фигурирует какой-то проклятый корабль, который показывается в различных видах мореплавателям и своим явлением вообще предвещает несчастье. Летучий Голландец (это странное название до сих пор остается необъясненным) — капитан одного такого корабля. Легенда о нем, которая, таким образом, есть только частный случай наиболее распространенной легенды о проклятом корабле, сложилась около 1600 года и передавалась в рассказах голландских моряков в продолжение XVII и XVIII столетий. Теперь она забыта; но в тот момент, когда она отживала, во второй четверти XIX века, ее удержали в памяти многие поэты и повествователи, как Генрих Смит, Мариетт, Гауф, Гейне; последние овладели старинной народной темой и придали ей те варьированные формы, в которых она дошла до нас.
Одна такая версия, именно версия Гейне, однажды попалась случайно на глаза Вагнеру, когда он перелистывал первый том Salon'а (в Риге), вышедший в 1834 г.
В одной юмористической новелле, озаглавленной “Мемуары г-на Шнабелевопского”, у Гейне явилась фантазия вставить наполовину смешной, наполовину трогательный рассказ легенды о Летучем Голландце и его проклятом корабле, который с незапамятных времен блуждаетпо волнам. Капитан его, смелый голландский моряк, поклялся дьяволом, что, несмотря на свирепствующую бурю, обогнет один мыс, и за это осужден был не приставать к берегам до дня последнего Суда. Дьявол поймал его на слове. С этого времени несчастный должен объезжать моря, не зная ни отдыха, ни покоя. Единственная надежда на спасение остается у него: верность женщины может освободить его.
“Как дьявол ни глуп, — говорит Гейне, —все же он не верит в постоянство женщины, а потому он и позволил проклятому капитану через каждые семь лет сходить на землю, жениться там и таким образом пытаться получить освобождение. Бедный Голландец! Он часто был рад освободиться от своей милой супруги и снова вернуться на свой корабль, чтобы прийти в себя от женской верности. На этой-то фабуле, — продолжает повествователь, — и основана та пьеса, которую я видел в амстердамском театре. Семь лет протекли, и бедный Голландец — усталый, как никогда, от бесконечного лавирования — сходит на землю, завязывает дружбу с одним встречным шотландским купцом, продает ему за баснословную цену свои драгоценности и, узнав, что у покупателя есть красивая дочь, просит у него ее руки. Дело это также устраивается. Затем действие переносится в дом шотландца. Юная девушка часто с грустью смотрит на висящую на стене почерневшую картину, которая, по словам ее бабушки, была точным портретом Летучего Голландца; к картине прибавляется традиционный совет, приглашающий замужних женщин остерегаться оригинала. Таким образом, с раннего детства черты этого опасного человека запечатлелись в сердце юной девушки. И лишь только она взглянула на вошедшего жениха, назначенного ей ее отцом, как вся задрожала при виде этих знакомых черт. Между тем Голландец, желая отвратить подозрение, смеется над суеверием и потешается насчет Летучего Голландца — этого морского странствующего жида, но в конце концов невольно отдается печали, описывая те страдания, которые должен испытывать несчастный среди необозримой пустыни океана: “Как пустая бочка, которую волны насмешливо бросают из стороны в сторону, так этот бедный Голландец все время колеблется между жизнью и смертью, и ни та, ни другая не желают его; скорбь его глубока, как море, по которому он носится; корабль его без якоря, и сердце его без надежды”. Глубоким состраданием наполнилось сердце юной девушки, когда она отгадала тайну чужестранца, и когда потом жених спрашивает ее: “Согласна ли ты быть верной мне?” — она решительно отвечает: “Верна до гроба”.
На этом Гейне, со свойственным ему приемом, прерывает свой рассказ, чтобы подтрунить, и пускается в отступление, которое не имеет ничего общего с описываемым им сюжетом, но которое позволяет ему уклониться от разбора пьесы и прямо приступить к развязке. “Когда я вернулся в театр, — продолжает Гейне, — как и нужно было ожидать, я застал последнюю сцену пьесы. Жена Летучего Голландца, m-me Летучий Голландец, взобравшись на высокий утес, в отчаянии ломала руки, а ее несчастный супруг уже стоял на палубе своего таинственного корабля, готовый отплыть в море. Он любит ее и хочет ее бросить, не желая того, чтобы и она погибла вместе с ним; он открывает ей свою ужасную судьбу и то страшное проклятье, которое висит над ним. Но она громким голосом кричит: “Я была верна тебе до сих пор, и я знаю верное средство сохранить свою верность до смерти!” С этими словами верная жена бросается в море; чары, висевшие над Летучим Голландцем, рушатся; он освобождается, и мы видим, как призрачный корабль исчезает в пучине волн. Мораль этой пьесы, — иронически заключает Гейне, — такова: женщинам — никогда не выходить замуж за Летучего Голландца; а нашему брату, мужчине, наука: когда женщины хотят улучшить положение вещей, то мы идем ко дну!”
Этот странный, разбросанный поэтический рассказ с самого начала глубоко засел в голове Вагнера, хотя в то время не вызвал в нем поэтического вдохновения, так как Вагнер был занят тогда сочинением “Риенци”. Немного спустя, во время его отважного путешествия из Риги в Лондон, буря пригнала его к норвежским берегам, к той бухте Сандвико, куда потом причалил его Голландец; там под грохот урагана он услыхал рассказы моряков о проклятом корабле и о его таинственном капитане. На этот раз старинный народный миф во всех красках ожил в его воображении. И вот, когда Пилье предложил ему написать для Оперы лирическую драму, то вполне естественно, что сюжет “Моряка-скитальца” пришел ему на ум. Он вошел в соглашение с Гейне, который и дал ему право воспользоваться его новеллой для предполагаемой драмы. Немного спустя эскиз “Моряка-скитальца” был написан и вручен Пилье.
Сочинение “Летучего Голландца” является капитальной датой в истории вагнеровской драмы. Между этой пьесой и “Риенци”, только на несколько месяцев опередившим первую, был громадный и даже столь удивительный скачок, что, по словам Вагнера, “ни у одного артиста жизнь не представляла такого — единственного в своем роде — примера полной трансформации, совершившейся в такой небольшой промежуток времени”. — И действительно, Вагнер в первый раз показал себя оригинальными драматургом. “С “Моряка-скитальца”, — говорит он в своем “Сообщении моим друзьям”, — я и начал свое поэтическое поприще, бросив ремесло либреттиста. В самом деле, “Феи”, “Запрещенная любовь”, “Риенци” были лишь приспособлением к сцене готовых литературных произведений — рассказа Гоцци, драмы Шекспира, романа Бульвера.
Зато на этот раз из всех материалов у Вагнера оказалось только несколько юмористических страниц Гейне да рассказы матросов, очевидно, весьма необделанные. Ему самому нужно было дать своему сюжету жизнь и литературную форму. И он создал уже не историческую махину, сложную и искусственную, как “Риенци”, а весьма скромную, трогательную драму, которая разыгрывается среди небольшого кружка действующих лиц: Голландца, его избавительницы Сенты, отца Сенты — Даланда, и ее жениха Эрика. Действие так просто, что Вагнер сначала даже думал уместить свой сюжет в одном акте и самую пьесу назвать “драматической балладой” если впоследствии он и придал своему произведению немного больше полноты, то при всем том он сильно стоял за то, чтобы не вводить в действие никакого произвольного усложнения, изгнать всякие чисто эпизодические подробности и выбросить все, что могло отзываться вульгарной романической интригой. Находят даже, что действие “Моряка-скитальца” больше, чем действие “Тангейзера” и “Лоэнгрина” приближается к той идеальной простоте интриги, которую мы отметили одной из существенных черт музыкальной драмы. Поэтому на “Летучего Голландца” — как по описываемому сюжету, так и по приданному ему смыслу — можно смотреть как на первую вагнеровскую драму в собственном значении этого слова. Теперь время вкратце отметить отличительные черты этого нового жанра и указать то место, какое, по нашему мнению, он занимает в истории немецкой литературы.
Драма Вагнера прежде всего сильно обнаруживает некоторые черты, благодаря которым она имеет связь с романтической традицией.
Она романтична, прежде всего, по самой природе описываемых в ней сюжетов. Известно, что самым, быть может, важным делом немецкого романтизма было воскрешение германского прошлого. Романтики не только благоговейно хранили в памяти все воспоминания об этом прошлом, как-то: литературные памятники средних веков, романы и народные песни, детские рассказы, легенды и предания, — но и захотели придать им настоящий, живой интерес. Они не удовлетворялись работой археологов, ученых, филологов; они мечтали восстановить во всей полноте сокровищницу полузабытых народных преданий не только для избранного кружка интеллигентов, но и для всего немецкого народа.
Отсюда вся та литература переводов, переделок, приспособлений, с которой неоспоримо имеют связь и произведения Вагнера. В самом деле, все сюжеты его драм являются заимствованными то из германской легенды, то из легенд чужеземного происхождения, сделавшихся народными в Германии в средние века. Все эти сюжеты были описываемы еще до Вагнера поэтами, бывшими в связи с романтической школой. Тик написал поэму о молодости Зигфрида и изложил в форме новеллы легенду о Тангейзере; Фуке восстановил в одной новелле легенду о Вартбургском турнире поэтов, и в драме “Сигурд, герой севера” — легенду о Нибелунгах; подобно ему, Гофман и Новалис вдохновились легендой о Вартбургском турнире; Иммерман, задумав изложить в стихотворной форме историю Рыцаря лебедя, написал удивительный эпический отрывок о Тристане и Изольде и драматический “миф” “Мерлин”, в котором он был вдохновлен легендой о Парсифале и Граале; Гейне благоразумно предоставил Вагнеру сюжет “Моряка-скитальца” и дал чудную, полную поэзии версию легенды о Тангейзере; прибавим, наконец, что Вебер хотел представить ту же легенду в форме оперы, по книжке Клеменса Брентано, и что Шуман в тот момент, когда Вагнер писал своего “Лоэнгрина”, думал описать подобный же сюжет, взятый из цикла Круглого Стола.
Из этого простого перечисления — легко было бы продолжить его — видно, что Вагнер постоянно развивал темы, которые, так сказать, “висели в воздухе”, и высокое поэтическое значение которых чувствовалось его предшественниками и современниками. Но тогда как большая часть литературных произведений романтизма для взрослой публики является теперь уже отжившей и представляет интерес разве только с научной точки зрения, — Вагнер сумел найти для описываемых им сюжетов окончательную форму, в которой они перешли к новому поколению и сегодня еще живут в воображении наших современников. Поэтому его драмы, так сказать, резюмируют для нового сознания большую часть романтических произведений.
Вагнер, по моему мнению, имеет связь с романтиками еще и с другой точки зрения: подобно им, он в высшей степени чуток к стихийным силам природы. Известно, что по понятию поэтов-романтиков природа действительно имеет душу, населена духами и привидениями; по их мнению — на самом деле существует душа леса, вод и гор, и об этой душе они умеют говорить как-то смутно и таинственно. У Тика, например, в его “Романтической школе”, Гейне отмечает поразившее его какое-то особенное согласие с природой, особенно — с царством растений и минералов. Читатель, говорит он, чувствует себя перенесенным в очарованный лес; он слышит мелодичное журчание подземных ручейков. Ему чудится в шелесте листвы несколько раз его собственное имя. Растения, кажущиеся ему одушевленными, широкими листами обвивают его ноги и загораживают ему путь; дивные незнакомые цветы раскрывают свои большие, всевозможных цветов глаза и смотрят на него; невидимые губы целуют его чело большие грибы колеблются у корней деревьев и звенят сладко, как колокольчики; большие птицы тихо качаются на ветвях и обращают к нему свои длинные задумчивые клювы... Все дышит, все трепещет, все полно ожидания.
У Бебера — то же самое глубокое ощущение природы; только он выражает его уже не словами, как Тик, а звуками. Внешние явления выливаются у него в мелодии; страны, которые он посещал, звучали, так сказать, в его воображении, как отдельные музыкальные отрывки; поэтому он имел способность вызывать с помощью музыкального воспоминания, запечатленного в его памяти, те зрительные впечатления, которые породили это воспоминание. Музыкальное описание природы составляет значительную долю прелести “Фрейшютца”, одного из самых совершеннейших драматических произведений, порожденных романтизмом. С бесконечной очаровательностью Бебер говорит здесь о поэзии леса, радостно улыбающегося при ярком блеске дня, трепетно меланхоличного при солнечном закате, зловеще-грозного в сумраке ночи — когда злые духи принимаются за свои забавы.
Подобно романтикам и еще больше, чем кто-либо из них, Вагнер умеет связывать природу с человеческими событиями и дать почувствовать нашему сердцу эту темную стихийную душу вещей. Мы уже раньше отметили в нем талант фрескового живописца, его удивительную способность видеть в драматическом действии ряд живописных и величественных картин, в которых большею частью фигурирует одна природа — природа существенно “романтическая”. Справедливо будет прибавить, что стихи его и в особенности его музыка — являются комментарием, особенно усиливающим впечатление от этих роскошных картин. Благодаря такому соединению внешнего действия с поэзией и музыкой Вагнер достигает эффектов редкой силы. Например, как “Фрейшютц” является поэмой леса, так “Моряк-скиталец” является поэмой океана с его свирепыми бурями, и равно как Вебер поражает воображение зрителей, показывая им фантастическую декорацию Волчьего ущелья, так Вагнер, употребляя аналогичный прием, показывает на сцене свой проклятый корабль, который, при мерцании молнии, беззвучно скользит по бешеному морю, со своими красными парусами, с черной мачтой и с призрачным экипажем, и встает перед глазами, как фантастический символ того ужаса, который охватывает душу матроса среди рева сорвавшегося с цепи океана.
В “Кольце Нибелунга” — в особенности — Вагнер дает такие описания природы, которые не могут быть ни с чем сравнены. Прежде всего изумительно начало “Золота Рейна”, которое посвящает нас в тайны жизни вод и показывает нам игры ундин, резвящихся вокруг подводных рифов, в глубине большой реки. В “Валькирии” — знаменитая любовная сцена Зигмунда с Зиглиндой, когда сладостное дыхание теплой весенней ночи открывает настежь двери в хижине Хундинга, когда свет луны внезапно заливает мрачное жилище, и из уст Зигмунда льется страстный гимн, в котором он прославляет святое упоение победоносной весны. Еще описание бури, когда среди разодранных облаков, среди молний, громовых раскатов и пронзительного свиста урагана летят валькирии. А особенно в “Зигфриде”, в той превосходной сцене второго акта, когда лес, полный трепетных голосов и щебетания птиц, манит своим шепотом к сладкой мечте совсем еще юную душу Зигфрида. Но к чему приводить многочисленные образцы таких описаний; глубокая очаровательность их только ускользает в анализе и никоим образом не может быть здесь доказана. Только что приведенного нами вполне достаточно, чтобы показать тому, кто чувствует эту очаровательность, что, как живописец стихийных сил природы, той чудесной и таинственной жизни вещей, которую мы смутно ощущаем вокруг себя, не понимая ее, — Вагнер с блестящим успехом продолжил романтическую традицию.
Он стоит выше романтиков как живописец человеческой души и тем самым более приближается к классикам, и в особенности к Гете.
В самом деле, романтики, в своих попытках воскресить германское прошлое, в большинстве случаев с успехом описывали почти только одни необычайный приключения, вызывая в нашем представлении любопытные живописные картины; и под броней рыцаря или кольчугой германского воина не показывали нам души, похожей на современную душу. Гейне сравнивает рыцарские рассказы Ламот-Фуке с теми громадными, искусно вышитыми грубой шерстью коврами, которые своим обилием фигур и великолепием красок поражают глаз, но не затрагивают души. Это сравнение можно применить к тем многочисленным произведениям той эпохи, в которых больше интереса представляет средневековый костюм, чем знание человеческих страстей. Такое произведение, как “Мерлин” Иммермана, в котором, как в “Фаусте” Гете или в драмах Вагнера, глубоко задумано внутреннее действие и интересна философская идея, представляет собою исключение в романтической литературе.
Обыкновенно внутреннему действию у романтиков не достает многого. Поучительно в данном случае сравнить “Фрейшютца” с “Тангейзером” как видно, и втом и в другом, в сущности, описывается один и тот же сюжет: борьба добра со злом, Бога с адом. Но в то время, как в “Тангейзере” эта борьба происходит в самой душе героя, раздвоенной жаждой сладострастия и чистой любовью к Елизавете, у Вебера грех Макса носит совершенно внешний характер. Объект его желания — любовь к нежной Агате — не имеет ничего преступного; Макс не мучится, как Тангейзер, нечистыми страстями; его вина единственно в том, что он призвал на помощь любви ад, — ад, которого он страшится и который ненавидит всей душой; поэтому-то его характер с психологической точки зрения гораздо меньше интересен, чем характер Тангейзера, так как мы до некоторой степени затрудняемся вполне серьезно относиться к греху столь чисто формального свойства, как его грех. К подобному заключению можно прийти при сравнении Елизаветы с Агатой. Елизавета посвящает себя делу спасения Тангейзера; она отдает свою жизнь ради искупления вины того, кого она не перестает любить, несмотря на его падение. Агата же — только дитя леса: она наивна, строга и совершенно пассивна. Она едва лишь входит в драму тем, что предостерегает Макса в тот момент, когда последний хочет идти в Волчье ущелье. Она только предчувствует в тени дремучих лесов таинственные, страшные силы и молится о том, чтобы любимый ею человек избег их козней. Не действием и не силою воли, а лишь сокровенным свойством своей чистой любви она влияет на исход драмы. Это — душа совсем примитивная, словно душа растения, едва ли более сознательная, чем та душа вещей, о тайнах которой любят говорить нам романтики.
Совсем иное представляют собою действующие лица у Вагнера. Это не условные типы, не манекены, наряженные в средневековые костюмы, не существа, едва начинающие сознательную жизнь и действующие скорее темным инстинктом, чем той волей, которая знает куда идет. Вагнеровская драма — так как мы ее определили в нашем вступлении — является существенно психологической и человеческой. Вагнер не довольствуется тем, чтобы окружить своих действующих лиц живописной, архаической обстановкой, не замыкается в описании природы и элементарной эмоции, но прежде всего заботится о том, чтобы нарисовать нам душу, ввести нас во внутреннюю жизнь человека. Поэтому его лирическая драма приближается к греческой трагедии, как классическая драма Гете, с которой у ней есть много аналогичного.
В самом деле, интересно видеть, как Гете и Вагнер, исходя из совершенно различных оснований, приходят в то же время к весьма близким друг к другу художественным формулам. Вагнер, как мы показали выше, становится исключительно на точку зрения артиста и основывает свою теорию музыкальной драмы на изучении выразительных средств, свойственных слову и музыке. Гете, особенно после своего путешествия в Италию, где он проникся классическим идеалом, является главным образом тем мыслителем, который стремится все больше понять вселенную не только в ее внешних и преходящих явлениях, но и в ее сокровенной истине, в ее вечных законах. Как ученый он ищет единства во вселенной; благодаря тому дару интуиции, о котором мы уже говорили, он старается показать аналогии, соединяющие между собой отдельные формы, показать, напр., что все породы животного или растительного царства суть только модификации одного и того же первобытного типа. Как артист он также стоит за бесконечную разновидность феноменов и за приведение их к единству. Как гениальный человек в каждом отдельном феномене во внешнем мире видит выражаемую им общую идею, так и артист в различных явлениях должен усматривать то, что является общечеловеческим. Он не должен привязываться к тому, что случайно, и останавливаться на описании характеристических деталей, отличающих индивидуум. Древние, в особенности греки, открыли человечеству высший закон великого искусства: они поступают, говорит Гете, так, как поступает природа, и создания их имеют нечто вечное и необходимое, как создания самой природы. По их примеру современный поэт также должен отрешиться от самого себя, — углубить свое зрение, не гоняться за эффектами, верно отражать вселенную, избегать манерности из-за стремления к стилю. Таким образом, по мнению Гете и Вагнера, хотя при совершенно различных основаниях, драма должна быть построена по образцу древней трагедии; на сцене должны быть выводимы типы общие и совершенно простые, должно останавливаться не на воспроизведении бесконечного и вечно меняющегося разнообразия индивидуумов, а на изображении человеческих чувств. Часто замечали, что драмы Гете местами похожи на оперу. Небезынтересно заметить, с другой стороны, что вагнеровская драма, “задуманная в духе музыки”, описывает романтические сюжеты приемами, довольно похожими на те, которыми пользовался Гете в своих последних драмах.
Однако не сразу Вагнер пришел к осуществлению той психологической, человеческой драмы, идеальный и окончательный тип которой мы разобрали дальше в “Тристане и Изольде”. В 1841 году, в то время, когда Вагнер писал “Моряка-скитальца” — к специальному разбору которого мы вернемся после настоящего уклонения в сторону главных черт музыкальной драмы — у него не было еще никакой определенной теории относительно музыкальной драмы. Как в выборе сюжета, так и в манере описывать его он руководился единственно своим художественным инстинктом; а этот инстинкт по временам был еще слаб и нерешителен. Поэтому в “Летучем Голландце” рядом с неоспоримыми красотами выступают еще весьма видные недостатки, которых нельзя уже встретить в позднейших произведениях.
Первый недостаток, который признает в этом произведении сам Вагнер и на который указывает он в своем “Сообщении моим друзьям”, заключается в том, что физиономиям действующих лиц недостает еще ясности и определенности; обрисовка их туманна и несколько легка. Этот недостаток весьма сильно обнаруживается при сравнении действующих лиц “Моряка-скитальца” с действующими лицами позднейших произведений Вагнера. В драмах после 1848 г. Вагнер сумел мастерски нарисовать фигуры, набросанные в крупных штрихах, но особенно полные жизни, пластики и экспрессии, подобно тем фигурам с упрощенными контурами, которые встречаются на фресках Пювиса де Шаванна; лучше всего вспомнить, напр., валькирию Брунгильду, юного победоносного Зигфрида, поэта-сапожника Закса или еще Парсифаля — этого простеца с чистым сердцем, чрез жалость достигшего святости.
Без сомнения, в действующих лицах “Моряка-скитальца” не видно такой ясности; лишь смутно рисуется их внешний облик, и часто трудно бывает распознать черты их моральной физиономии. Жених Сенты, охотник Эрик, является лишь бледным силуэтом, без всяких более или менее характеристических черт; так, подруги Сенты называют его ревнивым; в действительности же, в тех двух сценах, где он появляется, он умеет только жаловаться и ни разу не проявляет энергии, чтобы серьезно оспаривать невесту у таинственного чужестранца; поэтому трудно поверить его любви к Сенте — так мало деятельна и так мало убедительна кажется эта любовь. Фигура Даланда более удалась, но он появляется почти только в первом акте; в самой же драме роль его почти ничтожна. А если, наконец, мы разберем два главных характера — характеры Сенты и Голландца, то признаем, что, как бы просты они ни были с виду, они перестают быть вполне понятными, если только попробовать немного яснее представить себе те побуждения, которые руководят их действиями.
Прежде всего, любила ли Сента когда-нибудь Эрика? Кажется — да, потому что она слывет его невестой; и когда Эрик видит, что он может потерять ее, то прямо обвиняет ее в нарушении клятвы. “О Сента, Сента, — восклицает он, — можешь ли ты отрицать это? Забыла ты тот день, когда меня с высот ты позвала в долину? Когда только для того, чтобы набрать тебе горных цветов, я подвергал свою жизнь бесчисленным опасностям! Помнишь ли, как мы стояли на крутой скале и смотрели, как отец твой удалялся от берега; он улетал от нас на своем белокрылом корабле, и тебя он поручил моей защите. А когда твоя рука обвилась вокруг моей шеи, не было ли это новым признанием в любви? А та дрожь, когда твоя рука была в моей, не клятва ль это в верности твоей?”
Но если Сента действительно любила Эрика, то как она могла без борьбы отдаться новому чувству? Вагнер объясняет и подготовляет эту перемену весьма удачной случайностью. Сента все время любила Летучего Голландца — даже тогда, когда знала его только по почерневшему от времени, висевшему в ее доме портрету; и когда Эрик укоряет ее за то, что она погружается, как это она делала, в созерцание картины, и описывает ей свою скорбь, так как чувствует, что она любит его меньше, чем таинственного незнакомца, то она отвечает ему: “О, не хвались! Что у тебя за скорбь? Знаешь ли ты горькую судьбу его?” И, указывая Эрику на портрет Голландца, она продолжает: “Чувствуешь ли ты, какой тоской, какой глубокой скорбью полны эти глаза, которыми он на меня смотрит? Увы! Его покой потерян навсегда, и при этой мысли острая боль пронзает мое сердце!”
Вот знаменательные слова, которые, кажется, дают нам ключ к характеристике Сенты. Привязанность Сенты к Эрику есть просто инстинктивная, естественная, эгоистическая любовь юной девушки к жениху, который обожает ее; любя Голландца, она возвышается до любви-жалости, до любви, чистой от всякого эгоистического желания, стремящейся не к личному счастью, а к самозакланию. Сначала она едва отдает себе отчет в противоречии этой двоякой любви; так, склонность к Эрику и бесконечное сострадание к Голландцу кажутся ей чувствами разного порядка; но у ней и мысли нет о том, что эти чувства должны быть непримиримы. Она не хочет допустить, что, любя Голландца, она тем самым наносит обиду Эрику. Эта мысль едва мелькает в ее голове в тот момент, когда она принимает предложение Голландца. Трагический момент как громом поражает ее, когда она вдруг начинает ясно понимать, что эта двойственная любовь невозможна, когда она видит себя вынужденной раз навсегда сделать выбор между Эриком, который делает последнюю попытку овладеть сердцем своей невесты, и Голландцем, которому она только что дала слово.
Но эта капитальная сцена, за которой непосредственно следует развязка, не получила в драме Вагнера надлежащего развития; она скорее набросана, чем глубоко разработана. Таким образом, та борьба довольно тонких чувств, которая происходит в душе Сенты, может быть, не выступает со всею желаемой ясностью. Из-за двусмысленных, уклончивых ответов юной девушки плохо видишь всю высоту приносимой ею жертвы, так что критика иногда впадает в сомнение относительно ее любви к Эрику. В самом деле, ясно видно то, что Сента бесповоротно решается следовать за Голландцем, и гораздо менее убедительно то, что она действительно была привязана к Эрику; нет того впечатления, чтобы разрыв со столь холодно любимым женихом мог причинить ей глубокое страдание. Ее горе едва высказывается в двух-трех коротких репликах; к тому же ее главным образом заботит то, чтобы доказать Эрику, что он не имеет права упрекать ее в нарушении данного ею слова.
Если может возникнуть сомнение в предмете истинных чувств Сенты, то еще менее ясны мотивы, управляющие поведением Летучего Голландца. Прежде всего при чтении хора матросов проклятого корабля кажется, что Голландец должен опять ехать, так как срок времени пребывания его на земле истек. Прежде чем верность Сенты к ее новому супругу была подвергнута малейшему испытанию, они начинают свои приготовления к отъезду. “Капитан, где ты там?” — поют они в то время, как буря свистит среди снастей. — Гей, распускайте паруса! Где она, твоя невеста? Гей, в безбрежную даль! Капитан, капитан, ты несчастлив в любви!” С другой стороны, Голландец ни слова не говорит ни Сенте, ни Даланду о том, что он должен скоро ехать; он не говорит, что увезет с собой Сенту, и когда возвращается к своему кораблю, то кажется, что это происходит потому, что он убежден в неверности Сенты.
Но к этому чувству отчаяния и горя сейчас же примешивается совсем другое побуждение, которое было указано уже в рассказе Гейне: Голландец уезжает прежде, чем брак мог бы совершиться, добровольно отказываясь таким образом от своей последней надежды на спасение, и это потому что он любит Сенту, продолжая сомневаться в ее верности, и не хочет навлечь на нее проклятье, поражающее тех, которые, поклявшись в верности, нарушают эту клятву. “Ты мне клялась в верности, — говорит он, — но не перед Богом, и это спасает тебя; ибо знай, несчастная, как ужасна участь тех, которые отняли у меня веру: вечное проклятие — вот их что ждет! Бесчисленные жертвы подпали этой роковой участи из-за меня. По крайней мере ты будешь спасена! Прощай, я навсегда потерял надежду на спасенье!” Благодаря этому несколько тонкому обороту Голландец в конце концов является, как Сента, очищенным бескорыстной любовью. Но неудобство от такого перекрещивания различных мотивов заключается в том, что в конце концов слишком уж неясно, потому ли он уезжает, что должен покориться судьбе и испытать верность своей супруги, или же потому что он сомневается в этой верности и отчаивается в своем спасении, или, наконец, потому что, побуждаемый любовью и жалостью, он предпочитает скорее вечно страдать, чем быть виновником несчастья Сенты.
Кроме того, “Моряк-скиталец” кажется нам ниже последующих произведений Вагнера не только как драма психологическая, но и как драма символическая. Главная идея пьесы, значительно более оригинальная и лучше выраженная, чем в “Риенци” — с этим нельзя не согласиться — может быть, еще не является развитой с такой полнотой, ясностью и патетической силой, как того можно было бы желать.
В “Обращении к моим друзьям” Вагнер остроумно и увлекательно формулирует ту руководящую идею, которая вдохновляла его в труде над этим произведением. “Фигура Летучего Голландца, — говорит он, — есть создание народной поэзии; первичное свойство человеческой природы выражается в ней в захватывающей форме. Это свойство, в его самом общем значении, есть страстное желание покоя, охватывающее душу среди житейских невзгод”.
Выражение этого стремления к покою Вагнер находит в легенде об Одиссее, который долгие годы блуждает по морям, вздыхая по своей отчизне, по своему очагу, по своей супруге — верной Пенелопе, которая ждет его в своем дворце на Итаке и с которой он в конце концов снова соединяется. Позднее христианство, которое не знает земного отечества и ждет покоя и счастья только в загробном мире, выражает то же самое чувство в новом символе: в легенде о Вечном Жиде. Вечный скиталец, осужденный на жизнь без конца, без цели и без радости, имеет только одну надежду: увидеть с концом жизни конец своего земного мытарства; он жаждет смерти-избавительницы, той доброй смерти, когда он найдет себе покой, в котором ему было отказано на земле. Между тем в конце средних веков народы начали любить жизнь и деятельность; то была эпоха далеких открытий, больших путешествий и уж не через маленькое Средиземное море, как во времена греков, но через громадный океан. И то вечно человеческое чувство, которое породило мифы об Одиссее и Вечном Жиде, подверглось новой метаморфозе: теперь это уже не стремление Одиссея к своему очагу и к своей жене, которых он потерял, но помнит их и знает, где их найти; это уже не страстное желание загробного мира, покоя могилы, как у Вечного Жида; это — стремление к новой, незнакомой, далекой отчизне, которую человек не помнит и в то же время предчувствует, но не знает, где он может найти ее.
Проклятый Голландец является героем такого преобразованного мифа: “Голландский мореплаватель, чтобы искупить свою дерзость, осужден дьяволом — очевидно, олицетворяющим собой мрачную силу бурных вод — испокон веку, без отдыха блуждать по морю. Подобно Агасферу, он жаждет смерти — единственного предела страданий; но то освобождение, в котором было отказано еще Вечному Жиду, он может получить, если найдется такая женщина, которая ради него пожертвует собой; таким образом, желание смерти побуждает его искать такую женщину. Только эта женщина не будет греческой Пенелопой, хранительницей очага, той супругой, которую некогда Одиссей привел в свой дом, это — женщина вообще предчувствуемая вдалеке, женщина бесконечно женственная; одним словом — женщина будущего.
И вот Вагнер, разочарованный в своих иллюзиях относительно Парижа, где он думал найти обетованную землю, одинокий среди людей, которые, как он чувствовал, чужды и враждебны ему, легко уподобил себя в воображении тому отважному моряку, который, несмотря на ветры и бури, упорно захотел открывать новые страны и, наказанный за свою дерзость, блуждал по Океану, оставаясь без отчизны и без очага. Он не мечтал, как Одиссей, возвратиться туда, откуда он уехал, вернуться в Германию, к прежнему жалкому существованию, которое он бросил, отплывая в Париж. Та действительная Германия, которую он знал и покинул, не представляла для него ничего привлекательного. То, что он воспевал, было: Германия — незнакомая; та отчизна, которая полюбила бы и поняла бы его, как Сента любила проклятого Голландца; те люди, в сочувствии которых он встретил бы себе поддержку в своих проектах художественной реформы, в своих смелых стремлениях к все более и более высокому эстетическому и нравственному идеалу.
Такова была та общая, действительно оригинальная и интересная идея, которую Вагнер усмотрел в легенде о Летучем Голландце. Он впервые ясно разрешал в своей драме проблему, с которой с этих пор мы будем встречаться в каждом его произведении: проблему спасения.
Все герои его, от Голландца и Тангейзера до Вотана, Тристана, Амфортаса и Кундри включительно, ищут пути к истинному счастью, смысла в жизни, и находят их в конце своих испытаний, чаще всего благодаря заступничеству “Спасителя”, который указывает им добрый путь и “искупляет” их актом любви или жалости. Таким образом, проклятый Голландец искупляется любовью Сенты, Тангейзер — самоотверженностью Елизаветы, Вотан и боги Валгаллы — вмешательством Брунгильды, Амфортас и Кундри — спасительной силой простеца с чистым сердцем, Парсифаля. Однако заметим, что проблема искупления в “Моряке-скитальце” выступает еще довольно-таки принужденно, и это потому что Вагнер оставляет нас в неведении, какова трагическая вина его героя и почему он нуждается в искуплении. Нам сказано только, что Голландец “проявил неуважение” к дьяволу. Следовательно, его грех по характеру своему является еще более внешним, чем грех Макса в “Фрейшютце”, который, по крайней мере, обратился к дьяволу за помощью, что, если хорошо разобрать, может быть более достойно порицания, чем оказать ему неуважение, хотя с рассудочной точки ни то, ни другое преступление не имеет достаточно удовлетворительного смысла.
Голландец кажется пассивной жертвой какой-то злотворной, вне его лежащей силы; не видно, чтобы он был ответствен за свою судьбу, незаметно в нем никакого нравственного переворота, и во всяком случае внутренняя эволюция — если только автор хотел показать ее — отмечена очень неясно, как мы видели это при разборе характеров Сенты и Голландца. В сущности, внутреннее действие в “Моряке-скитальце” еще не имеет того абсолютно первенствующего значения, какое оно имеет в позднейших драмах. Вагнер еще не стремится — как это он делает потом, напр., в “Тристане” — к сосредоточению всего внимания зрителей на внутренней драме, разыгрывающейся в глубине сердец действующих лиц пьесы. “Моряк-скиталец” является в некотором смысле, как “Риенци”, “пьесой эффекта”.
Рядом с психологической, в собственном смысле, драмой здесь встречаются живописные и романтические элементы, очевидно, умышленно предназначенные Вагнером сильно поражать воображение зрителя, а может быть, и скрывать от него недостатки внутреннего действия: сначала перед нами феерия — истории каких-то выходцев с того света, главным действующим лицом которой, почти столь же важным, как и сам Голландец, является проклятый корабль со своим волшебством и со своим фантастическим экипажем; потом следует дивная поэма Океана, картинное и мощное описание бури, которая свистит и воет среди мрачной ночи, вздымая по пути яростные волны. С такой точки зрения “Моряк-скиталец” походит еще, до известной степени, на романтическую оперу, однако с той существенной разницей, что в романтической опере фантастические и живописные мотивы должны чаще всего интересовать самой своей причудливостью и не имеют никакого серьезного значения, тогда как в “Летучем Голландце” они не могут быть рассматриваемы как бесполезные вставки, но находятся в тесной связи с драмой — в собственном смысле слова.
Вот почему нет ничего несправедливее, как не признавать за новым произведением Вагнера высокого поэтического значения. От “Риенци” до “Моряка-скитальца” большой шаг. Вагнер впервые ввел на сцену легенду, сделав из нее символ вечно человеческих чувств, испытанных и выстраданных им самим. Таким образом, старинному народному мифу он дал новую, удивительно сильную и захватывающую жизнь. И несмотря на указанные нами шероховатости в отделке, его проклятый Голландец тем не менее является первой из тех великих, вылепленных мощной рукой фигур, которые с этих пор мы будем встречать в каждом произведении Вагнера, и которые запечатлеваются у всех в воображении неизгладимыми чертами. “Ни один поэт после Байрона, — говорит Лист в этюде, посвященном “Моряку-скитальцу”, — не мог воздвигнуть на сцене столь бледного призрака среди более мрачной ночи”.
Глава II: III. “Тангейзер”
Проект драмы о Манфреде. — Тангейзер — историческая личность. — Народная песнь о Тангейзере. — Поэтический турнир в Вартбурге. — “Тангейзер” и “Моряк-скиталец”. — Заимствования Вагнера у его предшественников. — Характеристика Тангейзера. — Символическое толкование “Тангейзера”. — Гипотеза “эволюционная” и гипотеза “унитарная”. — Синтез двух толкований.
“Моряк-скиталец” имел если не полный успех, то по крайней мере полууспех. Встреченный на первом вечере представления, несмотря на неудовлетворительное исполнение, благосклонно, он подвергся жестоким нападкам со стороны местной критики, нашедшей инструментовку слишком тяжелой, музыку слишком однообразно мрачной, слишком бедной легко запоминаемыми мелодиями, скорее ученой, чем трогательной. Что касается публики, которая надеялась, что Вагнер поднесет ей нечто вроде “Риенци”, то она почувствовала себя сбитой с толку при виде произведения столь вполне оригинального и столь диаметрально противоположного тому, чего она ждала от автора. Таким образом, она сама дала возможность критикам убедить себя, что произведение неудачно, и после четвертого представления “Моряк-скиталец” был снят с репертуара. Между тем “Риенци” продолжал пользоваться неослабевающим успехом. Урок был ясен. Если Вагнер хотел снова обрести славу, какую принес ему “Риенци”, то он должен был во что бы то ни стало пожертвовать своими новыми идеями о музыкальной драме и вернуться к историческому жанру, к обстановочной пьесе. Каков же был его выбор?
Он вез с собой из Парижа две драматические идеи и весьма неодинакового значения, обдуманные им — и та и другая — за те несколько месяцев, которые протекли еще до его отъезда в Германию, по окончании “Моряка-скитальца”: проект исторической драмы о Манфреде и проект “романтической” драмы на сюжет легенды о Тангейзере.
Когда в конце 1841 года Вагнер окончил “Моряка-скитальца”, то первым возбудил в нем творческую фантазию проект исторический. В минуты передышки от изготовления попурри и аранжементов, которыми он думал заработать себе денег на возвращение в Дрезден, он погружался в чтение германской истории, для того чтобы составить себе ясное понятие о том, какова была та немецкая отчизна, которую он страстно желал снова увидеть после годов изгнания, проведенных им в Париже, а также и для того чтобы найти сюжет для оперы. В самом деле, в принципе он ничего не имел против исторического жанра и написал свою легендарную драму “Моряка-скитальца” не по эстетической теории, а потому что случай столкнул его с легендарным сюжетом, овладевшим его поэтическим воображением. Итак, он не видел никакого основания a priori полагать, чтобы чтение истории не могло дать ему столь же вполне годного сюжета. В подробном разборе “Кипрской царицы” Галеви, написанном в 1841 году, Вагнер даже рекомендует либреттистам усердно проглядывать страницы великой книги истории, чтобы извлечь из нее какое-нибудь сильно драматическое событие, разбить рассказ на пять кусков, сделать их актами, придать, наконец, этим актам страсти настолько, насколько это позволит творческое дарование, — и он ручается, что таким способом они легко получат весьма приличные книжки. Изучая германскую историю, Вагнер сам только попробовал применить на практике тот совет, который он давал своим собратьям. Только он по мере того, как всматривался в историю древних императоров, убеждался, что трудно было ему найти сюжет по своему вкусу. Почти все казались ему одинаково негодными, чтобы предстать в драматической форме и дать материал музыкальным развитиям; он сразу отбрасывал их как драматург и как музыкант.
Наконец, Вагнер остановился на историческом эпизоде Гогенштауфенов, оказавшемся, по его мнению, способным к восприятию более свободного и широкого развития, именно на эпизоде завоевания королевства Сицилия Манфредом, сыном императора Фридриха II. К драме, в собственном смысле исторической, оканчивавшейся коронованием Манфреда, Вагнер предполагал привить извлеченную из его собственного воображения драму с подкладкою страсти. Вагнер вспомнил виденную им когда-то гравюру, изображавшую Фридриха II среди полуарабского двора, где фигурировали поющие и танцующие арабские жены. Эта последняя черта сильно врезалась в его воображение и дала ему идею воплотить гений Фридриха I, особенно пленившего его своей величественной фигурой, в образе одной юной сарацинской девушки, которая была бы плодом любви императора к деве Востока во время его пребывания в Палестине. Эта юная, полная героизма и энтузиазма девушка является пророчицей при дворе Манфреда; облекшись в глубочайшую тайну для того, чтобы сильнее воздействовать на душу юного принца, она возбуждает его мужество, заставляет его действовать, привлекает на его сторону арабов из Люцеры, ведет его от победы к победе до самого трона. Когда миссия ее является выполненной, она умирает, бросаясь добровольно под смертельный удар, предназначаемый королю, и с последним вздохом открывает брату тайну своего происхождения. Этот эскиз, не имевший недостатка ни в страсти, ни в блеске, не замедлил, однако, потерять свой престиж в глазах Вагнера; последний очень скоро убедился, что этот сюжет имел капитальный недостаток с его точки зрения: действующие лица, выводимые на сцене, не были достаточно типическими. Его проектируемая драма показалась ему“сверкающей переливами, пышной историко-поэтической тканью, скрывающей от него, как бы под великолепной одеждой, стройную человеческую форму, которая только одна могла очаровывать его зрение”. И он мало-помалу сознает, что исторические сюжеты не годятся для музыкальной драмы, потому что история не раскрывает нам внутренней природы вещей, а дает лишь смутную и пеструю массу фактов, которую нет возможности привести к единству и представить в пластической форме. Эти доводы, которые он воспринимал интуитивно, не отдавая себе в них ясного отчета, заставили его на первый раз отложить в сторону свой проект исторической драмы и заняться планом “Тангейзера”, мысль о котором зародилась тогда в его голове.
Однако такое решение не было еще окончательным. После полууспеха “Моряка-скитальца” Вагнер склонен был вернуться к “Манфреду”. Он чувствовал, что это именно и есть тот сюжет, который был нужен ему, чтобы восстановить славу, подобную той, какую дал ему сюжет “Риенци”, особенно при содействии такой исполнительницы, как Шредер-Девриен в роли юной сарацинки. Поэтому он быстро набросал подробный сценарий пьесы и представил его ей. Но роль, которая предназначалась Девриен, не пришлась ей по вкусу. “Пророчица не может снова стать женщиной”: такова существенная черта, характеризующая моральную физиономию подруги Манфреда. Поэтому Шредер-Девриен, натура живая и страстная и в то же время великая артистка, ни за что не пожелала отречься от себя как женщины; она нашла, что этому характеру не достает жизни и огня. На этот раз “Манфред” был осужден безапелляционно; и едва ли приходится об этом сожалеть. Вдохновение скоро бы покинуло Вагнера в произведении такого рода, которое еще только несовершенным образом отвечало его новым тенденциям: работая над ним, он не мог бы избавиться от унизительного чувства, что непосредственный, почти верный успех он покупал лишь принесением в жертву пристрастию публики к исторической опере некоторых из своих глубочайших убеждений в искусстве.
Таким образом, он снова вернулся к “Тангейзеру”, к которому давно уже влекло его сердце.
Прежде чем сделаться героем легенды, Тангейзер был весьма реальной личностью, — миннезингером, жившим в XIII веке, и по тому немногому, что мы знаем о нем, должен был вести довольно отважное существование и знать счастье и несчастье, довольство и нищету. Это не был большой гений, и он сам признавался, что “не обладал искусством сочинять прекрасные мелодии”. Не умея понравиться формой своих поэтических произведений, он старался по крайней мере придать им некоторую привлекательность новизной или оригинальностью фабулы рассказа, или тоном пародии, иногда довольно забавным. Например, он смеется над рыцарской любовью с ее условиями, перечисляя те фантастические подвиги, которых женщины требуют от своих обожателей; так, для того, чтобы дама пожаловала рыцаря своим благоволением, нужно, чтобы последний достал яблоко, которое Венера дала Парису; или еще лучше, чтобы он отвел течение Рейна; достал со дна морской песок на том месте, где садится солнце; собрал лунный свет; парил в облаках, как орел; извлек из огня саламандру и т. п. В другой раз он не без юмора рассказывает, как нищета ополчилась на него, как из-за пристрастия к прекрасным женщинам, к доброму вину, к тонким блюдам и к ваннам два раза в неделю он заложил свое имущество; и вот дом его без крыши, комната без дверей, погреб разломан, кухня сожжена, вьючной скотине нечего носить, лошадь еле передвигает ноги, карманы пусты и платье изношено. Каким случаем легенда завладела этой довольно прозаичной личностью и создала из нее столь глубоко поэтический тип кающегося певца любви — теперь трудно сказать. Может быть, потому что он рассказывал несколько вольные любовные истории, говорил (правда, с насмешкой) о том, как его возлюбленная посылала его на поиски за яблоком, которое дал Венере Парис; может быть, и потому что бедные жонглеры, распевавшие на перекрестках, считали немыслимым, чтобы один из них мог когда-нибудь иметь красивых женщин, тонкие блюда и ванны два раза в неделю без всякого вмешательства со стороны дьявола. Как бы то ни было, а несомненно то, что в конце XIII века появилась прекрасная народная песнь, в которой действующими лицами оказались
кающийся грешник-миннезингер и папа Урбан, суровый представитель христианского аскетизма и доминиканской нетерпимости.
Рыцарь Тангейзер, говорится в песне, захотел узнать наслаждения любви и ушел в гору Венеры, где в продолжение года делил с богиней любовь. Но под конец пресыщение, угрызение совести, страх погубить свою душу овладели им, он прощается с Венерой, отрекается от своей проклятой любви и, призывая на помощь чистую деву Марию, покидает гору с сердцем, полным скорби и раскаяния.
“Я хочу идти во святой город Рим и раскрыть свою душу пред папой.
Радостно иду я вперед — Бог да хранит меня — к папе, которому имя Урбан;
дай Бог, чтобы он великодушно даровал мне спасение.
О папа Урбан, о мой господин,
я пришел повиниться пред тобой во грехе, мной совершенном — сейчас я расскажу его:
Целый год я пробыл у прекрасной дамы Венеры;
теперь я хочу исповедать свой грех и принести покаяние, чтобы я мог снова видеть лицо Божие”.
Папа держал в руке трость, сделанную из сухой ветви:
“Когда эта трость оденется листвой, тогда Бог и возвратит тебе Свою милость”.
“Если бы мне и суждено было еще только один год жить на этой земле,
все же я хотел быпринести исповедь и покаяние и заслужить прощение у Бога”.
Рыцарь покинул город с печалью и отчаянием в сердце.
“Мария, о матерь святая, непорочная дева, я должен оставить тебя”.
И он вернулся в гору на веки вечные.
“Я возвращаюсь к Венере, нежной даме моего сердца; сам Бог меня посылает туда”.
“Будь гостем желанным, Тангейзер!
Ты долго пропадал; будь гостем желанным, мой дорогой повелитель, мой верный возлюбленный!”
И когда наступил третий день, трость зазеленела.
Тогда папа повсюду разослал своих гонцов разузнать, куда пошел Тангейзер.
Но он вернулся в гору к даме своего сердца. Поэтому осужден будет навсегда папа Урбан.
Тенденция столь трогательного в своей наивной простоте рассказа ясна. Старинный поэт — убежденный, ревностный христианин; он до глубины души питает отвращение к греху
сладострастия, в который впал Тангейзер; но он осуждает также и безжалостную суровость доминиканского аскетизма. В заключении своей поэмы он показывает нам, что высший христианский закон — любовь и милосердие, что всякий грех может быть заглажен искренним раскаянием; сам папа осужден за то, что совершил грех против любви, и узнал, хотя слишком поздно, — когда зацвела в его руках сухая трость, — что он поступил безрассудно и безбожно, поставив границы Божескому милосердию
Вагнер познакомился с легендой о Тангейзере в дни своей юности по романтической повести Тика, которая давала пищу его воображению, но в то же время не нравилась ему по своему вместе мистическому, кокетливому и фривольному тону и не возбуждала в нем поэтического вдохновения. И только когда он был в Париже, ему попался под руки народный романс о Тангейзере, который тотчас же наполнил его вдохновением. На этот раз он очутился лицом к лицу уже не с историческим сюжетом, пестрым и туманным, как сюжет “Манфреда”, но с простым, природным, ясным и пластическим народным мифом. Он увидел в личности Тангейзера, так сказать, тип — резюме целого рода императоров-гибеллинов, и образ кающегося певца любви скоро живым встал перед его глазами.
Если Вагнер мог позаимствовать у народной поэзии фигуру Тангейзера, не изменяя в ней никакой существенной черты, то зато как скомбинировать легенду о Тангейзере с другим преданием, порожденным в ту же эпоху, — с преданием о Вартбургском турнире поэтов, — кажется, подсказало ему его поэтическое воображение. Одна поэма XIII века — весьма посредственная, хотя и имевшая большой успех — рассказывает о вымышленном состязании поэтов, будто бы происходившем между главными миннезингерами в Вартбургском замке, в присутствии славного ландграфа Германа Тюрингенского, известного мецената средневековых певцов любви. Побежденный на этом странном турнире должен был умереть от руки палача.
Поэма рассказывает о различных перипетиях этой борьбы, завязывающейся между почти наверное вымышленным лицом Генрихом Офтердингеном и одним поэтом, известным под названием “Добродетельного писателя”, которому помогают Рейнмар, Вольфрам Эшенбах, Битерольф и Вальтер Фогельвейде. Генриха Офтердингена, который прославлял доблести австрийского герцога, побеждают его противники, восхвалявшие превосходство ландграфа Тюрингенского. Тогда он призывает на помощь волшебника Клингзора из Венгрии, который напрасно прибегает к всевозможным чарам, чтобы победить выступившего против него противника, Вольфрама Эшенбаха; он предлагает последнему загадки — Вольфрам решает их; тогда он призывает ад, но Вольфрам без труда прогоняет бесов.
Если самая идея поэтического турнира между главными миннезингерами и была удачна, то старинная поэма, описывавшая этот сюжет, полна длиннот, неуклюжа, педантична и представляет лишь весьма слабый интерес. Неизвестно, каким образом Вагнеру, уже в дни своей юности познакомившемуся с темой Вартбургского турнира по новелле Гофмана, пришла в голову мысль связать эту легенду с легендой о Тангейзере, отождествив,как это сделал уже раньше один немецкий филолог, личность Тангейзера с личностью Офтердингена. В Париже в 1841 г. он достал случайно через одного из своих друзей текст старинной поэмы о турнире певцов. В следующем году, во время пребывания своего в Теплице перед репетициями “Риенци”, он написал общий план своей пьесы и начал также музыкальный эскиз. К весне 1843 года либретто было окончено.
В ноябре месяце того же года Вагнер начал музыкальную композицию, работая с лихорадочным жаром над своим произведением всякий раз, как его сложные дирижерские обязанности оставляли ему свободное время. 13 апреля 1845 г. партитура была окончена. Энтузиазм, который он чувствовал в себе к своей драме, был такой, что чем более она приближалась к концу, тем более он боялся, как бы внезапная смерть не отняла у него славы довести до конца свое произведение; и когда он написал последнюю ноту, то почувствовал себя, как он сам говорит, столь счастливым, как будто он избег смертельной опасности.
В “Тангейзере” Вагнер сделал новый решительный шаг вперед. Несомненно, что между этой драмой и “Моряком-скитальцем” существует явная аналогия. Как в той, так и в другой пьесе обстановка — романтическая: тайны Венусберга и чары проклятого корабля имеют общие черты; и даже сначала Вагнер озаглавил свое произведение: “Венусберг, романтическая опера”. Кроме того, обе драмы развивают одну и ту же основную тему: искупление грешника любовью девы. В обеих пьесах рядом с главными лицами встречается даже второстепенная роль несчастного любовника героини: в одной — Эрик, в другой —Вольфрам. Тем не менее известно, что “Тангейзер” является произведением более высокого достоинства, чем “Моряк-скиталец”. Здесь действующие лица жизненнее и лучше характеризованы; внешнее действие выразительнее, богаче приключениями, интереснее с драматической точки зрения. Наконец — и это особенно указывает на превосходство новой драмы Вагнера — внутреннее действие, несмотря на простоту внешнего построения, еще расплывчатое и смутное в “Голландце”, развивается в “Тангейзере” при всей относительной сложности внешнего действия с удивительной полнотой.
Если мы поближе всмотримся в поэтические приемы Вагнера, то прежде всего заметим, что большинство мотивов он брал или из старинных источников легенды, или же из новейших переложений. Сначала, вполне естественно, он воскресил Тангейзера по народному преданию, — кающегося христианина, который среди наслаждений Венусберга тоскует по “родном звоне колоколов”, хочет принести покаяние, освобождается от Венеры, взывая к деве Марии, и, наконец, отправляется в Рим, чтобы получить от папы отпущение грехов. Но он, как видно, вспомнил прекрасный романс Гейне, в начале которого говорится, что рыцарь Тангейзер вырвался из объятий Венеры, пресыщенный сладострастием, желая снова узнать людские страдания:
“О моя прекрасная повелительница Венера,
тонкие вина и нежные поцелуи пресытили мое сердце; я жажду страданий.
Мы слишком много шутили и смеялись вместе;
теперь я завидую слезам, и не розами, а шипами я хотел бы, чтобы голова моя была увенчана”.
Вагнер воспроизводит это место, совсем современное по замыслу, в первой сцене драмы, где Тангейзер говорит Венере: “Не одного только сладострастия требует мое сердце; теперь после наслаждения я желаю страдания”. Но особенно в “Турнире певцов” Гофмана Вагнернашел ряд мест, по-видимому, вдохновивших его. Офтердинген у Гофмана, как и вагнеровский Тангейзер, — пылкая, честолюбивая, жаждущая любви и славы натура. Он, как Тангейзер, соединен узами глубокой дружбы с великодушным, честным Вольфрамом Эшенбахом. В рассказе Гофмана Офтердинген оспаривает у Вольфрама сердце прекрасной графини Матильды Фалькенштейн, — так же, как Тангейзер в драме Вагнера является соперником Вольфрама из-за Елизаветы. Оба они, т. е. и Офтердинген, и Тангейзер, прославляют в своих песнях Венеру и наслаждения, чем и навлекают на себя гнев вартбургских миннезингеров. Оба “после жалких блужданий по берегам адской реки”, в конце концов искупляются и отрекаются: один — от чар Венеры, другой — от колдовства мрачного Клингзора.
Однако нужно признать, что Вагнер, в общем, мало чем обязан своим предшественникам. Если драма “Моряк-скиталец” почти целиком была уже набросана в новелле Гейне, которой Вагнер был вдохновлен, то драматическая фабула и в особенности внутреннее действие “Тангейзера” являются, напротив, безусловно оригинальным созданием.
Если Тангейзер в легенде — не более как кающийся сластолюбец, а Офтердинген Гофмана — безропотно покоряющийся судьбе честолюбец, то Тангейзер Вагнера символизирует один из самых глубоких инстинктов человеческого сердца — стремление к счастью, к непосредственному наслаждению, к осязаемому успеху. Та Венера, которую он воспевает, не есть только богиня расслабляющего и унижающего сладострастия; она также — источник всякой радости на земле, всякой красоты, — всего того, что делает жизнь светлой и привлекательной; без нее этот мир был бы только пустыней. Ее царство не для слабых, не для рабов; оно открыто только героям, — только тем сильным, которые, как Фауст, хотят вкусить от всех радостей, а также и от всех человеческих скорбей. Вот почему Тангейзер, покидая ее в первом акте, сохраняет страстное обожание к ней. “Никогда, — восклицает он, — моя любовь не была больше, никогда не была правдивей, как в этот момент, когда я навсегда должен оставить тебя!”
Если он бежит из Венусберга, то это не вследствие аскетического отречения от счастья, но только потому, что ему надоело находиться в рабстве у сладострастия, что он желает выполнить свое назначение — назначение человека, что он понимает жизнь как вечную борьбу, а не как состояние непрерывного пассивного блаженства. Поэтому он заранее знает, что никогда не вернется к Венере, так как он решил, подобно Фаусту, никогда не класть своей головы на подушку лени, никогда не ловить мимолетных мгновений, говоря: “Побудь со мной, ты так прекрасно!” Но все же любовь является для него высшим мировым законом: “Для тебя, о Венера, для тебя одной раздастся мое пение!.. Твои победительные чары — источник всякой красоты; от тебя исходит все чудное, все изящное. Пусть огонь, влитый тобой вмое сердце, на славу тебе сверкает ярким пламенем! Да, наперекор всему миру я без боязни всегда буду твоим защитником!”
Таким образом, в Тангейзере раскрывается пред нами часть души Вагнера. Подобно своему герою, Вагнер чувствовал в себе сильное желание счастья; он горячо погнался за успехом в Париже, добивался его в Дрездене и вкусил опьяняющую радость первых артистических триумфов и удовольствие жить среди сочувствующих ему людей. Но как и Тангейзер, Вагнер чувствовал всю опасность, которую он может встретить, если будет находить удовольствие в радостях, для обыкновенного человека составляющих счастье. Для того, чтобы достигнуть того осязательного счастья, которого он желал, — чтобы приобрести славу артиста, он знал, что ему нужно будет подчинить вкусам публики голос своей высшей природы, следовать капризам моды, лгать перед самим собой, идти на низкие компромиссы. Положительные радости жизни представлялись ему только в форме унизительных искушений, которые он во что бы то ни стало должен был оттолкнуть, или же — совсем отказаться от своих артистических убеждений и унизиться в своих собственных глазах.
Между тем Тангейзер снова вступает в жизнь; прошлое кажется ему не более как дурным сном; он снова занимает свое место среди певцов в Вартбурге: снова видит дочь ландграфа, нежную, чистую Елизавету; сердце ее когда-то покорили его песни, и она изнывала в тоске, когда он скрылся. Теперь, кажется, уже высшее блаженство ждет его. Елизавета проговорилась ему о своей любви; она будет принадлежать ему, если он явится победителем на предстоящем поэтическом турнире, если он лучше других сумеет проникнуть в тайну чистой любви. Но он все еще подчиняется нечистому обаянию Венеры; он не может больше любить без того, чтобы страсть не запятнала его любви. И вот в возрастающем пылу спора Тангейзер все более и более отдается пожирающей его страсти до того самого момента, когда, снова охваченный безумным сладострастием, он провозглашает свой культ Венеры пред лицом негодующих певцов:
“Пусть в честь твою, о богиня, раздастся мое пение...
Твои победительные чары — источник всякой красоты,
все чудное и прекрасное исходит от тебя одной.
Кто, сжигаемый страстным пламенем, держал тебя в своих объятиях,
тот, только тот знает, что такое любовь,
и вы, несчастные, никогда не знавшие любви,
идите туда, туда, на гору к Венере!”
Чтобы искупить свой грех, чтобы спастись от рабства преступных желаний, Тангейзеру нужно было научиться высокой добродетели самоотречения. И вот Елизавета дает ему собою пример. С сердцем, разбитым ужасным признанием вырвавшимся из уст того, кого она любила, она отказывается от всякой надежды на счастье и посвящает свою жизнь Богу; она станет проводить дни свои в вымаливании прощения грешнику. И в то время, как раскаивающийся Тангейзер совершает паломничество в Рим, чтобы получить от папы отпущение грехов, Елизавета молит Небо о спасении того, кого она никогда не переставала любить.
Но чтобы жертва ее была действительна, она должна быть полной жертвой. Когда первые пилигримы возвращаются из Рима, очищенные отпущением папы, и воспевают действие благодати, она скорбит, не видя среди них Тангейзера. Тогда она обращается с последней мольбой к Святой Деве Марии: “О Пресвятая Дева, услышь мою мольбу, возьми меня с этой земли... прими меня под свой покров, дай мне, рабе твоей чистой приблизиться к тебе, чтобы умолить твое бесконечное милосердие за грех того, кого я любила!” И Елизавета умирает, не зная, услышана ли ее молитва и спасен ли Тангейзер.
И для Тангейзера успокоение также — только в полном самоотречении, в смерти. Напрасно он отправляется в Рим с сердцем, полным самого искреннего раскаяния; папа отказывается простить его: “Если ты отведал проклятого наслаждения, если ты адским пламенем горел, если ты видел гору Венеры, то будь проклят навсегда! Как этот жезл в руке моей никогда уже не оденется зеленеющей листвой, так никогда не распустится цвет спасения в твоей душе, пожираемой адским огнем”. Отверженный наместником Бога на земле, Тангейзер в отчаянии хочет вернуться в гору Венеры, чтобы там в мрачном сладострастии найти себе забвение. Вот уже Венера спешит на его пламенный призыв, окруженная розовыми облаками, открывая свои объятия покинувшему ее любовнику, но Вольфрам удерживает его:
“Один ангел молился за тебя на земле;
скоро он будет парить над твоей головой, благословляя тебя, — Елизавета!”
И вот со стороны Вартбурга спускается освещенная загорающейся на небе зарей погребальная процессия, неся в открытом гробе тело Елизаветы. Венера побеждена. Наконец Тангейзер находит силу также достигнуть высоты высшего самоотречения. Он падает ниц пред гробом и умирает возле невинной жертвы, восклицая: “Святая Елизавета, молись за меня!” Он также умирает, ничего не зная о своем спасении. Но вот приближается другая толпа пилигримов с известием о чуде, совершенном милостью Спасителя: жезл в руках папы зазеленел листвой — Тангейзер прощен!
Такая развязка, вполне ясная и удовлетворяющая, если рассматривать ее только с поэтической точки зрения, становится особенно туманной, если попробовать объяснить ее философски. Сам Вагнер дал два сильно различающихся друг от друга толкования своему произведению.
В 1851 году в “Сообщении моим друзьям” он говорит, что было бы ошибочно в “Тангейзере” видеть пьесу специфически христианскую, пессимистическую. Он не хотел осуждать вообще земную жизнь, любовь, страсть, но — только жизнь современную, такую любовь, которая является возможной при нашей испорченной цивилизации. Поэтому “Тангейзер” был бы, в сущности, драмой революционной, протестом против существующего общества. В том свете, где мы живем, удовлетворение этого весьма законного желания наслаждения и любви, заложенного в сердце каждого человеческого существа, может быть куплено только ценою непоправимого падения. Человек, который стремится к достойной его любви, должен поэтому необходимо видеть в объекте этой любви идеал девственной чистоты, которого невозможно получить в этой земной жизни, и с которым можно соединиться только в смерти. А таким образом он логично придет к желанию смерти вовсе не потому, чтобы жизнь была дурна сама в себе или чтобы человек мог достигнуть истинного счастья только за гробом, но потому что современная жизнь сделала невозможной истинную любовь.
Так Вагнер истолковывает свою драму в годы, непосредственно следующие за революцией 1848 года, когда сам он является революционером, оптимистом и видит в философии
Фейербаха наилучшее рациональное объяснение вселенной.
Несколько лет спустя его точка зрения совершенно меняется. С этих пор в доктрине Шопенгауэра узнает он философское объяснение, больше всего соответствующее его интуитивному мировоззрению. И вот под влиянием этих новых идей он дает своей драме совершенно другое объяснение, чем в 1851 году. По его мнению, “Голландец”, “Тангейзер”, “Лоэнгрин” имеют основанием пессимистическое воззрение — или, точнее, интуицию — на мир. Чем они велики, это — “трагической поэзией самоотречения, роковым и избавительным отрицанием Воли к Жизни”. Это-то чувствование и дает музыке “Тангейзера” ее глубину и ее проницающий голос. Но то пессимистическое мировоззрение, которое Вагнер как интуитивный поэт излагал в конкретной форме в своих драмах, не было еще способно абстрактно выразиться в форме доступных разуму теорий. Более того: было не сознаваемое им противоречие между его философскими убеждениями и его артистическими интуициями. Он самопроизвольно, благодаря художественному инстинкту, создавал пессимистические драмы, которые потом не совсем успешно пытался истолковывать с помощью формул и понятий оптимистической философии.
Таким образом, толкования Вагнера оставляют нас в недоумении относительно истинного смысла драмы “Тангейзер”. Есть ли это трагедия христианская? оптимистическая? пессимистическая? Нужно ли верить Вагнеру 1851 г. или Вагнеру 1856 г.? Решение этой маленькой задачи зависит от того решения, которое дадут общему вопросу вагнеровской философии. Поэтому я позволю себе теперь же вкратце наметить этот вопрос, хотя о нем следует поговорить более подробно; но этим мы займемся в следующей главе.
Для объяснения тех неоспоримых противоречий, которые кроются в философской мысли Вагнера, имеются налицо две основные теории. Первая состоит в объяснении их исторической эволюцией мнений Вагнера. Нам скажут, например, что Вагнер был религиозным христианином со склонностью к пессимизму в 1848 г.; что с 1848 до 1854 г., под влиянием Фейербаха, он сделался оптимистом и атеистом; что с 1854 г. он обращается к пессимизму Шопенгауэра, и потом, в конце своей жизни, снова склоняется в сторону оптимизма. Другое решение состоит в утверждении основного единства мысли Вагнера в продолжение всей его жизни, его способности одновременно воспринимать не разумом, а благодаря тому свойству артистической интуиции, которое мы определили раньше, видимо противоречивые истины; некоторые наиболее заметные изменения в мысли Вагнера объясняются по этой гипотезе тем допущением, что разум у него никогда не мог идти рука об руку с интуицией, и в несовершенной форме, с помощью формул, не передающих точно его мысли, высказывал представления, которыми самопроизвольно снабжал его творческий, художественный инстинкт. У нас нет времени детально излагать обе эти гипотезы — к ним мы вернемся в следующей главе. Ограничимся пока на время изложением того, какое толкование нужно дать “Тангейзеру” по тому и другому предположению.
Если признать историческую эволюцию мысли Вагнера, то можно предположить, что он проходил через тот период, когда, может быть, вследствие влияния романтиков (которые, как известно, снова ввели в моду католицизм и мистицизм) он склонился к неопределенно аскетическому и пессимистическому христианству. Замечают, что до 1848 года религиозно-философские верования Вагнера являются почти ничем иным, как предрассудками просвещенного человека, принимающего на веру преходящие идеи своего века, не углубляясь в их суть. Он, подобно музыканту в “Паломничестве к Бетховену”, верит в Бога, в Бетховена и в избавительную силу великой музыки. Он представляет себе вселенную управляемой живым личным Богом, с которым люди могут входить в сообщение через молитву. На земле царствует грех; современная цивилизация в корне испорчена, полна эгоизма, не способна к совершению добра и к дарованью человечеству счастья. Но люди всеми силами должны стремиться к идеалу, к тому далекому идеалу красоты и непорочности, которого они не осуществят на земле, но когда-нибудь достигнут в таинственном “том свете”, после смерти, если только в этой жизни они сумеют отречься от всякого преступного желания. “Тангейзер”, как и “Лоэнгрин”, является пьесой, пропитанной христианским духом, или, по крайней мере, пьесой деистической, и представляет собою полный контраст с драмами 1848 года, атеистическими, утверждающими, что человек должен найти свое счастье на этой земле, в этой жизни, а не в каком-то воображаемом раю.
Если же, напротив, признавать основное единство мысли Вагнера, то окажется, что “Тангейзер” является драмой вместе оптимистической и пессимистической, в которой с одинаковой силой утверждается необходимость любви, стремления к счастью и необходимость самоотречения. Человек должен любить и желать, как Тангейзер; он должен идти вперед в завоевании успеха, работать над осуществлением идеала, верить в будущее счастье человечества; при этом все равно, представляется ли это счастье символически, как сверхземное блаженство за гробом, или как человеческое благосостояние, когда-нибудь осуществимое на земле будущими поколениями. И как человек должен жить и делать, он должен также, подобно Тангейзеру, научиться самоотречению; он должен осознать испорченность мира, должен убить в себе эгоистическое желание. Следовательно, Тангейзер —великий тип, потому что он с неудержимым жаром захотел познать все человеческие радости, пожелал счастья с Елизаветой, и вместе с тем потому, что сумел отречься от всякой надежды на счастье и нашел успокоение в полном отречении, в смерти, а не в слабости удовлетворенного желания.
Поэтому надо остерегаться искусственно вводить контраст между драмами первого периода — “Тангейзером” и “Лоэнгрином” — и драмами второго периода — “Кольцом Нибелунга” и “Парсифалем”. Все герои Вагнера являются в большей или меньшей степени зараз сильными и покорными, — оптимистами, стремящимися к счастью, и пессимистами, отрекающимися от воли к жизни. Все драмы его основаны на интуиции, с первого взгляда сбивчивой для разума и логики, но справедливость и глубину которой инстинктивно чувствует сердце, — на интуиции равной необходимости и равной красоты: любви и отречения.
На самом деле эти две гипотезы — гипотеза единства и гипотеза эволюции мысли Вагнера — отнюдь не кажутся мне непримиримыми. Они, собственно говоря, представляют собою две различные стороны истины. Вагнер, наверное, изменился в своих политических, философских и религиозных мнениях. Внешние случайные события, как-то: чтение Фейербаха, революция 1848 г.. изучение философии Шопенгауэра, дружба с баварским королем Людвигом, торжество байрейтского дела — оказали весьма существенное влияние на его идеи и заставили мысль его двигаться по тому или другому отдельному направлению, принимать те или другие формулы для передачи того, что он чувствовал. Но эти изменения, собственно говоря, более кажущиеся, чем действительные: они скорее касаются выражения мысли Вагнера, чем самой его мысли. Поэтому, изменяясь под впечатлением событий, Вагнер, вероятно, гораздо более оставался верен самому себе, чем это кажется с первого взгляда по его теориям.
Критик, желающий обдумать интеллектуальную эволюцию Вагнера, должен, следовательно, постараться понять его зараз в его множественности и в его единстве. Так поступим в данном случае и мы при толковании “Тангейзера”, который занимает нас в настоящее время; “Тангейзер”, как “Моряк скиталец” и “Лоэнгрин”, относится к тому периоду жизни Вагнера, когда он был особенно поражен пороками современного общества; вероятно, он страдал, чувствуя в себе полную противоположность во вкусах и идеях с публикой и не надеясь при этом на то, чтобы этот антагонизм необходимо имел конец в ближайшем будущем. Под этим впечатлением он еще с большей силой чувствует необходимость полного отречения от материального счастья; идеал кажется ему далеким, недостижимым, отделенным от действительности непроходимой бездной; и вот для выражения своей мысли он охотно пользуется христианскими символами, довольно точно отвечающими его идеям.
Подобно христианину, он говорит о земной испорченности, о грехе, о необходимости раскаянья, об обращении на путь истины, о надежде на будущую блаженную жизнь, о вере в Бога любви, который слышит молитвы людей и позволяет умилостивлять себя заступничеством святых. Однако он сознает, что его пессимизм не является абсолютным, что его христианство — главным образом символическое. Он не осуждает жизнь вообще, но осуждает только жизнь современную; он не хочет, чтобы человек совершенно отказался от счастья, но хочет, чтобы он отказался лишь от того презренного, унизительного счастья, которое только и возможно среди извращенной цивилизации. И эта-то убежденность в испорченности века, смотря по обстоятельствам, создает или христианина, который стремится к небесам, или революционера, который хочет разрушить существующий социальный строй. Вагнер зараз и с одинаковой искренностью является и тем и другим — немного более христианином до 1848 г. и немного более революционером, когда события 1848 г. склоняют его к той мысли, что возрождение человечества, быть может, близко и должно быть осуществимо в этой жизни.
В это-то время он и утверждает в своем “Сообщении моим друзьям” вполне искренно, что “Тангейзер” не есть пьеса специфически христианская, а революционная драма, как “Кольцо Нибелунга”, и он был прав. Несколько лет спустя равновесие его сложной натуры снова стремится нарушиться в пользу христианского и пессимистического начала. Тогда в письмах к Рекелю он доказывает обратное: что именно трагическое чувство необходимости отречения и составляет красоту “Моряка-скитальца”, “Тангейзера” и “Лоэнгрина” что самое “Кольцо Нибелунга” есть, в сущности, пессимистическая драма; и он опять-таки прав. На самом деле в продолжение всего этого периода основная мысль его остается почти идентичной самой себе; она делает только едва уловимые колебания около своей точки равновесия.
Глава II: IV. “Лоэнгрин”
Рассказ Вольфрама Эшенбаха. — Легенда о Рыцаре лебедя. —Филологическая работа Вагнера. — Внутреннее действие в “Лоэнгрине”. — Характеристика Лоангрина. — Характеристика Эльзы.
Сюжет “Лоэнгрина” вырисовался в воображении Вагнера почти одновременно с сюжетом “Тангейзера”. В первый раз он открылся ему в Париже, когда весной 1842 г., приготовляясь к “Тангейзеру”, он прочитал поэму о Вартбургском турнире. Напомним себе, что этот легендарный турнир оканчивается чем-то вроде ученого состязания между Вольфрамом Эшенбахом и Клингзором. Так, по одной редакции поэмы, Клингзор задает вопрос Вольфраму об Артуре и Круглом Столе, и Вольфрам в ответ ему рассказывает историю Лоэнгрина. Этот рассказ, очевидно прибавленный в конце XIII века к более древней поэме о турнире певцов, был сочинен каким-нибудь баварским жонглером и имеет лишь весьма посредственную цену в поэтическом отношении.
Сначала Вагнер не признал за ним ни морального значения, ни драматического интереса. Он отнесся недоверчиво к мистическому колориту, приданному легенде этим жонглером; его рассказ напомнил ему “те вылепленные и размалеванные изображения святых, которые встречаются на больших дорогах и в церквях католических стран”. Однако это неприятное впечатление понемногу изгладилось. Он изучил миф о Лоэнгрине в различных немецких и иностранных вариантах и благодаря трудам филологов лучше усвоил происхождение и первоначальный смысл его. И вот скоро эта прекрасная легенда предстала перед ним очищенной от излишних прикрас, уже не как рассказ специфически христианский и сверхъестественный, а как продукт народного гения, как поэма, затрагивающая эмоции, вечно живущие в глубине человеческого сердца. Едва только он окончил партитуру “Тангейзера”, как, воспользовавшись пребыванием в Мариенбаде (1845 г.), прежде чем приняться за репетиции своей новой оперы, набросал подробный план драмы на сюжет легенды о Лоэнгрине, который с этого времени сильно завладел его воображением.
Этой же зимой он написал либретто, прочитанное им 17 ноября в кружке друзей. В следующем году он начал композицию своей драмы, которая хотя и была беспрестанно прерываема вследствие его неотложных дирижерских обязанностей, однако не потребовала от него почти и года. Он начал с третьего акта, который содержал в себе главный отрывок поэмы, большой рассказ Рыцаря св. Грааля (9 сент. 1846 г. — 5 марта 1847 г.); затем он перешел к первому акту (12 мая — 6 июня 1847 г.); потом ко второму акту (18 июня — 2 августа 1847 г.) и закончил прелюдией, которая помечена датой 28 августа 1847 г. Совершенно оконченная к концу марта 1848 г. партитура была представлена дирекции дрезденской оперы и принята ею. События 1848 г. и восстание в мае 1849 г., в котором Вагнер принял участие, как мы увидим дальше, помешали постановки “Лоэнгрина” в Дрездене. Первое представление было дано только 28 августа 1850 г. в Веймаре под управлением Листа, которому Вагнер, изгнанный в то время из Германии, принужден был доверить исполнение своего нового шедевра.
Немецкая легенда о Лоэнгрине в самой простой форме встречается в конце “Парсифаля” Вольфрама Эшенбаха. Он представляет нам герцогиню Брабантскую, имени которой не
называет, столь же добродетельной, сколь богатой и благородной принцессой; ее руки добиваются много претендентов, но она отказывает всем им не по гордости, но потому что хочет отдаться только тому супругу, которого пошлет ей Бог. Напрасно ее бароны порицают ее за то, что она не дает им государя; невзирая на их угрозы, она упорно стоит на своем решении. И вот тогда появляется на ладье, запряженной лебедем, Лоэнгрин, сын Парсифаля, посланный к благочестивой герцогине из чудесного царства Грааля, Монсальвата. Он высаживается в Антверпене, вызывая своей благородной осанкой всеобщее удивление. “Принцесса, — говорит он, — если я должен сделаться государем этой страны, то я потеряю другое столь же прекрасное царство. Поэтому выслушай мою просьбу: никогда не спрашивай, кто я; под этим условием я навсегда останусь с тобой. Но если ты не послушаешься этого предостережения, Бог призовет меня туда, куда — Он знает”. Герцогиня связывает себя клятвой — никогда не преступать этот запрет — и делается женой неизвестного. В продолжение нескольких лет она живет с ним душа в душу, счастливая, обожаемая, и дает ему прекрасных детей. “Многие в Брабанте, — прибавляет поэт, — знают еще историю двух супругов: как он пришел и как он ушел, сколько времени он
оставался и как вопрос герцогини заставил его уйти. Жалко ему было покидать ее. Любимый лебедь его приплыл за ним, таща за собой прекрасную ладью. Из своих богатств он оставил там внизу меч, рог и перстень. Итак, это был Лоэнгрин; он был, как говорят нам, сыном Парсифаля; неизвестными путями, по суше и по морю, он вернулся в царство Грааля”. Те же существенные данные встречаются, значительно пополненные, обогащенные многочисленными эпизодами и измененные во многих второстепенных пунктах, в двух довольно важных немецких поэмах XIII века: в “Рыцаре лебедя” Конрада Вюрцбургского и баварском “Лоэнгрине”, который, как мы уже говорили, был связан с поэмой о Вартбурге.
Специальная легенда о Лоэнгрине, в свою очередь, есть только один из частных видов более распространенной легенды о Рыцаре лебедя, довольно много вариантов которой — и французских, и немецких — известно, и которая, наверное, получила происхождение в стране, лежащей между Рейном, Мозелем и Шельдой, — там, где с давних пор поселилось франкское племя. Сюжет этой легенды в главных чертах вкратце может быть передан так: неизвестное лицо, прекрасное, смелое, стоя на ладье, запряженной лебедем, подплывает к чужеземной стране в тот момент, когда его вмешательство может спасти от большой опасности одну принцессу, вдову или сестру, преданную своими или брошенную без защиты по ненависти преследующих ее родителей; он освобождает ее от ее врагов, женится на ней и делается родоначальником славного племени. Но по прошествии известного срока лебедь неожиданно возвращается и неизвестный принужден повиноваться его призыву: возвратиться туда, откуда он пришел. Первоначальное происхождение этой легенды весьма неизвестно, и трудно с какой-либо вероятностью определить, в какой стране зародился первый источник ее, хотя типическая подробность этой легенды — лебедь, везущий неизвестного воина — вероятно, все-таки германского происхождения.
С другой стороны, мотив фатального любопытства женщины, заставляющий Лоэнгрина уехать, так как ему предложен запрещенный вопрос, также наверно очень древнего происхождения. Он встречается в истории Гелиаса и Беатрисы (бельгийский вариант легенды о Рыцаре лебедя). Равным образом он является в мифе о Зевсе и Семеле, в котором Вагнер видит у греков как бы нечто соответствующее легенде о Лоэнгрине. Как Эльза лишается счастья и жизни из-за того, что спросила у своего избавителя, кто он и откуда пришел, так и Семела уничтожается огнем Зевса за то, что пожелала увидеть своего божественного возлюбленного в его настоящем виде, во всем блеске славы его, среди грома и молний.
Вагнер не удовлетворился, как он сделал это в “Моряке-скитальце”, одним рассказом легенды и приспособлением его к музыкальной драме. Изучение легенд и вообще германских древностей действительно сделалось одним из его любимых занятий, особенно после его возвращения в Дрезден. С этой целью он не только пополнил свою домашнюю библиотеку, но и сделался одним из самых усердных посетителей дрезденской королевской библиотеки. И мы видим, что с этих пор драматическое сочинение Вагнера сопровождается настоящей филологической работой. Для того, чтобы какой-нибудь сюжет, и в особенности сюжет легендарный, сделать сюжетом музыкальной драмы, нужно, как мы видели это раньше, насколько возможно упростить внешнее действие, свести его к главным чертам и при этом с величайшей тщательностью выделить все, что заключается эмоционного и символического в рассказе.
И к этой работе Вагнер хочет подойти не только как поэт, но и как филолог. Он хочет, чтобы его драмы не были произвольной, чисто литературной фантазией по отношению к легенде, но чтобы они верно воспроизводили подлинные первоначальные данные древней легенды и передавали ее оригинальный смысл. Его пьесы не должны быть отдельным, индивидуальным созданием субъективного поэта, который по-своему распоряжается имеющимся в его руках материалом; он хочет, чтобы они возможно более носили на себе отпечаток необходимости, чем и отличаются произведения, вышедшие из народного предания. Его мечта — восстановить ту идеальную, первобытную легенду, которая являлась бы, так сказать, началом и прототипом всех более или менее измененных и пополненных рассказов, перешедших к нам по преданию. Следовательно, в конце концов он стремится к той же самой цели, что и филолог, но только другим путем. Филолог сравнивает тексты, классифицирует; метод его по преимуществу аналитический и рациональный.
Вагнер, наоборот, действует при помощи интуиции и поэтического синтеза. Равно как Гете в бесчисленной разновидности животного и растительного царств интуитивно усматривал их происхождение от немногих простейших типов, так и Вагнер в варьированных рассказах об одном и том же легендарном событии, при помощи какого-то поэтического видения, различал простейшую форму, из которой эти рассказы вышли. Он был одарен удивительным воображением, позволявшим ему комбинировать бесчисленные элементы преданий и группировать их в грандиозные синтезы. Конечно, мы не хотим этим указать на драмы Вагнера, написанные на сюжеты легенд о Рыцаре лебедя, о Нибелунгах, о Тристане и Парсифале, как на научное разрешение бесконечно тонких и туманных вопросов, которыми задаются филологи относительно этих легенд. Тем не менее замечательно то — факт, часто констатируемый филологами, — что Вагнер часто с помощью своего интуитивного, поэтического метода приходит к результатам, весьма близким к тем, которых достигали люди науки с помощью своих критических приемов. Таким образом, его драмы кажутся нам чем-то вроде синтетического резюме подлинного предания; и мы очень склонны думать, что эта истина (по крайней мере относительная), присущая произведениям Вагнера, является весьма важным фактором их успеха.
Следствием такого метода сочинения является то, что насколько сравнение драм Вагнера с их источниками было легко для такой пьесы, как, например, “Моряк-скиталец”, полученной единственно из рассказа Гейне, настолько оно осложняется для таких произведений, как “Лоэнгрин” и, в особенности, “Кольцо Нибелунга”, элементы которых заимствованы из весьма большого числа различных источников. “Лоэнгрин”, например, имеет главным источником баварского “Лоэнгрина”, но в нем встречается много мест, заимствованных из “Рыцаря лебедя” Конрада Вюрцбургского; остальные — из легенды о Детях-лебедях, из легенды о предках Готфрида Бульонского, из источников о “Титуреле” Альбрехта, из “Nibelungenlied”, из легенды о “Варианте”, может быть, также из “Мерлина” Иммермана, из “Тамплиера и жидовки” Маршнера и т. п. Чтобы сравнение “Лоэнгрина” с его источниками было истинно плодотворным и поучительным, оно предполагало бы, таким образом, длинный ряд анализов и особенно детальное изложение легенды о Рыцаре лебедя и близких ей легенд, что само по себе легко составило бы материал для целого тома. Поэтому, чтобы оставаться в границах, предписываемых нам условиями нашей работы, мы вынуждены ограничиться теперь краткими общими указаниями по этим вопросам и отослать любознательного читателя, желающего идти дальше в изучении источников вагнеровской драмы, к специальным сочинениям по этому предмету. Итак, мы переходим прямо к изучению драмы Вагнера.
Из всех драм Вагнера “Лоэнгрин” — самая меланхолическая и глубоко пессимистическая. Она основана, как пишет сам маэстро Рекелю в 1854 г., на “крайне трагическом положении нашего века”, так как указывает на тот порыв любви, который влечет возвышенные натуры к темной толпе, и в то же время на невозможность для этих великих душ найти в реальном современном мире ту любовь, которую они хотят найти здесь. Об этом-то роковом недоразумении между высшим гением и действительным человечеством и говорит нам скорбная история Лоэнгрина и Эльзы. В начале драмы Эльза одинока в мире; у нее нет ни родителей, ни друзей, которые могли бы защитить ее. Окруженная со всех сторон темными заговорами бессовестных врагов, она находится под позорным обвинением: если она не может оправдаться, то от этого зависят ее честь и жизнь. Но в своем горе Эльза слезно воззвала к Небу, и раздирающая сердце жалоба ее дошла до Бога; ввидении ей явился божественный герой необычайной чистоты, озаренный дивным сиянием; она знает, что он придет к ней, защитит ее; она ждет его... И вот в тот решительный момент, в ту минуту, когда враги Эльзы думают, что уже уничтожили ее, является в самом деле неизвестный посол от Бога, влекомый по волнам лебедем, в сиянии торжествующей красоты, с челом, отмеченным печатью божественности. В таинственном царстве света и чистоты, где он жил, где-то далеко-далеко, из глубины несчастного страждущего человечества он услыхал раздавшийся скорбный крик Эльзы. И вот он ответил на ее пламенный призыв, он покинул свое блаженное жилище для того, чтобы спасти ее, чтобы жить с ней посреди людей. Но как он идет на бой за нее, не требуя от нее доказательств ее невинности, так Эльза, в свою очередь, должна верить в него, отдаться всецело своему спасителю, сохранить в своем сердце полную, безусловную веру, веру неослабевающую, абсолютную веру, которая не нуждается ни в каких доказательствах, не требует от любимого существа ни объяснений, ни оправданий, которая не желает узнавать и знать, но довольствуется тем, что верит и обожает.
Nie sollst du mich befragen
Noch Wissen's Sorge tragen,
Woher ich kam der Fahrt,
Noch wie mein Nam' und Art!
Но такой доверчивой, простосердечной любви, которая одна только может приблизить смертную к Богу, неизвестному не суждено было получить от Эльзы. Превосходство его натуры отмечено неизгладимыми чертами на всем его существе. Он не может не явиться чудом для людей, отличным от всего, что они видели и знали до сих пор. Поэтому он среди них возбуждает не только удивление, изумление, но также и зависть. Ожесточенный враг Эльзы — ужасная Ортруда, женщина, “не знавшая любви”, мрачная колдунья, которая хотела бы отомстить представителям христианского духа за диких божеств побежденного язычества, преследует Лоэнгрина жестокой, неумолимой злобой; между ней и им — борьба без пощады, борьба, в которой один из двух должен необходимо быть уничтожен. Для достижения своих целей она прилагает свои силы к тому, чтобы поколебать доверчивое сердце Эльзы, вселить в него тревогу и подозрение относительно ее рыцаря. Сначала юная девушка сопротивляется нападению своего вероломного врага, но мало-помалу яд сомнения проникает в ее душу и делает свое дело: доверчивое и кроткое обожание своего освободителя сменяется в ее сердце ревностью и боязнью; она теряется от той мысли, что неизвестному, который спас ее, может когда-нибудь прискучить ее любовь, и что тогда он покинет ее с тем, чтобы возвратиться в те таинственные края, откуда он пришел. Наконец, в минуту исступления и крайней тоски из глубины ее существа вырывается роковой вопрос, который навсегда разрывает связь, соединявшую ее с ее спасителем. Лоэнгрин понимает, что вера пропала в душе Эльзы: ей уже недостаточно любить, она хочет знать. И ему остается только открыть себя и удалиться. Перед королем и всем собранием баронов он отвечает на вопрос Эльзы; он рассказывает о великолепии своей настоящей отчизны, о том далеком недоступном для простого смертного Монсальвате, об обители Божиих избранников; он говорит о неизреченных тайнах Грааля, о святой реликвии, принесенной ангелами на землю и вверенной для хранения таинственному рыцарству; он открывает, наконец, свое высокое происхождение: отец его Парсифаль, король Грааля. С этих пор — конец его прекрасной грезе любви. Раз он открылся в своей божественности, закон Грааля не позволяет ему больше оставаться среди людей. С сердцем, полным бесконечной грусти, Лоэнгрин входит в ладью, которую привозит верный ему лебедь. И в то время, как он удаляется, уносимый в свою таинственную отчизну, Эльза опускается бездыханной на руки своего брата и умирает от скорби, что, познав высшее блаженство, она не могла сохранить его.
Совершенно так же, как и “Тангейзер”, “Лоэнгрин” является личной исповедью Вагнера. Как в “Тангейзере” он символизирует тот стремительный порыв, который побуждал его к завоеванию земных утех, иногда сопряженному с риском позабыть свое божественное призвание, так и в “Лоэнгрине” он олицетворяет божественный элемент своей натуры, тот идеал чистоты и красоты, который был его настоящей отчизной; сверх того, он вложил в сердце своего Рыцаря лебедя, с одной стороны, пламенное желание, которое он чувствовал в себе — принести этот идеал страждущему человечеству, а с другой стороны, скорбное сознание полного своего одиночества.
Наученный опытом в Париже и разочарованиями в Дрездене, Вагнер поневоле пришел к осуждению мира, в котором он жил, суетность и пошлость которого он проклинал. Он увидел художественное бессилие своих современников, их неспособность подниматься до созерцания прекрасного. Он увидел, что все современное общество страдает от глубокого и, без сомнения, неизлечимого зла, что оно лишилось не только чувства красоты, но и бескорыстного стремления к истине и добру, что им завладела эгоистическая страсть к непосредственным материальным наслаждениям. Такая грубая чувственность возмущала его. Подобно Тангейзеру, который бежал от соблазнов Венусберга и пошел за кроткой Елизаветой в обитель вечной чистоты, он отказался от мира, от его суеты и от успехов; его влекло к идеалу чистоты, полной непорочности. Поднявшись в эти небесные сферы, далеко от современной жизни и от ее испорченности, он испытывал сначала то приятное чувство облегчения, которое ощущается на ледяных уединенных вершинах Альпийских гор, где воздух чист, здоров и прозрачен, откуда взор охватывает расстилающиеся долины и равнины и сверху смотрит на людской муравейник.
Но едва лишь он вкусил радость освобождения, как в душе его поднялось некоторым образом противоположное чувство. Теперь он страстно желал возвратиться к человечеству, к реальной жизни, которую он далеко оставил за собой; покинуть эту пустыню, полную лучезарного света, но бесплодную и ледяную; бежать от ослепительного блеска совершенной чистоты и снова спуститься в те теплые, тенистые страны, где живут люди, где цветет любовь. Есть гении, которые могут довольствоваться самими собой, которые, как Гете, поднимаются в своем шествии вперед очень высоко над современниками, проникают в те уединенные страны, куда может отважиться проникнуть один только гений, но которые находят наслаждение в своем уединении; продолжают свое восхождение, забывая о людской толпе, никогда не останавливаясь на своем пути, и которые, по прекрасному выражению Гете, стремятся “все выше воздвигнуть пирамиду своего бытия”.
Для Вагнера же, напротив, это одиночество было невыносимо. Он не мог довольствоваться достижением чистых стран искусства, созерцания идеала; ему нужно было увлечь за собою и своих современников. Не полный пессимизм, не отречение от жизни и не отвращение к реальности заставило его подняться на светлые высоты идеала, но только ненависть к современному миру, грязью и испорченностью которого он гнушался. Любовь привела его в царство идеала, и вот теперь та же самая любовь влекла его опять к земле, побуждая его спуститься к несчастному страждущему человечеству, чтобы освободить его от страданий, возродить и спасти его.
Поэтому тщетная попытка Лоэнгрина приобрести любовь Эльзы, по Вагнеру, есть поэтический образ его бесплодных усилий заставить понимать себя своих современников, или еще более обще, — трагедия артиста в современном мире. Артист требует от современников любви; он мечтает расшевелить их, тронуть их сердца, вдохнуть в грудь испорченного, выродившегося общества священное пламя вдохновения, сообщить им то видение высшей жизни, которое наполняет его душу. Но современный мир вместо того, чтобы добровольно ответить ему живым пониманием, — вместо того, чтобы совершенно просто послушаться голоса своего сердца, упорно продолжает судить артиста холодным умом с его предубеждениями и предрассудками. Если же случайно артисту удастся бросить искру энтузиазма в избранную душу, злоба и зависть сейчас же постараются загасить это зарождающееся пламя. Эльза спрашивает у Лоэнгрина, кто он, откуда пришел; она перестает любить для того, чтобы постараться понять. Так артист, отвергнутый современным миром, замкнувшим для него свое сердце, должен уйти в свои грезы, скрыться в свою роскошную раковину и жить там в одиночестве, не имея возможности сообщить своим современникам ту “благую весть”, носителем которой он является.
Что составляет высшую красоту такого пессимистического заключения “Лоэнгрина”, так это то, что оно дает сильное впечатление какой-то абсолютной, роковой необходимости. Любопытно то, как артистически работал Вагнер: он чувствовал этот характер необходимости прежде, чем понимал его. Доказательство этого мы находим в следующем анекдоте, который он рассказывает в своем “Сообщении моим друзьям”. Один его друг, которого он уважал за его ум и знание, доктор Франк, после прочтения либретто сделал ему замечание, на первый взгляд основательное и приведшее его сначала в сильное смущение. По словам этого критика, Лоэнгрин был только холодный эгоист, и его безжалостная строгость в конце концов скорее внушает отвращение, чем вызывает симпатию. Хотя он сам признавался, что это замечание было подсказано ему не непосредственно впечатлением, произведенным чтением пьесы, а силою размышления, тем не менее Вагнер в первый момент был так озадачен этим возражением, что одно время думал даже переделать всю свою поэму: в конце пьесы Лоэнгрин, открыв свое высокое происхождение, должен был отказаться от своей божественности, чтобы иметь возможность остаться с Эльзой.
Однако он вскоре же почувствовал — и друг его разделил с ним это чувство — все, что было оскорбительного в таком новом заключении. Лоэнгрин не мог отказаться от своей божественности, потому что он абсолют, очеловечившийся идеал; что именно составляет трагическую красоту его характера, это — то, что в силу самой своей природы он осужден на исчезновение, если не встретит той абсолютной, непогрешимой веры, которая
одна только может возвысить смертную до него. Но — увы! — такой веры нет в этом мире. Душа человеческая в высшем экстазе на момент может приближаться к этому миру невидимых реальностей, возвышаться на время до той абсолютной веры, которая непреодолимо вызывает призываемого ею спасителя. Но такие высокие минуты кратковременны. И когда душа пробуждается от своей очаровательной грезы, то она может только с отчаянием констатировать ту бесконечную пропасть, которая отделяет ее от промелькнувшего перед ней абсолюта. Как только экстаз исчезает, никакая сила в мире не в состоянии возвратить непосредственное видение навсегда улетевшего идеала.
Если поведение Лоэнгрина диктуется непреклонной необходимостью, то поведение Эльзы является не менее фатальным. Мы только что представили катастрофу как результат
трагической ошибки Эльзы; она казалась нам женщиной, спохватившейся сейчас после того, как отдалась; она сомневается среди своей любви и таким образом делается виновной в некоторого рода нравственной измене пред своим избавителем. Но Вагнер во время композиции “Лоэнгрина” приходит к устранению такого понимания характера Эльзы. В конце концов он видит вней антитезу характера Лоэнгрина. Рыцарь Грааля — это представитель абсолюта, — бытие, пришедшее к сознанию самого себя и вселенной; и вот он хочет, так сказать, пополнить себя любимой женщиной, т. е. созданием всецело инстинктивным, чисто бессознательным и простым.
Лоэнгрин “знает”: одно только желание любви связывает его с областью инстинктивной жизни. Эльза — это женщина, которая чувствует и любит, не заботясь о знании, — это, по выражению Вагнера, “дух народа”, символ толпы тех простых, самородных душ, которые не имеют иного проводника в жизни и в делах, кроме голоса своего сердца. Но как Лоэнгрин, который “знает”, ищет себе спасения в “любви”, так Эльза, которая “любит”, должна, напротив, с непреодолимым жаром стремиться к “знанию”. Ее ревность, ее сомнения являются логическим и фатальным следствием ее любви. Чем больше она любит Лоэнгрина, тем больше она хочет, чтобы ее любовь сделалась “сознательной”. Потому-то, из-за повиновения необходимости любви, она и стремится добровольно к своей гибели. С сердцем, переполненным бесконечным обожанием, внушаемым ей ее спасителем, она предпочитает скорее умереть, предпочитает скорее навсегда разрушить свое счастье, чем не обладать всецело своим возлюбленным.
Рассматриваемая с такой высокой точки зрения трагедия Лоэнгрина является, если это можно, еще более трогательной, чем та, какою мы представляли ее себе раньше. Эльза нисколько не “грешит”, она повинуется только закону своей природы; подобно Брунгильде в “Кольце Нибелунга”, она становится “видящей”, она через любовь стремится к “знанию”, но за это “знание” она расплачивается своим счастьем. Поэтому ее вопрос, предложенный Лоэнгрину, теперь представляется нам уже не актом слабости, но как бы актом высшего самоотречения: смерть кажется ей лучше, чем неполная любовь... И такую дивную женщину Лоэнгрин не может ни понять, ни сделать счастливой. Он осужден навеки не знать высшей любви, — и это потому, что он сохранил самый высокий вид эгоизма — сознание своей божественности, потому что если он хочет быть любимым, то не хочет и не может хотеть, чтобы его поняли и узнали, потому что он необходимо должен видеть в Эльзе сомнение там, где есть только высший порыв любви.
Следовательно, Эльза и Лоэнгрин не могут найти счастья друг в друге. Высшее счастье. совершенная любовь, дело спасения и искупления не могут быть результатом соединения бога с женой, существа, всецело сознающего себя и вселенную, с созданием всецело инстинктивным. Для того, чтобы это спасительное соединение могло совершиться, нужно, чтобы тот же человек был “простецом”, а не “мудрецом” инстинкт, а не разум должен вести человека к счастью и спасению; только такие самопроизвольные герои, как Зигфрид и Парсифаль, которые бессознательно и счастливо развиваются по вечным законам природы, — только они и могут подняться до высочайших вершин любви и успешно выполнить ту задачу, в которой не имел успеха Лоэнгрин. Царство Божие дается простым.
Глава II: V. Вагнер-революционер
Вагнер и дрезденские артисты. - Отношение публики к Вагнеру. - Враждебность знатоков и критики. - Ссора Вагнера с Литтихау. - Душевное состояние Вагнера к 1848 г. Революция 1848 г. в Германии. - Сочувствие Вагнера делу революционеров. - Влияние Рекеля. - Проект реформы Королевской Оперы. - Речь Вагнера к Патриотической ассоциации. - "Иисус из Назарета". - Семья и собственность. -Естественная эволюция человека. - Предвестники кризиса 1849 г. - Статья Вагнера о революции. - Майские дни в Дрездене. - Участие Вагнера в восстании.
Когда Вагнер занял место капельмейстера в Дрездене, он, как мы видели, решился воспользоваться тем авторитетом, который доставляло ему его положение, чтобы посредством королевской оперы провести свои новые идеи в драматическом искусстве. Вступив в эту должность, он сейчас же решительно взялся за дело - выполнить свою программу реформ. Но вскоре он убедился в том, что плохо рассчитал силу тех сопротивлений, с которыми ему пришлось столкнуться. По мере того, как он шел вперед и отчетливее выяснял себе, кто он и чего он хочет, - он чувствовал, что против него поднимается все более могущественная тайная и явная оппозиция. Мало-помалу он понял, что всего его гения, всей его энергии, всего его заразительного энтузиазма не было достаточно для того, чтобы одержать победу над силою инертности одних и нежелания других. Семь лет шаг за шагом он боролся "против всемогущества глупости и царящего невежества" - до того дня, когда он убедился, что всякая серьезная реформа в опере невозможна при современных условиях общества и стал ждать спасения еще только от всеобщей революции, которая сверху донизу разрушила бы существующее положение общества. Рассмотрим же несколько ближе, как образовалась оппозиция против Вагнера, пользовавшегося сначала такой популярностью в Дрездене, и потом - как, в свою очередь, Вагнер из реформатора, каковым он был, сделался революционером и в конце концов восстал против того общества, в котором не было места для искусства, как он его понимал.
Прежде всего укажем на то, что оппозиция против Вагнера образовалась не среди артистов, которыми он управлял. Это не значит, что с самого начала он не встретил никаких затруднений в водворении своего авторитета; и в самом деле, он начал в должности капельмейстера конфликтом с первой скрипкой Липинским, который дошел до того, что подал главной дирекции жалобу на своего дирижера. Но это враждебное отношение скоро прекратилось, и Вагнер стал пользоваться большой популярностью среди музыкантов своего оркестра, по большей части понимавших исключительную цену того артиста, который ими управлял. Именно своему оркестру он и был обязан теми в высшей степени чисто художественными наслаждениями, которые ему привелось испытать в Дрездене. Со "своими милыми музыкантами" он мог по крайней мере исполнять так, как он понимал, шедевры инструментальной музыки, в особенности симфонию Бетховена с хорами, которая открылась ему в концертном исполнении Парижской консерватории. В 1846 году он устроил дивное исполнение той же симфонии, наделавшее много шума в Дрездене и по всей Саксонии.
Не хуже были у него отношения и с актерами оперной труппы. Они также помогали ему изо всех сил, и благодаря их содействию он мог с весьма большим совершенством поставить на сцене некоторые из шедевров лирической драмы, которые он хотел предложить дрезденской публике для того, чтобы несколько воспитать ее вкус: "Армиду" Глюка, сыгранную в 1843 г., "Весталку" Спонтини, торжественно представленную в 1844 г. под управлением самого автора и, наконец, "Ифигению в Авлиде" Глюка, представление которой Вагнер приготовил в 1847 г.; он сам с особенной тщательностью подправил инструментовку и в то же время добросовестно сохранил характер произведения, изменив только первоначальную развязку, которая рисковала показаться устарелой; он не отступал ни перед каким трудом, лишь бы глубже проникнуть в намерения композитора и представить его произведение в надлежащем виде. Но если ему удалось добиться от артистов, которыми он управлял, хорошего исполнения опер Глюка и Спонтини, то все же его усилия остались тщетными, когда он принялся с ними за разучивание собственных своих произведений, которые они должны были исполнять в том стиле, в каком он хотел. Представления "Тангейзера" вполне ясно показали ему, как оперные певцы - даже перворазрядные - были неспособны к исполнению истинной драмы. Вагнер требовал от них быть то актерами, то только певцами, тогда как дрезденские артисты прежде всего старались петь свою роль, и только между прочим - понимать ее и играть. Даже знаменитый тенор Тишачек, хотя и преданный друг Вагнера и большой почитатель его музыки, оказался не в силах воплотить личность Тангейзера так, как понимал ее Вагнер, так что автор принужден был покориться и пожертвовать в конце второго акта одной репликой, важной для понимания драмы, но которую блестящий тенор, несмотря на полное обладание голосовыми средствами, при всем старании не мог спеть. Привыкшие смотреть на оперу, как на ряд музыкально-вокальных номеров, арий, речитативов или ансамблей, которые должны доставлять удовольствие сами по себе и каждый отдельно и производить возможно больший эффект, певцы не могли понять, что музыкальная драма была прежде всего драмой, имеющей назначение - как и всякая театральная пьеса - вызывать в душе зрителей эмоции, а не услаждать только слух каких-нибудь дилетантов. Неспособные отделаться от дурных привычек оперных певцов и создавать свои роли, как хотел Вагнер, они коверкали поручаемые им драмы; и Вагнер с истинным отчаянием констатировал, что в их руках произведения его мало-помалу теряли всякий драматический характер и в конце концов являлись перед публикой превращенными в обыкновенные оперы, жалко изуродованными и лишенными всякой возможности произвести то действие, которого он ждал от них.
Любимый и поддерживаемый вообще артистами, которыми он управлял, Вагнер до конца оставался в милости также и дрезденской публики. Из трех опер, поставленных им в течение периода между 1842-1849 гг., один только "Моряк-скиталец" не имел успеха в первый момент своего появления и никогда не был возобновляем. "Риенци", одобренный с самого начала, держался в репертуаре, и еще в 1848 г., в периоде брожения, предшествовавшем открытому восстанию, пользовался более живым чем когда-либо успехом, очевидно, главным образом благодаря либеральным республиканским тенденциям этого произведения. Что касается "Тангейзера", то он удержался в дрезденском репертуаре единственно по милости публики. Осужденная местной критикой пьеса чуть было не провалилась со второго представления, как "Моряк-скиталец", но публика, смущенная в первый момент новизною произведения и напуганная враждебным отношением критики, овладела собой и устроила блестящую судьбу "Тангейзеру": с 1845 до 1848 г. он выдержал двадцать представлений, и с каждым разом успех его все более и более возрастал. Словом, Вагнер не мог пожаловаться на публику - совсем напротив. Его произведения ставились чаще, чем произведения какого-либо другого музыканта в Дрездене; и несмотря на те нападки, объектом которых были его музыка и его частная жизнь, он пользовался среди своих сограждан весьма реальной популярностью, проявлявшейся во многих случаях в горячих овациях, предметом которых был он. Но несмотря на эти проявления симпатии, он чувствовал себя, в сущности, очень мало понятым в своих реформаторских попытках; он чувствовал, что народ, ослепленный сильно вкоренившимися предрассудками и испорченный дурными привычками, потерял чувство красоты и почти вовсе не мог здраво ценить те произведения, которые ему предлагались; что, например, все, слушающие "Тангейзера", слушали эту драму совершенно так, как будто они слушали первую попавшуюся оперу, и, следовательно, наслаждались ею совершенно не так, как хотел автор. Он сравнивал популярность, мало-помалу приобретенную "Тангейзером", с состраданием, которым наделяют симпатичного сумасшедшего его друзья: из желания облегчить несчастного они стараются как-нибудь найти смысл в его безумной болтовне и ответить ему, польстив его мании.
Конечно, такое благоволение дрезденской публики, слишком мало освещенное и слишком пассивное, хотя и реальное, было скорее благоприятным признаком. Вагнер мог льстить себя надеждой, что со временем и благодаря упорным трудам ему удастся образцовыми представлениями шедевров лирической драмы мало-помалу воспитать вкус своих сограждан и развить в них чувство красоты. В его руках дрезденская опера могла сделаться образцовым театром, как некогда был веймарский театр под управлением Гете, и таким образом иметь значительное влияние на общественный дух. Но Гете мог внушать свои взгляды публике и актерам, потому что он чувствовал поддержку в своем деле в полном доверии своего государя. Напротив, Вагнер неизбежно должен был потерпеть неудачу в своих реформаторских попытках, так как он имел против себя две силы, у которых ему нужно было бы найти солидную поддержку: дирекцию театра и прессу.
В самом деле, почти с самого своего вступления в должность он встретил непримиримую оппозицию со стороны небольшого кружка любителей оперы - "знатоков" - и со стороны критики, отражавшей вкусы этой специальной публики. Местная критика в Дрездене открыла враждебные действия против него с появлением "Моряка-скитальца" и с этих пор уже не переставала буквально ополчаться на него при всяком случае. Она поносила его как дирижера, обвиняя его в искажении традиционных темпов и, следовательно, в коверкании тех произведений, которыми он дирижировал, в особенности произведений Моцарта: понять его и играть в должном стиле, утверждала она, Вагнер не был способен. Она представила его честолюбцем, одаренным скорее притязаниями на талант, чем самим талантом; пропитанным собственным своим превосходством; избалованным лестью некоторых своих приверженцев-фанатиков и старающимся набросить тень на произведения своих соперников к большей славе своих собственных драм. В пику ему она превозносила такие посредственности, как Рейсигера или Гиллера. Чтобы объяснить тот шум, который повсюду вызывали его драмы, она утверждала, что успех их был чисто искусственный и был обязан единственно тем необузданным рекламам, которые услужливые его друзья распространяли в журналах. В конце концов она напала на его частную жизнь, поставила ему в упрек его долги, вменила ему в преступление его любовь к роскоши, его сибаритство, постаралась разгласить все те злые слухи, которые могли ходить по городу на его счет, и распространила о личности его самые нелепые небылицы. Особенно немилосердно она принялась критиковать все его новые произведения по мере того, как они появлялись, и имела незавидную честь положить основание той "легенде" о Вагнере, которая обошла впоследствии всю Европу: Вагнер был представлен как музыкант без вдохновения, неспособный сочинить ни одной порядочной мелодической фразы и старающийся прикрыть свое бессилие оглушительным громом и утомительной запутанностью слишком громоздкой инструментовки; как дерзкий и с большими претензиями новатор, который хочет пренебречь здоровыми традициями великой немецкой музыки, который презирает или, скорее, не знает законов гармонии и композиции и который постоянной погоней за эффектами, заранее рассчитанной причудливостью ищет низкопробного успеха у невежд и зевак.
Нетрудно понять всю горечь, которую должен был испытывать Вагнер, слыша такие поношения со стороны врагов, чаще всего анонимных, неразумность которых была объяснима только невероятной несправедливостью. Понятно также и то, что друзья его, возмущенные этой немилосердной бранью, продолжающейся почти до сих пор, высказались с неумолимой строгостью в своих суждениях относительно этих темных дрезденских критиков, открывших свои враждебные действия против Вагнера. Теперь же, когда дело вагнеровского искусства торжествует вполне, быть может, следует заметить, что тот взрыв "мизонеизма", которым был встречен Вагнер вначале, был - не скажу: законным, но по крайней мере весьма понятным. Если такой реформатор, как Вагнер, должен был встретить некоторую долю оппозиции, то, очевидно, это - среди тех, которых он прямо задевал в их вкусах и убеждениях, - среди тех дилетантов оперы, которые издавна находили удовольствие в тех традиционных заблуждениях, которые он хотел искоренить, и в силу своего музыкального полуразвития потеряли свежесть впечатления и самопроизвольность, необходимые для того, чтобы откинуть в сторону предрассудки и позабыть свои затверженные знания перед лицом таких оригинальных произведений, какие предлагал им великий новатор. Может быть, даже справедливо было бы не возмущаться слишком против этих педантов, которые, кажется, более грешат глупостью, чем недобросовестностью: если к их вражде против Вагнера, несомненно, и примешивалась порядочная доза той низкой зависти, которую бесплодная посредственность инстинктивно чувствует к мощному, плодовитому гению, то многие из них, без сомнения, весьма чистосердечно думали, что, нападая на Вагнера, они тем самым послужат делу серьезного, честного искусства против дерзкого шарлатана, который скандалами и рекламой ищет вредной популярности вместо того, чтобы испросить санкции своего таланта у просвещенных и компетентных знатоков.
Подвергаясь нападкам со стороны прессы, Вагнер не замедлил еще поссориться со своим непосредственным начальником, интендантом королевского театра. Вначале барон Литтихау казался очень расположенным к новому капельмейстеру. Но между таким горячим энтузиастом-артистом, как Вагнер, который всеми силами своей души верил в высокую, просветительную миссию искусства, и таким придворным человеком, как Литтихау, весьма дорожившим своим авторитетом, но большим неучем в деле искусства и склонным смотреть на оперу главным образом как на королевское развлечение, очевидно, не могло быть прочного согласия. Мы не станем здесь подробно излагать те разногласия, которые возникли между этими столь противоположными по характеру людьми. Скажем только, что Вагнер, убедившись в абсолютной невозможности для себя заставить главную дирекцию оценить его взгляды и добиться хотя бы малейшей реформы, бросил в 1847 г. заниматься театральными делами, прервал всякие сношения с Литтихау и строго ограничился своими профессиональными обязанностями дирижера оркестра.
Таково-то было довольно печальное положение, в котором находился Вагнер накануне событий 1848 г. Он должен был убедиться, что та реформа оперы, о которой он мечтал, принимая на себя должность дрезденского капельмейстера, была неосуществима при тех условиях, в которые он был поставлен. Он чувствовал себя совершенно изолированным в той индифферентной или враждебной среде, которая потеряла понятие и вкус в великом искусстве, показала себя неспособной понимать его, помогать ему, и которая находила в себе некоторую долю энергии только тогда, когда дело касалось нападения во имя рутины на его смелую инициативу. К довершению несчастья он впал в долги от издания новых партитур своих произведений, которые не окупались, и это стало для него источником беспрестанно возобновляющихся хлопот. Та перспектива, которая открывалась для него вне Дрездена, была ничуть не лучше. Лейпциг был закрыт для него, потому что Мендельсон, предписывавший там законы, не чувствовал никакой симпатии ни к его таланту, ни к его идеям. В Берлине, где были поставлены "Моряк-скиталец" и "Риенци", он сталкивался с теми же сопротивлениями знатоков, которые он встретил в Дрездене и, кроме того, чувствовал скрытую враждебность к себе со стороны всемогущего Мейербера. Таким образом, успех его произведений оставался чисто местным; движение, которое на время обнаружилось в разных местах в пользу "Риенци" и "Моряка-скитальца", по-видимому, остановилось. После неудачи "Риенци" в Берлине (октябрь 1847 г.) и после смерти его матери, случившейся немного спустя (9 января 1848 г.) Вагнер узнал минуты ужасного уныния. Мысль о самоубийстве стала тревожить его ум.
Размышляя о неудаче, о своей реформаторской попытке, Вагнер пришел к заключению, что основания всего этого надо искать не в местных, единичных причинах, но в общем положении современного общества, и что реформа театра должна иметь предварительным условием переворот в социальных нравах. Ему показалось, что тирания убеждения, моды и традиции висит не только над театром, но над всей современной цивилизацией; что всеобщий культ золота убил не только любовь к искусству, но и вообще всякое благородное бескорыстное чувство и заменил царство любви царством эгоизма; что царство капитала, сделав из храма искусства промышленное предприятие, сделало несчастным и человечество, разделив его отныне на два класса: с одной стороны - богачи, утопающие в довольстве, застрахованные от всякой нужды, не знающие через это истинного удовольствия, которое является результатом удовлетворенной нужды, и тщетно ищущие развлечения от удручающей их скуки в утонченной роскоши; с другой стороны - пролетарии, еще более несчастные, чем древние рабы, жалко влачащие жизнь вьючного животного, истощенные невыгодным для себя трудом, и от усталости и умственного притупления также неспособные вкушать радости искусства. И вот Вагнер заключает отсюда, что современная жизнь испорчена в самом своем основании; что она покоится на чудовищной первоначальной несправедливости; что среди такого общества искусство не имеет ни одного шанса на свободное процветание. Для того, чтобы человечество снова стало способным наслаждаться источниками красоты, нужно, чтобы оно освободилось от тяжелого ига, под которым оно стонет, и обновило свою загрязненную душу. Человек выродился; нужно, чтобы он возродился. И вот с этих пор Вагнер все свои надежды возлагает на всеобщую Революцию, на тот всемирный потоп, который в своем неудержимом водовороте унесет буржуазный капитализм вместе с его несправедливыми законами, с его тщеславным искусством, сметет гниль наших современных учреждений и сотрет с лица земли настоящее, для того чтобы на развалинах нашего старого мира воздвигнуть великое и прекрасное здание будущего общества.
Таково было настроение Вагнера, когда в Париже вспыхнула февральская революция, отразившаяся в Германии всеобщим волнением. В продолжение нескольких недель добрая треть страны была проникнута чем-то вроде анархии, впрочем, довольно тихой, потому что пред таким единодушным движением власти почти не оказали никакой попытки к сопротивлению. Во главе движения стала немецкая буржуазия: коммерсанты и промышленники, адвокаты и доктора, профессора и писатели; все они требовали единства Германии и либеральных реформ; их главными требованиями были: созвание национального парламента, свобода печати, учреждение суда присяжных и замена постоянной армии вооруженной нацией; в самых рядах этой большой либеральной партии имелись, кроме того, более или менее развитые фракции, из которых одни рассчитывали на содействие существующих властей, королей и государей, чтобы довести требуемые реформы до конца; другие, более радикальные, требовали учреждения республиканского правительства, отмены привилегий дворянства и королевской власти. За буржуазией шли глубокие массы народа, требовавшие, кроме политических, реформ социальных, которые должны были бы принести с собою эру всеобщего благосостояния; они требовали всеобщего равенства, уничтожения привилегий крупных поземельных собственников в деревнях, реформы промышленного режима в городах, защиты ремесленника от фабричной конкуренции или фабричного рабочего от эксплуатации хозяина. В Саксонии, как и во всей почти южной Германии, революция дала силу либеральному министерству и вызвала по всей стране сильное политическое волнение.
Как же отнесся к этому движению Вагнер? Очевидно, революция, которой так желал Вагнер, имела весьма мало общего с тем политическим движением, которое распространилось тогда по Германии. Саксонские социалисты и радикалы требовали политических и экономических реформ, улучшения материального положения рабочих классов и предоставления народу большого участия в управлении страной. Напротив, Вагнер интересовался этой видимой, внешней революцией лишь потому, что видел в ней необходимое условие революции идеальной, - условие того общего возрождения человечества, которое он считал необходимым. Современное общество, основанное на лжи и обмане, основанное на возмутительнейшей из несправедливостей, по его мнению, было только организованным и узаконенным хаосом; нужно было скорее положить конец такому New анархическому состоянию. А для этого нужно было предварительно разрушить ту искусственную и порочную организацию современного общества, которая мешала появлению нового общества, основанного на свободе и любви. Поэтому Вагнер сочувствовал революционерам всех оттенков, но только в одном пункте: в отрицании настоящего. По своим созидательным идеям, по гениальным интуициям относительно будущего общества, относительно идеального политического режима возрожденной Германии Вагнер, в действительности, не принадлежал ни к одной из партий, волновавшихся в тот момент в Саксонии.
Он не был социалистом; потому что если он и проклинал царство капитализма и требовал отмены собственности, то смотрел на коммунизм, на равномерное распределение средств как на "самую смешную и самую нелепую из всех доктрин", как на опасную и неосуществимую утопию. Он не был также ни республиканцем, ни демократом, потому что, оставаясь верным одному из древнейших инстинктов германской расы, желал иметь во главе свободного народа сильного, могущественного короля, облеченного доверием своих подданных, видимого представителя нации и расы, - главу, подобного тому императору Генриху Птицелову, которого он вывел с таким благородством и величием в "Лоэнгрине", или подобного Фридриху Барбароссе, которого он думал тогда сделать героем большой исторической драмы. Он не был даже и либералом, потому что если и думал, что король должен быть свободным от исключительного влияния дворянства и от опеки выродившейся аристократии, то он весьма горячо осуждал самый принцип конституционной монархии, где короля контролирует и парализует народное представительство, тем самым уничтожая его монаршее и человеческое достоинство. Поэтому ему трудно было скрывать от самого себя, что между его стремлениями и стремлениями революционеров 1848 г. был заметный скачок.
Для чего же, вопреки всему, он примкнул к крайней левой радикально-социалистической партии саксонских демократов и вмешался таким образом в эту толпу, заведомо не разделяя с ней почти ни одной из ее страстей? То, что заставило его тотчас же принять участие в революционном движении, - это та инстинктивная симпатия, которую он почувствовал с самого начала к этому восстанию униженных и слабых против сильных мира сего. "Я никогда не занимался серьезно политикой, - писал он немного спустя после своего бегства из Дрездена. - Я помню очень хорошо, что меня интересовали политические события лишь постольку, поскольку я видел в них проявления духа Революции, возмущение чистой человеческой натуры против политико-юридического формализма. В этом отношении уголовное дело представляло для меня такой же интерес, как и политическое дело. Я всегда поневоле принимал сторону тех, кто страдал, и во внимание к тому гнету, на который они реагировали, никогда никакая созидательная политическая идея не могла заставить меня отречься от этой симпатии". Прежде, когда еще Вагнер был дирижером оркестра в Риге, он принял живое участие в одном молодом мошеннике, который украл у него много вещей и, кроме того, совершил несколько других мелких преступлений; Вагнер горячо хлопотал за него (впрочем - без успеха), чтобы его не сослали в Сибирь. Это, очевидно, тот же самый инстинкт возмущения против утилитарного эгоизма общества, против холодного бесчувствия людской справедливости, который заставил его примкнуть в 1848 году к саксонским социалистам.
Была другая причина - чисто личная, заставившая его спутаться с революционерами. В самом деле, среди них был один из самых близких друзей его, Август Рекель, который сыграл важную роль в этом периоде его жизни и завлек его в революционное движение, вероятно, гораздо дальше, чем если бы Вагнер был предоставлен своим собственным стремлениям.
Некоторые биографы Вагнера являются очень строгими по отношению к Рекелю, представляя его злым гением Вагнера, ожесточенной и завистливой натурой, ненавидевшей всех счастливых в жизни, ограниченным демагогом без идеала, без поэтического чутья. Это строгое суждение ослабляется свидетельством Вагнера, всецело отвергать которое было бы очень трудно. Вагнер и Рекель поступили в одно и то же время в дрезденской театр: один в качестве капельмейстера, другой с менее высоким титулом, а именно в качестве директора музыки (Musikdirector); но Рекель столь глубоко почувствовал превосходство своего коллеги, что добровольно отказался от
постановки собственных своих опер, откинув в сторону свое артистическое самолюбие, и всецело отдался успеху своего друга. Вагнер говорит о Рекеле, как о единственном человеке, с которым он мог откровенно делиться мыслями в своем умственном одиночестве в Дрездене. В конце восстания, когда Рекель, попав в руки торжествующей реакционной партии, был заключен в Вальдхеймскую тюрьму, Вагнер продолжал с ним переписку. По письмам Вагнера, недавно появившимся в печати, Рекель представляется нам скорее ясным, чем глубоким умом, - человеком действия, непоколебимой жизненности и свежести энтузиазма которого удивляется сам Вагнер; политиком от природы, который любит управлять людьми и не останавливается перед неблагодарной миссией, заставляющей его смешиваться с толпой глупцов и посредственностей; неисправимым оптимистом, во всех тягчайших испытаниях сохранившим непоколебимую веру в окончательное счастье человечества. В 1848 г. он принял деятельное и энергичное участие в революционном движении, сделался одним из вождей самой передовой демократии, был избран депутатом во второй саксонской Палате и издавал с 26 августа 1848 г. по 29 апреля 1849 г. "Volksbiatter", один из самых зажигательных журналов революционной партии. Наверное, из-за дружбы к Рекелю Вагнер и пустился в воинствующую политику. С одной стороны, он преувеличивал себе интеллектуальную цену своего друга и видел между ним и собою в то время гораздо больше общего, чем это было на самом деле; с другой стороны, Рекель вполне естественно олицетворял собой в его глазах стремления саксонской демократии, и эта иллюзия, несомненно, способствовала внушению ему большей симпатии к революционерам, чем если бы он наблюдал за ними непосредственно, а не через личность одного своего друга.
Была и еще причина, побудившая его в конце концов к действию. Вагнер всеми силами верил в законность той идеальной Революции, о которой он мечтал; и вот в движении 1848 г. он увидел смутное стремление к тому возрождению человечества, которого он так страстно желал. Тогда он решил, что прямой его долг - объяснить демократии ее истинные интересы, помешать ей уклониться от своего пути и впасть в пагубную крайность; показать ей возможно яснее окончательный идеал, к которому она должна стремиться. Эта вера во влияние общих идей на ход человеческих событий, может быть, была только иллюзия, но иллюзия безусловно смелая. Несомненно, что Вагнер ошибся в смысле и значении событий 1848-1849 гг.; что он ничего не смыслил в практической политике; что ему далеко было до того, чтобы управлять саксонскими демократами по своим взглядам, и что, напротив, он был завлечен настоящими вожаками революционной партии в действия, которые не представляли лично для него никакого интереса. Но эти ошибки в поведении имели свое оправдание в одном из самых почтенных чувств. Вагнер обнаружил больше душевного величия и больше мужества, подвергая опасности свою жизнь, может быть, некстати за идеи и очертя голову бросаясь в очень невыгодные для себя приключения, чем если бы он задрапировался в тогу своего артистического достоинства и сложа руки присутствовал при ходе событий, не сделав ни малейшей попытки заставить торжествовать то, что он считал делом истины и справедливости.
В первый раз, когда он вмешался в общественные дела, это было для защиты интересов искусства, которым угрожала революция. В самом деле, вскоре после мартовских дней он узнал, что радикальные депутаты, вновь выбранные в саксонскую Палату, предлагают, в споре о цивильном листе, отменить субсидию королевскому театру под тем предлогом, что театр есть только предмет бесполезной и дорого стоящей роскоши. Вагнер же, с одной стороны, сознавал, что при существующем порядке вещей театр вполне заслуживает суждений, направляемых по его адресу саксонскими депутатами, но что с помощью приноровленной реформы можно преобразовать его в настоящее художественное учреждение, имеющее своей задачей оказывать благотворное, просветительное влияние на всю страну; с другой стороны, он полагал, что для такого театра важно было удержать в своих руках давнее денежное пособие, которое, избавляя дирекцию от обязанности подделываться под вкусы публики, только одно могло позволить ей вполне независимо посвятить себя артистической миссии. Он быстро набросал проект организации того "национального саксонского театра", которым он хотел заменить старый королевский театр, и добился от министра Оберлендера аудиенции, на которой и изложил ему свои идеи. Он рассчитывал, что министр усвоит себе его взгляды, представит их прямо на одобрение короля и потом внесет их как правительственный проект в саксонскую Палату. Но Оберлендер дал ему понять, что такая процедура поведет к несомненному провалу: двор наверное отнесется враждебно к проекту, одним из главных пунктов которого была замена интенданта, назначаемого королем, - директором, избираемым актерами и драматическими писателями в королевстве; поэтому в интересе предполагаемой реформы лучше, если Вагнер поговорил бы с тем депутатом в саксонской Палате, который предложил перенести театральную субсидию из цивильного листа в бюджет государства. Так, сам министр побудил Вагнера войти в сношение с депутатами и пуститься таким образом в воинствующую политику.
Вскоре представился для Вагнера и другой случай выступить на политической арене. После мартовских дней в Саксонии, как и во многих других немецких государствах, образовалась Патриотическая ассоциация (Vaterlandsverein), кишевшая демократами всех оттенков от либералов-монархистов до социалистов включительно, где разбирались злободневные политические вопросы. Одним из деятельнейших членов этой ассоциации был Рекель; и вот Вагнер под влиянием своего друга, а также и по своим убеждениям, вызвавшим в нем сочувствие к самой крайней демократической партии, тоже решил подписаться на листах ассоциации. Впрочем, он лишь изредка показывался на устраиваемых ею собраниях и первое время никогда не вмешивался в дебаты. Но подобное положение пассивного зрителя мало соответствовало его характеру; он не замедлил выйти из роли наблюдателя и ясно высказался относительно одного самого жгучего из всех волновавших тогда умы вопросов: это - вопрос о сохранении или отмене королевского сана. В статье, напечатанной 14 июня 1848 г. в "Дрезденском журнале" и прочитанной им на следующий день в Патриотической ассоциации, он своеобразно формулировал программу революции, указав, какими путями она должна быть осуществлена. Спрашивается, какова же должна быть цель демократической реформы? Прежде всего - создать единение всего народа, в настоящее время разделенного на ряд изолированных друг от друга, часто враждебных друг другу каст. Отсюда - необходимость некоторых политических реформ: уничтожение привилегий и титулов дворянства, упразднение Верхней Палаты, учреждение всеобщего голосования, замены постоянной армии и национальной гвардии "вооруженной нацией". Но это только первый шаг по пути к прогрессу.
Еще более, чем политические реформы, существенны реформы социальные, которые должны обеспечить материальное и духовное благосостояние нации; они могут быть переданы одним словом: уничтожение денег - "презренного металла", порабощающего и бесчестящего человечество. На место капиталистического режима должен водвориться не коммунизм - математически равное распределение имущества и доходов - неосуществимая утопия, которая породила бы еще большее варварство, - а режим, стройно составленный из ассоциаций производств, которые бы братски обменивались продуктами своего труда и добровольно содействовали поддержанию и благосостоянию общества. Наконец, недостаточно, чтобы реформа была местной или даже национальной; нужно, чтобы она распространилась и за пределами Германии и принесла бы счастье всему человеческому роду. Если же такова программа революции, то почему бы королю Саксонии, такому просвещенному, глубоко сознающему свои обязанности, любимому всеми своими подданными государю, не остаться во главе своего народа, чтобы вести его по пути к прогрессу? Королевство и монархия - не синонимы. Постоянный враг демократии - это монарх, так как, стоя во главе горсти аристократов, он претендует на то, чтобы ему пользоваться личной властью к выгоде меньшинства и держать под опекой своих подданных; между монархией и республикой существует неизбежный антагонизм, который необходимо кончится поражением монархии. Но между республикой и королевством нет такой противоположности. Во главе свободного народа, думается, можно было бы иметь государя-короля, который являлся бы первым гражданином нации, был бы выбираем на этот высокий пост по согласию и по любви всех свободных граждан, и который сам смотрел бы на себя не как на господина, повелевающего своими подданными, а как на представителя нации, как на первого гражданина в государстве. Ничто не мешало бы королю Саксонии взять на себя эту славнейшую из всех роль: он сам освободил бы своих подданных; он провозгласил бы Саксонию свободной страной, и в конституционном законе этой республики было бы постановлено, чтобы верховная исполнительная власть принадлежала королевской династии Веттинов и передавалась из рода в род по порядку первородства.
Эта интересная речь, в которой Вагнер пытался примирить свою лояльность саксонского подданного со своими демократическими воззрениями и положить основание какой-то мировой сделке между традициями прошлого и принципами революции, могла для него иметь и действительно имела только неприятные последствия. Радикалы и социалисты, по всей вероятности, сочли Вагнера крайним роялистом и чересчур неясным в своих требованиях. С другой стороны, в официальных кругах были весьма раздражены и скандализованы тем, что такие доктрины проповедует чиновник, зависящий от двора. Интендант Литтихау сделал предостережение неосторожному капельмейстеру, который, в свою очередь, вскоре же отвечал длинным оправдательным письмом; и эта неосторожность в поведении была для него началом ряда хлопот, который раздражили впечатлительного артиста и окончательно внушили ему отвращение к его положению в Дрездене.
Чтобы отвлечься от забот, вызванных неприятностями, он в течение лета и осени 1848 г. набросал новые драмы: "Смерть Зигфрида", оконченную в конце года, план исторической драмы о Фридрихе Барбароссе, которым мы займемся в следующей главе, и, наконец, "Иисуса из Назарета", самое любопытное произведение той эпохи, заслуживающее нашего внимания, потому что содержит в себе самое интересное и самое полное изложение Вагнером революционного credo.
"Иисус из Назарета" остался неоконченным. Но Вагнер набросал не только эскиз внешнего действия драмы, которая должна была изображать некоторые характеристические сцены из жизни Иисуса и кончалась смертью на Голгофе, но также и подробный, очень любопытный анализ внутреннего действия, - тех идей и чувствований, которые он предполагал выразить в символической форме в своей поэме. Таким образом, главная идея предполагаемой драмы является как нельзя более ясно выраженной.
Вагнер хотел показать нам в Иисусе Христе вдохновенного пророка будущего общества, представителя идеального человечества, чистого от всякой грязи и от всякого греха, который сходит в среду выродившихся людей, снимает личину с пороков развращенной цивилизации и проповедует возвращение к добру, возрождение любовью. "Я освобождаю вас от греха и возвещаю вам вечный закон духа; этот закон - любовь: если вы будете поступать по любви, вы никогда не согрешите". Эти слова, которые Вагнер влагает в уста Христа, вкратце передают всю философскую идею драмы. Вагнер допускает, что Бог и человек вначале составляли одно, что первые люди поэтому жили бессознательно невинными по божественному закону, или, что то же самое, по закону природы. Мало-помалу к ним пришло сознание, они стали различать полезное от вредного и назвали полезное добром, вредное злом. Тогда они противоположили добро злу; они уверовали, что от Бога исходит одно добро, что зло происходит от несовершенства человеческой природы, и вместо того, чтобы следовать божественному закону, который бы вел их непрерывными переменами шаг за шагом вплоть до самого высокого блаженства, они основали человеческие законы, по которым захотели точно определить добро и зло, справедливое и несправедливое; они создали государство, которое бы следило за соблюдением среди них этих законов. Но эти законы, неполные и несовершенные, при своей строгости сделались причиной горчайших скорбей человечества, ибо ослабили в людях сознание божественного закона, с которым они часто шли вразрез, и дали таким образом понятие греха.
Вот, например, первый из этих человеческих законов, закон, на котором основывается семья: закон супружества. Вначале, правда, он является следствием закона любви. Союз по свободному согласию мужчины и женщины, в котором каждый из них находит друг в друге пополнение своей природы, является источником высшего удовлетворения, понятного для обоих супругов, и поэтому хорошо, если бы этот союз был прочен. Следовательно, Божеский закон хочет, чтобы мужчина и женщина, соединяемые любовью, принадлежали друг другу до тех пор, пока смерть не разлучит их. Отсюда человеческие законы, провозглашающие святость супружества, те права и обязанности, которые они одинаково возлагают на обоих супругов. Но не видим ли мы, что эти законы могут вступать в распрю с тем Божеским законом, который дал им начало? Они провозглашают нерасторжимый союз мужа и жены; но этот союз, законный, если он основывается на взаимной любви, становится несправедливейшей тиранией, когда любви нет. Человеческий закон является беззаконным, когда провозглашает, что женщина, вышедшая без любви замуж за мужчину, обязана ему вечной верностью; ибо он вступает здесь в распрю с естественным законом, который хочет, чтобы женщина любила и искала среди людей того, кому она могла бы дать счастье и в ком сама могла бы найти его. "Закон говорит: никогда не совершай прелюбодеяния! А я говорю вам: не вступайте в брак без любви. Брак без любви является расторженным в тот момент, когда он совершается, и кто вступил в брак без любви, тот нарушил закон супружества. Если вы последуете моему закону, как вы нарушите его, когда он велит вам делать то, чего желает ваше сердце, ваша душа? Но если вы соединитесь без любви, вы соединитесь против закона Бога, а этот грех ведет вас к нарушению закона человеческого, к нарушению закона супружества".
Столь же беззаконным является второй из основных законов общества - закон собственности. Каждый человек, по Божескому закону, имеет право пользоваться природой и искать в ней удовлетворения своих нужд; но закон собственности освящает только право исключительного пользования, а это - преступление против Божеского закона. "Хороший закон: не укради и не пожелай добра ближнего твоего. Кто преступает его, тот совершает грех; а я предостерегаю вас от греха, уча вас: люби твоего ближнего, как самого себя, а потому не старайся копить богатства, и тем самым обирать своего ближнего, вводить его в нужду; ибо, помещая свое богатство под защиту закона людского, ты подстрекаешь ближнего твоего согрешить против закона... Кто копит богатства, которые могут украсть воры, тот первый преступил закон, ибо он взял у своего ближнего то, что было необходимо последнему. Кто же тогда вор? Тот ли, кто взял у своего ближнего то, в чем этот нуждался, или тот, кто взял у богатого то, в чем богатый не нуждался?"
Так человеческие законы внесли в мир соблазн и грех. За тем и пришел Иисус, чтобы отменить их, чтобы уничтожить грех и возвестить закон любви. "Мир не осквернен грехом; он совершенен, как Бог, создавший и хранящий его; чисто и всякое создание, живущее во вселенной, ибо его жизнь - любовь Бога, и закон, по которому оно живет - закон любви. Так жил и человек в былое время своей невинности, но познание добра и зла, полезного и вредного разлучило его с самим собою, и он начал жить по законам, созданным им для себя на свою же погибель. И теперь я хочу вернуть человека человеку, уча его снова искать Бога в себе самом, а уже не вне себя; но Бог есть закон любви; и когда мы осознаем это и будем поступать по этому закону так, как бессознательно поступает каждое создание, то будем самим Богом, ибо Бог есть осознание себя".
Итак, пусть человек живет по закону любви, как его учит тому вся природа. Растение рождается из зерна, которое содержит в себе, так сказать, его индивидуальность; это зерно развивается, потом дает плоды, размножается и таким образом идет к своему собственному разрушению, кончающемуся смертью. Следуя тому же ритму, совершается и судьба человека; во время своей юности он восприимчив, эгоистичен; он берет от внешнего мира то, что ему нужно для развития своего физического и духовного "я"; затем, когда он достиг уже зрелости, закон природы побуждает его расточать свои жизненные соки, размножаться, отделяться таким образом от самого себя и жить для других; наконец, когда он весь израсходован, когда он истратил свои силы на пользу другим, тогда круг его индивидуальной жизни совершился и он умирает, возвратив вселенной то, что она дала ему. Необходимо, чтобы человек осознал этот высший закон, управляющий его сознательной жизнью, как бессознательным развитием растения, и чтобы он без напрасного возмущения согласился на естественное и необходимое принесение в жертву своего эгоизма. К тому же природа не сделала эту уступку слишком затруднительной. В первобытные времена, когда патриарх, давший жизнь многочисленному потомству, отягченный годами, приходил к естественному концу своей жизни, он без сожаления засыпал в покое совершенного им долга. Смерть стала ужасной только тогда, когда человек восстал против этого высшего закона всякого конечного существа; когда, достигнув возмужалости, он начал искать удовлетворения уже не в выполнении естественного развития, но в приобретении богатства и могущества, тогда смерть стала казаться ему в конце его жизни грубым разрушением того эгоизма, который хочет продлиться за естественные границы. Но если человек войдет в свою колею, если он, лучше осознав свою судьбу, отречется от эгоизма ради своей семьи и затем - расширяя беспрерывно круг своих привязанностей - ради своей отчизны и, наконец, ради всего рода человеческого, тогда на закате дней своих он может, как древний патриарх, встретить смерть с ясным челом и спокойной душой, ибо будет расставаться с индивидуальной жизнью для того, чтобы жить общей жизнью всего рода.
Таков был новый закон, принесенный людям Иисусом. Но люди, закоснелые во зле, не послушали его. Его судьба в драме Вагнера - это история праведника, который возмущается против упрямства и глупости своих современников, но который, один против всех, необходимо должен погибнуть в борьбе и в конце концов желать смерти не из отвращения к жизни, а потому что смерть есть единственный протест, который одинокий индивидуум может противопоставить торжествующему злу. В "Лоэнгрине" Вагнер воспел тоску одинокого, непонятого артиста, напрасно ищущего у людей доверчивой любви, в которой он нуждался. В "Иисусе из Назарета" он говорит нам о своих реформаторских разочарованиях, о своей скорби при виде лжи и лицемерия, о тяжелом чувстве своего одиночества, о своем бессилии без посторонней помощи возродить пошлое, развращенное общество и о своем желании смерти, которая в мрачные часы казалась ему единственно возможной развязкой в его упорном возмущении против всего общества.
Вагнер уже тогда, когда работал над "Иисусом из Назарета", не надеялся больше на то, чтобы возрождение человечества, замена человеческих законов законом любви могли совершиться мирно. К началу 1849 года надежды, которыми он ласкал себя после мартовских дней, окончательно рассеялись. Он почувствовал себя накануне неминуемой катастрофы, угрожающие признаки которой умножались вокруг него. Друг его Рекель лишился места директора музыки и продолжал в "Volksblatter" все более и более жестокую борьбу против реакционеров. Интендант Литтихау отказался дать представление "Лоэнгрина" в Дрездене и остановил уже начатые приготовления к постановке этой оперы. С конца декабря 1848 г. драмы Вагнера, несмотря на неизменный успех их у публики, исключаются из репертуара. В феврале Литтихау приказал Вагнеру явиться к нему на торжественную аудиенцию, упрекнул его в умышленном недостатке дисциплины среди артистов театра, выразил в самых оскорбительных словах свое неудовольствие относительно того, как он исполняет свои обязанности, и объявил свое намерение подать об этом рапорт королю. Вагнер очень хорошо понимал, что кризис, который готовился для него, был только началом того великого кризиса, которого ждала с минуты на минуту с мучительной тоской Саксония и вообще вся Германия. Ему казалось, что силы прошлого и силы будущего непримиримо поднялись друг против друга, и что с минуты на минуту должен завязаться решительный бой. Под этим впечатлением он написал 8 апреля в "Volksblatter" Рекеля статью, в которой в самом возбужденном лирическом тоне он прославлял пришествие новой эпохи.
"Да! - восклицает он. - Скоро старый мир падет в прах, и новый мир восстанет из его обломков, ибо Великая Богиня Революции спешит на крыльях бури с главой, осененной ореолом из молний, с мечом в одной руке и факелом в другой; взор ее мрачен, гневен, вид ее леденит кровь..." Она сеет ужас в сердцах тех, кто тоскливо хватается за прошлое: царедворцев, чиновников, денежных тузов, государственных людей и трусливых буржуа."Несчастные! - кричит Вагнер этому стаду обезумевших от страха эгоистов. - Поднимите глаза, посмотрите на этот холм: там собрались лучшие из лучших; с трепещущим от радости сердцем ждут они зари нового дня. Смотрите, это - ваши братья, ваши сестры, это - несчастные, обездоленные, которые в жизни знали только одно страдание, до сих пор чужие на этой земле, созданной для радостей; все они ждут революции, которая томит вас; как избавительница, она вырвет их из рук этого жалкого мира и создаст новый мир, в котором все обретут счастье". Это - фабричные рабочие, которые в громадном количестве вырабатывают самые разнообразные предметы и, однако, живут в нищете, потому что продукты их труда принадлежат не им, а богачу, обладателю капитала. Это - крестьяне, которые терпеливо обрабатывают плодородную землю и, однако, мрут с голоду, потому что плоды их труда принадлежат господину, который владеет землей. Все эти обездоленные в жизни, с лицами, искаженными от горя, бледные от нищеты, с восторгом прислушиваются к шуму бури, которая несет им привет Революции.
"Я есмь жизнь, - кричит им Богиня, - жизнь, беспрестанно создающая и беспрестанно преобразующая всякую вещь! Где нет меня, там - смерть! Я - мечта, я - утешение, я - надежда тех, кто страдает! Я иду к вам, чтобы разбить все оковы, которые давят вас, чтобы вырвать вас из объятий смерти и влить в ваши члены новую жизнь. Все, что живет, должно исчезнуть, это - вечный закон природы, условие жизни, и я, вечная разрушительница, исполню этот закон и создам новую жизнь. Я разрушу до основания этот порядок вещей, ибо он рожден от греха, цвет его - нищета, и плоды его - преступление. Я разрушу всякое господство одного человека над другим, мертвых над живыми, материи над духом; я сокрушу силу Сильного, Закона, Собственности. Пусть у человека единственным господином будет своя собственная воля, единственным законом - свое собственное желание, единственным имуществом - своя собственная сила, ибо нет ничего священного, кроме свободного человека, и нет ничего выше его...
Я разрушу порядок вещей, который делит человечество на враждующие народы, на сильных и слабых, на привилегированных и обездоленных, на богатых и бедных; ибо всех их он делает несчастными. Я разрушу порядок вещей, который миллионы человеческих существ делает рабами некоторых людей и этих некоторых - рабами их собственного могущества и богатства. Я разрушу порядок вещей, который отделяет наслаждение от труда и из труда делает бремя, а из наслаждения грех... Восстаньте же, народы земли, восстаньте, несчастные, угнетенные! Отныне есть только два народа: один, который следует за мной, другой, который против меня; первый я поведу к счастью, последний я смету в своем победоносном шествии: ибо я - Революция, я - начало жизни, вечно творящей, единственный Бог, которого признают все существа, который управляет всем, что есть, который сеет повсюду жизнь и счастье".
В таком настроении, за месяц пред дрезденскими смутами, Вагнер ожидал наступления социального переворота, в котором он чаял возрождения человеческого рода. В "Сообщении моим друзьям" он говорит, что в тот момент он оставил всякие литературные и музыкальные занятия, отказался продолжать свой проект реформы дрезденского театра, покидал с утра свой рабочий кабинет и бегал по полям, для того чтобы подавить свое волнение и убить в своем сердце всякое желание вмешаться в бьющуюся в агониях жизнь общества. В то время в Дрездене скрывался от преследований русской и австрийской полиций известный нигилист Бакунин, нашедший себе гостеприимство у Рекеля. Вагнер вступил с ним в сношения, водил его во время своих уединенных прогулок по окрестностям Дрездена и весьма сильно поддался тому удивительному очарованию, которое исходило от этого необыкновенного человека. Бакунин был революционер совершенно другого полета, чем Рекель: могучая воля этого великого агитатора, его пламенный идеализм, его громадный диалектический талант, его мрачная страсть к разрушению, его мечты о свободе и братстве всех людей произвели на Вагнера глубокое впечатление. Со своей стороны. Бакунин, хотя и решил с первого же взгляда, благодаря своему практическому знанию людей, что Вагнер является мечтателем, на которого не следует рассчитывать в каком-нибудь серьезном политическом деле, однако почувствовал к нему настоящую симпатию и проявил необыкновенный интерес к музыке, может быть, даже для того, чтобы угодить ему. Как-то в интимном разговоре с ним он сказал, что "современная цивилизация опротивела ему до того, что он хотел бы сделаться музыкантом", и уже окончательно овладел сердцем Вагнера, когда, прослушав симфонию с хорами, высказал такой афоризм: "Все разрушится, ничего не останется; одна только вещь не пройдет и будет существовать вечно, это - IX симфония Бетховена".
Наконец, в первых числах мая гроза разразилась. Во имя "имперской конституции", которая только что была вотирована франкфуртским парламентом, Дрезден восстал против министра-реакционера, отказавшегося объявить эту конституцию и решившегося силой подавить сопротивление саксонской демократии. 4 мая было объявлено в дрезденской ратуше временное правительство. Но власть его оказалась непродолжительной. Через несколько же дней с помощью прусских штыков, после упорной схватки на улицах, реакционеры победоносно вступили в Дрезден и с немилосердной строгостью расправились со всеми, кто так или иначе принимал участие в движении.
В какой же степени был замешан Вагнер в этом восстании? До этого невозможно добраться среди такой путаницы противоречивых и большею частью подозрительных свидетельств, которые собрали биографы об этом периоде. Его проступки были такого рода, что если бы он предстал перед саксонскими судьями, то неизбежно получил бы осуждение, это - несомненный факт. Его нравственное соучастие с бунтовщиками было известно, да и сам он не делал из этого никакой тайны. Его симпатии к саксонским радикалам и социалистам были известны всему свету; его сношения с Рекелем и Бакуниным, которые оба были осуждены на смертную казнь, могли легко быть доказаны и создавали против него сильное предубеждение, которого одного было достаточно для того, чтобы произнести над ним приговор, как бы ни были слабы вещественные доказательства, представленные для его улики. К тому же нет никакого сомнения, что Вагнер в том состоянии чрезмерного нервного возбуждения, в котором он давно уже находился, не мог New постоянно всецело уходить в ту роль простого зрителя, которую он хотел сохранить за собой. Впрочем, тут нет ничего непонятного. Разве у него не было среди инсургентов лучших друзей? Разве не был убежден он, что дрезденское восстание было прологом к тому всеобщему перевороту, который он предсказывал? Какой соблазн для такого импульсивного человека, как он, выйти из строгого нейтралитета! И что удивительного после того, если он неоднократно показывается в публике с тем или другим главой восстания, если, взобравшись на Kreuzthurm, он дает знаки инсургентам о движении врага, если он раздает саксонским солдатам прокламации, приглашающие их присоединиться к соотечественникам, восставшим против прусаков, или если на прибрежье Одера он обращается с речью к национальной гвардии в Хемнице и убеждает ее оказать помощь дрезденским инсургентам. Впрочем, подобными мелочами и ограничилось его активное участие в мятеже. Правда, враги составили на него самую нелепую клевету: они дошли до того, что обвиняли его в поджоге старого оперного театра в Дрездене и в покушении на поджог королевского дворца.
Лучшим доказательством того, что Вагнер никогда не был серьезно замешан, служит то обстоятельство, что, когда был усмирен мятеж, он весьма искренно был убежден в том, что не совершил никакого противозаконного поступка и что ему нечего бояться саксонского правительства. И если во время взятия Дрездена он находился в Хемнице у своего тестя Вольфрама, то это вовсе не с целью избежать могущих случиться преследований, а просто чтобы выждать в тихом приюте конца смут; он решил вернуться в город тотчас же, как порядок будет восстановлен. К счастью, зять его лучше понял его положение и сейчас же направил его в Веймар, где он и был принят Листом. Он и там сначала не думал прятаться; он прогуливался по городу, ходил в театр и даже выразил Листу свое желание быть представленным ко двору в Веймаре, оставаясь в полном убеждении, что никто не сомневается в его невиновности. Однако 19 мая в "Дрезденском журнале" появилось 16 мая утвержденное официальное приказание о задержании Вагнера, который был обвинен как принимавший участие в мятеже. Самое простое благоразумие говорило ему, чтобы он не предавал себя в руки судей, на беспристрастие которых он с полным правом мог не полагаться. Несмотря на свою, по крайней мере, относительную невиновность, он не избежал бы осуждения, по всей вероятности, совершенно несоразмерного по строгости с теми проступками, которые он совершил; следует даже полагать, что приговор был бы тем более строг, что Вагнер по своему служебному положению в качестве капельмейстера находился в зависимости от двора; он получал жалованье из частных сумм короля, который не раз жаловал его знаками своего благоволения, и потому поневоле был мало расположен к тому, чтобы оказать снисхождение неблагодарному слуге. А так как, к тому же, Вагнер не имел никакого основания идти навстречу политическому мученичеству и подвергнуться долгому пребыванию в саксонских тюрьмах, где, быть может, он расстался бы со своей жизненной энергией и со своим артистическим гением, то и решил бежать. Словом, это было самое благоразумное решение, которое он только мог предпринять при своем положении, и было бы несправедливо видеть в этом некоторое доказательство его действительного участия в мятеже. 24 мая он расстался с Листом в Иене, проскользнул под чужим именем через границу и после четырехдневного путешествия благополучно добрался до Роршаха, уже на швейцарской территории, и оттуда проехал в Цюрих.
Глава III: I. Первые годы изгнания
Состояние духа Вагнера. — Главные теоретические сочинения. — Общий характер теоретических сочинений.
Майский кризис 1849 г. внезапно положил конец политическому апостольству Вагнера и вконец перевернул его внешнюю жизнь. После того, как в продолжение более чем шести лет он был королевским чиновником, занимал в обществе положение, ставившее его на виду у сограждан и если не щедро, то, по крайней мере, очень прилично обеспечивавшее ему существование, он вдруг очутился свободным от всяких обязанностей, от всяких оков, не имея ни кола ни двора; без денег, без средств к пропитанию и с неопределенным будущим, он должен был, чтобы существовать, рассчитывать на щедрость своих друзей, пока не найдутся средства открыть новый источник доходов.
Первое время, однако, он несколько опечалился своим безнадежным положением, но был далек от того, чтобы раскаиваться в прошлом; напротив, он почувствовал себя счастливым от того, что больше уже не капельмейстер. Словно облегченный от непосильной тяжести, он увидел себя освобожденным этой неожиданной катастрофой от всех унижений, от всех притеснений, которые приходилось ему выносить за последние годы своего почти невыносимого пребывания в Дрездене. “Когда, гонимый и преследуемый, я не был более связан никакой осторожностью, никакой ложью, когда я отбросил далеко от себя все желания, все надежды, что привязывали меня к этому победоносному свету; когда я мог во всеуслышание и без стеснений закричать этому свету, притворно заботящемуся и об искусстве, и о культуре, что я, артист, от глубины всего своего сердца презираю его; когда я мог сказать ему, что в его жилах нет и капли крови художника, что его сердце никогда не забьется истинно человеческим чувством, что от всего его существа никогда не изойдет благоухание истинной красоты, — тогда, в первый раз в жизни, я почувствовал себя вполне свободным, здоровым и радостным, хотя и не знал, где нашел бы себе завтра приют, в котором я мог бы свободно дышать небесным воздухом”.
Вагнер ни минуты не помышлял о том, чтобы продолжать свое активное участие в деле политики. Он никогда не упускал из виду артистической миссии как единственной цели своего существования. Дрезденская революция заинтересовала его на время только потому, что он видел в ней прелюдию к тому духовному перерождению, которое, по его мнению, было необходимо для свободного процветания искусства в современном обществе. Когда факты жестоко доказали ему, что он ошибался, придавая чрезмерное значение политическому кризису, свидетелем которого он был, то он тотчас же охладел ко всякой воинствующей политике, для того чтобы всецело отдаться работе художника. При таком положении его участие в дрезденском мятеже вскоре представилось ему, как столь неожиданный и лишенный всякого действительного значения инцидент, что он все время старался забыть о своем положении изгнанного политика.
Месяц спустя после своей эмиграции он просил Листа подать великой герцогине Веймарской мысль войти в соглашение с герцогом Кобургским и принцессой Прусской и положить ему пенсию, которая позволяла бы ему спокойно работать над музыкальными драмами. Сверх того, на следующий день, сообразив, что подобная попытка, несомненно, встретит некоторые затруднения, он снова написал Листу: “Нужно ли уверять еще в том, что совершенно невозможно, чтобы я, наученный последними опытами в Дрездене, снова позволил себе увлечься политическими делами! Это ясно, как день!” И Листу стоило неимоверных трудов дать понять ему, что очень недипломатично — стучаться в те двери, которые хотели выломать, и что “союз высоких особ” задуман другом из области чистой мифологии. Впрочем, поведение Вагнера сделалось вполне корректным. В Цюрихе он жил почти безвыездно в продолжение нескольких лет, избегая всякого сношения с немецкими политическими беглецами. Правда, он вел деятельную переписку с заключенным в Вальдхеймской крепости Рекелем; но в этих письмах он воздерживался от всяких разговоров о политике и делился с узником своими философскими идеями и художественными проектами. От своего прошлого он ничуть не отрекался, но, по совету Листа, избегал “политических сборищ и социалистической галиматьи”.
“Во всех своих делах, во всех своих размышлениях, — пишет в то время Вагнер, — я остаюсь только артистом, и притом всегда артистом”. Чувство, которое с этих пор снова привязывает его к жизни и дает ему силу продолжать борьбу, это — то “непреодолимое желание довершить ряд художественных произведений, которое, — он чувствовал, — живет в нем”. Все подчиняется настоятельной, всецело наполняющей его потребности творчества. Он хотел бы избежать всякого соприкосновения с внешним миром, для того чтобы жить только среди своих художественных грез. Его самое страстное желание было — получить пенсию, которая защитила бы его от нужды, избавила бы его от необходимости стеснять свою свободу и торговать своим творчеством из-за нескольких грошей. Только с крайним отвращением он мирится с мыслью о попытке поставить свои произведения в Париже и не выказывает никакого сожаления, когда эта попытка ему не удается. Он стремится сохранить полную независимость, рискуя впасть в еще большую нищету.
В самом деле, у него нет никаких других средств к существованию, кроме гонорара, который он получает от слушателей за свои литературные и музыкальные труды, и случайных, непостоянных доходов с его драм “Риенци”, “Моряка-скитальца”, “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, успех которых растет и мало-помалу распространяется по Германии благодаря неутомимым хлопотам самоотверженного Листа. Потом, когда этих средств оказывается недостаточно для существования, являются на помощь щедрые друзья. Профессор фортепиано В. Баумгартнер и главный королевский секретарь И. Шульц оказывают ему поддержку в первые недели его изгнания; какая-то незнакомая поклонница, госпожа Лоссо, снабжает его субсидиями; мать одного из его учеников, г-жа Риттер, отдает ему ренту ежегодно с 1851 по 1856 г., между тем как он пишет “Кольцо Нибелунга” великая герцогиня Саксен-Веймарская посылает ему деньги; затем богатые друзья Везендонки предоставляют в его распоряжение маленькую уединенную виллу в окрестностях Цюриха, где он имеет возможность спокойно работать над “Зигфридом” и “Тристаном”. Наконец, Лист в минуты крайней нужды является для него настоящим Провидением и приходит к нему на помощь прямо-таки с пышной щедростью, никогда не позволяя себе своими благодеяниями накладывать на него хотя бы самые незначительные обязательства, никогда не разыгрывая из себя мецената и благородно считая те жертвы, которые он приносит Вагнеру, некоторого рода данью необыкновенному таланту своего друга.
Таким образом, Вагнер вполне мог отдаться художественному творчеству. Жизнь его за первые десять лет изгнания бедна внешними событиями. Он почти не покидает Цюриха, если не считать нескольких коротких — от времени до времени — посещений Парижа, праздничных экскурсий по Швейцарии или на север Италии, наконец, путешествия в Лондон, где в 1855 г. он дирижирует концертами филармонического общества. Он живет в стороне от музыкального и театрального мира; только от времени до времени он устраивает в Цюрихе или концерт, или театральное представление, для того чтобы доставить себе удовольствие — послушать свою собственную музыку. Он не ищет общества. Самые любимые его развлечения — письма, которыми он обменивается со своими друзьями из Германии; сначала с Листом, потом также со своими “верными” из Дрездена: Улихом, Гейне, Фишером, Рекелем; изредка кое-какие визиты Листа или Улиха, которые доставляют изгнаннику короткие минуты счастья, умственного и художественного наслаждения; наконец, приятные сношения с кружком отдельных друзей, как романист Готфрид Келлер, поэт Георг Гервег, филолог Этмюлер, журналист Вилле или молодой Ганс Бюлов, бросивший изучение права, чтобы в цюрихском театре под руководством Вагнера научиться капельмейстерскому искусству.
Со все поглощающей горячностью, порою доходившей почти до болезненного нервного возбуждения, Вагнер за первые десять лет изгнания предался всецело обработке своего великого художественного произведения, отдельные части которого, от “Кольца Нибелунга” до “Парсифаля”, получили в тот момент жизнь или, по крайней мере, начали развиваться в его богатом воображении. Однако он не сразу приступил к выполнению своих драматических проектов. Вопреки сильному желанию, которое он ощутил в себе, лишь только поселился в Цюрихе, — желанию немедленно приступить к делу, — он почувствовал в то время себя связанным как бы какой-то внутренней необходимостью раньше подготовить себя к работе и подготовить также публику к пониманию его будущих драм, а для этого — изложить свои окончательные взгляды на жизнь, на искусство в ряде теоретических сочинений, которые быстро появлялись одно за другим в течение двух лет: “Искусство и революция” и “Художественное произведение будущего” (1849), “Искусство и климат” и “Иудаизм в музыке” (1850), “Опера и драма” и “Сообщение моим друзьям” (1851). Рассмотрим несколько ближе, какие побуждения заставили его взяться за перо.
Его критические сочинения вдохновлены прежде всего желанием заставить публику ясно понимать, каковы необходимые условия осуществления нового, предлагаемого им идеала и, следовательно, также — каковы те заблуждения, которым он объявлял войну. С такой точки зрения они, по существу своему, революционны. Если Вагнер после дрезденских приключений и решил никогда ни в какой политической интриге больше не участвовать, то все же он не отказался от революционного настраивания умов и сердец; совсем напротив. “Художественное произведение, — писал он своему другу Улиху, — не может быть создано теперь же, оно может быть только подготовляемо, а для этого нужно проповедовать революцию, уничтожать и разрушать все, что достойно уничтожения и разрушения. Вот это — наше дело. Остальное же — дело настоящих артистов... А пока нужно только разрушать, — всякое построение было бы поневоле искусственно”. Дело идет к тому, чтобы без сожаления обнаружить недостатки настоящего времени, смело коснуться мечом всего того, что подточено червями, что одряхлело, сорвать личину с лицемерия и эгоизма старого общества, разбить ложных богов, свести к нулю незаслуженную славу, показать бессилие художников настоящего времени во всем его ужасе. Прежде всего надо снести мусор; тогда только — на лоне возрожденного мира — может снова зацвести великое искусство, невозможное теперь в эгоистическом и развращенном мире.
Но Вагнер в своих теоретических сочинениях не ограничивается отрицанием и разрушением; он очень ясно указывает также, каковы должны быть признаки художественного произведения будущего. С такой точки зрения, его произведения кажутся нам менее делом пропаганды, чем монологом артиста с самим собой.
Без сомнения, формулируя законы музыкальной драмы, он задавался мыслью раскрыть глаза публике на настоящие его стремления, столь упорно не признаваемые и искажаемые критикой. Но, в сущности, он писал больше для себя, чем для других. Главною целью, которую он преследовал при сочинении своих драматических теорий, было: приучить самого себя действительно сознавать свой метод сочинения и свои художественные идеи. До 1849 года он был самопроизвольным и только наполовину сознательным художником. В выборе сюжетов, в манере трактовать их он позволял руководить собою почти исключительно тому творческому инстинкту, который был в нем и который управлял им, между прочим, с удивительной верностью. От этого он не меньше почувствовал нужду присоединить в деле художественного творчества к инстинкту и размышление. Гете сравнивал самопроизвольного поэта с сомнамбулой, который в полном сне с поразительной верностью идет своей дорогой и без затруднения переходит опасные места, перед которыми он отступил бы, если бы был разбужен. Одаренный, как Гете, такой интуитивной способностью художника, Вагнер, подобно ему, чувствует настойчивое стремление к ясности. И, продолжая, подобно Гете, смотреть на художественное, интуитивное познавание, как на более высокое, чем познавание теоретическое и умозаключительное, он все же не пожелал быть только “сомнамбулой”, но заставил себя открыть глаза, постичь разумом “для чего” и “почему” во всем том, что он делал в силу своего художественного инстинкта. Короче, говоря словами знаменитого выражения, употребленного им в “Опере и драме”, он захотел быть “сознательным в бессознательном”, der Wissende des Unbewussten.
Еще в 1847 г. писал он одному молодому художественному критику: “Остерегайтесь слишком низко думать о значении мысли. Художественное произведение, вышедшее бессознательно, принадлежит эпохе, отделенной от нашей громадным расстоянием. Художественное произведение в периоде высокой культуры может быть создано только художником, вполне сознательно относящимся к нему. Христианская поэзия средних веков, например, была чисто самопроизвольная и бессознательная; потому-то совершенное произведение и не народилось в то время; — эта слава выпала на долю Гете, на долю нашей эпохи “объективизма”. Только у необыкновенно одаренного гения может проявляться эта удивительная связь сознательного, рассуждающего ума с непосредственной и самопроизвольной творческой силой; потому-то эта связь и является столь редко осуществимой. Но если мы имеем основание сомневаться в том, чтобы гений такого порядка скоро нарождался, то все же должны допустить, что у каждого художника, который действительно прогрессирует в своем искусстве, отныне можно искать более или менее удачного соединения этих двух противоположных дарований”. И с этого момента Вагнер все более и более стремился проникнуться сознанием своих художественных приемов.
Его творчество, предоставленное своему собственному вдохновению, безостановочно с 1848 по 1850 г. создало один за другим серию драматических планов. В 1848 г. он набросал эскиз цикла драм на сюжет легенды о Нибелунгах и о Зигфриде и сочинил одну “большую героическую оперу” — “Смерть Зигфрида”, в которой представил развязку этого грандиозного действия. В то же время он замышлял другую героическую драму о Фридрихе Барбароссе, религиозно-философскую драму о Иисусе из Назарета, “романтическую” и революционную драму о Кузнеце Виланде, классическую драму на сюжет легенды об Ахиллесе. Таким образом, самая плодовитость его гения становилась настоящим препятствием для художественного созидания. Беспрестанным открытием новых мотивов вдохновения, изысканием ощупью по всем направлениям Вагнер рисковал истощить свои силы в бесплодных попытках — вместо того, чтобы осуществить то художественное, законченное по форме произведение, к которому тянуло его всеми силами. Таким образом, он почувствовал себя действительно запутавшимся в своем же художественном творчестве и томился той мыслью, что отдается вдохновению, не зная, куда оно его приведет. Поэт, который находит себе поддержку в окружающей среде, который имеет возможность видеть свои драмы непосредственно на сцене, может без большого риска вверяться своему инстинкту. Если он ошибается, то сам замечает свою ошибку во время представления своего произведения, если же все хорошо, то он получает одобрение публики и критики. Вдали от отечества, не имея непосредственного соприкосновения с публикой и миром искусств и притом будучи в полном разладе с художественными тенденциями громадного большинства современников, Вагнер не мог рассчитывать на тот внешний контроль, который бы удерживал его на истинном пути. От этого он только еще настоятельнее чувствует потребность проникнуться ясным сознанием совершенной им работы, дать разуму возможность понимать и сопутствовать самопроизвольной работе творящего инстинкта, подчинить таким образом поэтическое воображение контролю мысли, которая мешала бы ему блуждать по произволу, и отбросить намерения, заранее осужденные на неуспех. Нужно было, чтобы его разум мог заменить для него публику и критику.
Вагнер понял, что только такой ценой он приобретет полное спокойствие и радостную уверенность в самом себе. И вот со свойственной ему энергией он принялся за работу, но уже без того радостного вдохновения, которое он вкладывал в свои драматические и музыкальные произведения; он писал как бы нехотя, с какой-то затаенной раздражительностью, с сознанием того, что повинуется тяжелой, но неизбежной необходимости. Вот почему его теоретические произведения того времени носят на себе отпечаток чего-то странного, сложного и на первый взгляд нестройно и Вагнер. По какому принуждению, можно сказать это наперед...”
Разбору теоретических сочинений Вагнера мы и посвящаем теперь следующие два отдела настоящей главы.
Глава III: II. Философские идеи Вагнера (1848—1854). Вагнер под влиянием Фейербаха
Влияние Фейербаха. — Влияние революции 1848 г. — Закон необходимости. — Враждебность Вагнера к христианству. —Эгоизм и любовь. — Необходимость революции. — Вера Вагнера в революцию. — Оптимизм Вагнера. — Устойчивость религиозной веры у Вагнера. — Кризис 1848 г. — главным образом интеллектуальный.
Период, заключающийся между 1848 и 1854 гг., является одним из самых характеристических моментов интеллектуальной и моральной эволюции Вагнера. До 1848 года он исповедует, как мы это видели, высоко идеалистическое и сильно подкрашенное пессимизмом христианство. После 1854 года он называет себя адептом шопенгауэровской доктрины, доказывает необходимость для человека отречения от всякого преходящего желания и учит, что человечество может прийти к искуплению, к блаженству только скорбным путем полного отречения. В промежутке между этими периодами религиозного и пессимистического понимания вселенной выступает довольно непродолжительный фазис, когда он проповедует непримиримейший атеизм, прославляет природу, жизнь, любовь, сильно подчеркивает враждебность к аскетическим и христианским идеям и смело провозглашает свою непоколебимую веру во всеобщую революцию, может быть очень близкую, — в революцию, которая еще в этой земной жизни откроет человечеству эру высшего блаженства.
Таким образом, с первого взгляда кажется, что нормальная эволюция религиозных и моральных воззрений Вагнера была пересечена кризисом неверия, которому мы обязаны “Кольцом Нибелунга” и который по прошествии 6 лет кончился сам собой, когда он встретил в произведениях Шопенгауэра полное философское выражение своей настоящей мысли.
Этот кризис был весьма различно обсуждаем. Не принимая в расчет различий оценки, происходящей от чисто субъективных причин — предвзятого решения за или против Вагнера, более или менее живых симпатий к “христианским” идеям или к “языческим”, тенденций оптимистических или пессимистических и т.п. — мы констатируем, что критики разделяются на два лагеря, сообразно с тем, — признают ли они эволюцию мысли Вагнера или же ее единство. Первые опираются на контраст между Вагнером оптимистом, революционером и язычником в 1848 г. и Вагнером пессимистом, роялистом и христианином в шестидесятых и семидесятых годах. Последние, напротив, силятся ослабить этот контраст, уменьшая как можно больше значение революционного кризиса, представляя его как временную ошибку или как недоразумение и указывая на то, что пессимистические идеи Вагнера имеются уже в зародыше в сочинениях революционного периода и что, наконец, он изменился скорее в словесном выражении своей мысли, чем в самой мысли. Как бы то ни было, объяснение этого кризиса 1848-1854 гг. составляет любопытную задачу из области психологии и морали, в данных которой непременно следует строго разобраться.
Все биографы Вагнера соглашаются признать за одну из случайных важных причин этого кризиса влияние, которое с 1848 года оказал на мысли Вагнера философ, еще до сего времени старательно изучаемый, Людвиг Фейербах, автор “Мыслей о смерти и бессмертии” и “Сущности христианства”, известный противник всякой религии, писавший такие часто цитируемые афоризмы, как: “нет религии — такова моя религия; нет философии — такова моя философия”, или еще: “Бог был первой моей мыслью, разум — второй, человек — третьей и последней”. Это влияние многократно было подтверждаемо самим Вагнером в его сочинениях и письмах; он посвящает Фейербаху “Художественное произведение будущего”, обменивается с ним письмами и даже пытается заманить его в Цюрих. Впрочем, он довольствуется тем, что просматривает “Мысли о смерти и бессмертии” и более подробно останавливается в этой книге на главах “Моральное значение смерти” и “Спекулятивный разум и метафизика смерти”, чтобы найти здесь высказанные мысли о любви, о смерти, о всеобщей “необходимости”, об искусстве и т. п., — мысли, столь близко напоминающие те, что развивает Вагнер в “Иисусе из Назарета”, в “Кольце Нибелунга” и в теоретических сочинениях.
Однако следует остерегаться преувеличить ту долю влияния, которую Фейербах мог иметь на идеи Вагнера. В настоящее время известно, что до половины 1850 г. Вагнер из всех произведений Фейербаха познакомился только с “Мыслями о смерти и бессмертии” и, следовательно, написал “Иисуса из Назарета”, набросал “Кольцо Нибелунга”, сочинил “Искусство и революцию” и “Художественное произведение будущего”, не читав главных сочинений философа, который вызывал в нем столь глубокое удивление. Один уже этот факт достаточно показывает, что было бы чересчур странно желать выдавать Вагнера за ученика Фейербаха, и что философские идеи Вагнера, в действительности, возникли скорее в силу внутренней эволюции его мысли, чем вследствие влияния, полученного, так сказать, извне чтением одного философа. Один из критиков, наиболее настаивающих на важности революционного кризиса Вагнера, Г. Дингер, очень хорошо при этом сознает, что Фейербах не был единственным его учителем, и что он, особенно с политической точки зрения, подпал еще под влияние идей неогегельянцев, — Руге, с которым, может быть, он лично познакомился в Дрездене, Штрауса, Бакунина, Прудона, Ламене, Вейтлинга. И в самом деле, нетрудно заметить аналогии между теориями Вагнера и соответствующими теориями социалистов и революционеров 1848 г., хотя нет ничего ошибочнее, как представлять себе Вагнера отвлеченным теоретиком, черпающим идеи из сочинений других теоретиков. Еще раз напоминаем: он — не спекулятивный ум, а интуитивный. Мы полагаем, что он подчинялся, и даже очень сильно, влиянию окружающей среды. Но что реально и прочно запечатлелось в его уме, так это — живое и конкретное зрелище того революционного движения, которое охватывало в то время Европу, это — вид дрезденских смут, частое посещение политических кружков, чтение журналов, сношение с такими людьми, как Рекель, Бакунин и Гервег. Это и были существенные факторы, вызвавшие в нем “интуицию” революции, — интуицию, которая стремилась проявиться у него в двоякой форме — художественных произведений и философских теорий.
Следовательно, теории Вагнера всегда являются плодом усилия перевести более или менее верно свои “интуиции” на отвлеченный язык разума, но никогда они не были прямым следствием других теорий; они являются отражением личных, оригинальных впечатлений, а не воспоминаний более или менее широкой начитанности. У писателей 1848 г., и в особенности у Фейербаха, Вагнер мог заимствовать некоторые формулы, которые казались ему удобными для выражения его мысли. Но эта мысль сама по себе автономна. Под влиянием современных событий она приняла направление, — особую тенденцию, развиваясь всегда по собственным своим законам, но никогда не уклоняясь со своего пути под влиянием какой-нибудь чужой мысли. Если философия Вагнера похожа на философию Фейербаха и неогегельянцев, так это не потому, чтобы он заимствовал у них идеи, а потому, что хотел, подобно им, но вполне независимо, найти формулу для душевного состояния поколения 1848 года.
Так в этой главе философию Вагнера мы постараемся понимать как естественный и самопроизвольный плод гения, который логически развивался под действием его личных опытов и по-своему подчинялся влиянию той смутной эпохи, когда все поколение, дрожа от страха и надежды, ожидало всеобщего разрушения и скорого пришествия нового социального строя.
Реформа, на которую покушался Вагнер в Дрездене, если рассматривать ее самым общим образом, представляется нам реакцией во имя истины, во имя искренности в искусстве и в
жизни против тех условий, которые он считал произвольными и несправедливыми, против тех учреждений, которые казались ему достойными осуждения, потому что были искусственны. Вагнер являлся борцом за “природу” против утонченной и развращенной цивилизации, за живой и непогрешимый инстинкт против отвлеченного разума с его химерическими построениями, за свободную и самопроизвольную человеческую личность против моды, традиции и предрассудков. Вот почему в основе его философии мы встречаем понятие естественной необходимости (Unwillkur), выставляемой высшим принципом всякого бытия и всякой нравственности и противополагаемой всему тому, что условно и искусственно, что является произведением разума и обдуманной воли, — словом, что произвольно (willkurlich).
В самом деле, вселенная существует и развивается, по мнению Вагнера, в силу имманентной и абсолютной необходимости. Бессознательная и слепая природа совершает вечную эволюцию, беспрестанно побуждаемая стимулом Нужды (Bedurfniss), которая есть raison d'etre всякого бытия, всякой перемены, всякого действия. Мир не образовался по воле божества, по предначертанному плану, для осуществления известной цели, а просто потому что иначе не могло быть. Человек не составляет исключения во вселенной; по своему происхождению он ничем не отличается от прочих тварей и подчиняется тем же самым законам, как и они. Когда природа выполнила условия, необходимые для жизни человека, человек явился сам собой, без всякой нужды в творении ех nihilo или во вмешательстве божества — явился как необходимый продукт всеобщей эволюции. Итак, он не есть особенное бытие. Он ничуть не выше окружающей его природы и безрассудно ради первого пренебрегать последней. Точно так же, как и она, он не имеет никакой отдельной миссии: как и она, он подчиняется только закону Нужды, Необходимости; равно как природа существует только для себя, так и человек не имеет иной цели, как только себя. Что характеризует его среди всех существ, так это то, что в нем бессознательная эволюция Космоса делается сознательной. Элементарные силы последовательно развиваются, комбинируются, диссоциируют, не зная и не желая того: человек осознает себя, а следовательно осознает и природу. Вот между прочим все, что он может знать. По мнению Вагнера, как над чувственной вселенной не существует бога, демиурга, который устраивал бы мир и давал бы ему законы, так и для человека нет абсолютной, божественной истины, которая превышала бы чувственную, живую реальность, опыт. Он может быть только более или менее верным, более или менее полным отражением природы; наивысшее стремление его мысли кончается сознанием той имманентной и вечной Необходимости, которая управляет вселенной и которой подчиняется он сам, как и все, что существует: его знание, достигнув своего кульминационного пункта, склоняется пред верховной властью Бессознательного.
Таким образом, Вагнер приходит к непримиримейшему атеизму. Так как вне природы нет ничего, так как мир не обладает смыслом и не подчиняется закону, предписанному всемогущей волей, то всякое религиозное верование может быть только иллюзией, возникшей вследствие несовершенного сознания универсального детерминизма. Бог есть ничто иное, как идеализированный и народным верованием перенесенный на небо Человек. “Религия и легенда, — говорит Вагнер, — являются плодовитым созданием народных верований о природе вещей и человека. Народ всегда имел этот бесподобный дар постигать собственную свою природу сообразно способности восприятия и воплощать эту концепцию в пластических образах. Боги и герои в его религиях и легендах суть конкретные и осязательные личности, в которых гений народа резюмирует для себя свою собственную природу”.
Таким образом, истинная религия для Вагнера, как и для Фейербаха, есть культ Человечества. Исторические религии, на его взгляд, благотворны или вредны, смотря по тому, приближаются ли они более или менее к идеальной религии или же удаляются от нее. Отсюда его восторженные симпатии к античному язычеству. В самом деле, религия у греков была почти ничем иным, как поклонением прекрасной человеческой природе; эллинский ум поместил в центре религиозного сознания народа “прекрасного и свободного человека” и верховный бог греков, представитель воли Зевса на греческой земле, Аполлон, был видимым и идеальным символом самого греческого народа. Напротив, христианская религия является для Вагнера, когда он рассматривал ее с такой точки зрения, печальным и пагубным для благосостояния человеческого рода заблуждением. “Христианство, — поучает он в “Искусстве и революции”, — делает законным земное существование без достоинства, без пользы, без радости и оправдывает его удивительной любовью к Богу. Этот Бог не поставил на земле человека для того, чтобы он вел счастливое существование, сознавая свою силу, как напрасно учат влюбленные в красоту греки, но запер его здесь на земле в ужасной темнице; и если в ней человек почувствовал отвращение к самому себе, Бог приготовит ему за это после смерти славное жилище, где он вечно будет наслаждаться ленивым блаженством”.
Таким образом, христианская религия, предлагая поклонению верующего абстрактного и непостижимого Бога, создала по ту сторону видимого реального мира род какого-то антагонизма между человеком и природой. Она учит человека тому, что мир есть царство зла, запрещает ему под угрозами самых ужасных наказаний отдаваться соблазнам жизни, убеждает его претерпевать на земле все бедствия, все несправедливости, не сопротивляясь злу, не пытаясь улучшить свое положение. Наконец, она представляет смерть не как неизбежное, вместе логическое и моральное заключение всякого индивидуального бытия, но как что-то положительное, как врата вечности, как прелюдию к блаженной жизни; так что сама человеческая жизнь имеет смысл еще только как приготовление к смерти. Христианство развилось в период падения Римской империи. Оно есть естественный плод эпохи общего растления, всеобщего упадка, когда человек потерял всякое чувство достоинства, почувствовал отвращение к материальным наслаждениям, единственным наслаждениям, которые ему оставались, и с унынием и презрением отказался от всякого самопроизвольного усилия, от всякой личной деятельности. Оно не может быть религией, правилом веры и поведения будущего общества.
В самом деле, по Вагнеру, для человека нет другого нравственного закона, кроме закона Необходимости. Человек удовлетворяет свои потребности и, поступая так, выполняет свой удел. У него нет иного назначения, кроме завоевания наибольшей доли возможного счастья и того, чтобы быть человеком в самом высоком смысле этого слова. Но инстинкт понуждает человека, с одной стороны, жить для себя, развивать в возможно большей полноте все свои индивидуальные способности; с другой стороны — любить себе подобных и действовать не только в своем собственном интересе, но и в интересе общества. Между этими двумя влечениями, которые моралисты большею частью любят противополагать одно другому, Вагнер не усматривает устойчивого антагонизма; он не допускает, чтобы одно из них могло быть рассматриваемо как принцип добра, а другое — как принцип зла.
Он считает то и другое одинаково естественными и потому одинаково законными. Он полагает, что альтруистический инстинкт самопроизвольно рождается от инстинкта эгоистического; что человек, вначале эгоистичный и восприимчивый, мало-помалу естественной эволюцией переходит от себя самого к всеобщей любви; что высшая Необходимость, управляющая всем, что существует, бесспорно побуждает его, когда он уже достиг полного развития, мало-помалу отрываться от самого себя: сначала любить женщину, потом детей, потом город, отчизну и, наконец, все человечество. Итак, любовь, по его мнению, столь же естественная потребность, как и эгоизм. Совершенный человек есть вместе с тем совершенный эгоист и совершенный альтруист; и для того, чтобы осуществить в себе самом это гармоническое равновесие двух основных стремлений своего бытия, ему нужно только предоставить действовать природе, всемогущей Необходимости. Таким образом, отсутствие любви (Lieblosigkeit) есть грех против самой природы. Человек, у которого эгоизм переходит за естественные границы, должен делать усилия над самим собою, чтобы побороть альтруистический инстинкт, существующий в каждом создании. Человек “без любви” — не только преступник, но и неполное, аномальное по развитию существо, какой-то страшный и гнусный урод, ужасный образ которого Вагнер дал нам в своем Альберихе в “Кольце Нибелунга”.
Естественный эгоизм и любовь — таковы два великих закона, управляющие человеческой волей. И это — единственное, что законно. Все законы, издаваемые людьми и охотно выдаваемые ими за священные, как закон супружества, служащий основанием семьи, закон собственности, на котором зиждется гражданское общество, все условия и все договоры, все то, что привычно и традиционно, все то, что Вагнер называет “Монументалом”, все эти предписания и все эти запрещения абсолютно не имеют значения пред великим законом инстинкта и необходимости. По словам Вагнера, история мира полна бесконечной борьбы инстинкта с традиционными законами, с “Монументалом”, и всегда инстинкт имеет доводы против законов. Сначала восстает индивидуум во имя инстинкта и в силу непреодолимой “необходимости” (Noth) против общества и его традиций. Но его воля, вначале изолированная, мало-помалу передается другим, и это именно потому, что она не произвольна, а диктуется самой необходимостью. То, что сначала было “необходимостью” для одного, делается таким образом “необходимостью” для многих; в конце концов вся масса инстинктивных, толпа простых, которые в поступках своих не сообразуются с эгоистическими и произвольными предписаниями человеческого разума, а предоставляют говорить в себе голосу природы, одним словом “народ” — чувствует эту “необходимость”. Тогда остается преодолеть сопротивление тех, кто не разделяет волю народа, сопротивление “эгоистов”, у которых естественный инстинкт заглушен неестественными потребностями, ненасытными и тираническими аппетитами роскоши и у которых нет простой и непреодолимой силы естественных потребностей. Впрочем, в исходе этой борьбы между “народом” и “эгоистами” не может быть сомнения. Народный инстинкт, основанный на высшем мировом законе — необходимости, — один только истинен, а потому непреодолим и фатально победоносен. Наконец, в триумфе народа виновник всего этого движения, индивидуум, видит удовлетворение своей потребности. В полном счастье всего общества он находит свое собственное счастье.
Но человечество подходит именно к одному из этих решительных переворотов в истории; оно находится в ожидании революции, причина которой — в восстании “народа” против общества, основанного на эгоизме. Новейшая цивилизация действительно стала невыносимым бременем для человечества.
Христианство, развивая преувеличенный индивидуализм и особенно греша презрением к материальной жизни, способствовало пришествию общества в плачевное состояние. Оно разделило людей на два класса. Одни искренно поверили христианской утопии, сосредоточили все свои мысли на будущей жизни и добровольно приняли бедственное существование на земле; другие воспользовались к выгоде своего эгоизма смирением и отречением истинных христиан, чтобы создать себе армию рабов: они держат пролетариев у себя в зависимости по жестокому закону капиталистической системы, без благодарности эксплуатируют их способность к труду, немилосердно давят их, чтобы обеспечить самим себе все наслаждения бесполезной роскоши. “С чувством глубокого ужаса мы видим, — говорит Вагнер, — в нынешней хлопчатой мануфактуре наивернейшее воплощение духа христианства: к выгоде богачей Бог сделался промышленностью, и это божество сохраняет жизнь бедного труженика-христианина до того дня, когда созвездия коммерческого неба милостиво покажут необходимость позволить ему отправиться в лучший мир”. Итак, общество всецело основано на чудовищной несправедливости. Пролетарий осужден на существование каторжника, на бессмысленную, одуряющую работу, делающую для него невозможным всякое интеллектуальное и эстетическое развитие. С другой стороны, у богача неестественная и деморализующая потребность роскоши заняла место естественного инстинкта, управляющего человеком по закону необходимости; и эта жажда роскоши управляет всей нынешней жизнью, господствует в нынешнем государстве, в отвлеченной науке, в современном искусстве... Но из самого излишка зла сейчас же рождается добро. В слоях “народа”, где естественные инстинкты сохраняются во всей своей силе, день ото дня растет грозная оппозиция против этого теснящего общества с его жестокими законами, с его испорченными вкусами, с его отжившими традициями. Все усилия “эгоистов” окажутся бессильными подавить неудержимое и роковое давление этой массы, подчиняющейся естественной необходимости. Скоро пробьет час великой Революции, которая возродит человечество, ибо бедняка освободит от рабства, богача оторвет от праздности, провозгласит свободу развития каждого человека по естественному закону. На развалинах старого христианского мира воздвигнется великолепное здание общества будущего.
Что это будет за новое общество — Вагнер не хочет говорить. В самом деле, по его мнению, было бы бесполезно теперь преждевременно останавливаться на какой-нибудь программе будущего общества. Именно то и должно характеризовать его, что оно не будет произвольным созданием разума, искусственной утопией, вылившейся из головы теоретика и навязанной извне людям, но явится естественным и необходимым плодом всеобщей эволюции. Итак, оно устроится само, когда придет время, когда человек отвоюет себе утерянную свободу и снова будет поступать по закону любви. “Нужно только на время отказаться от нынешних мнений и убеждений, ясно указать все недостатки капиталистического строя, промышленного режима, ничтожность мишурного искусства, которое процветает теперь на лоне нынешнего света, разбить все преграды, которые мешают пришествию нового порядка вещей, основанного на свободе и любви. Если бы мне дали землю, — говорит Вагнер, — с тем, чтобы организовать на ней человеческое общество, имея в виду его благосостояние, я мог бы сделать только одно: предоставить ему полную и совершенную свободу организоваться самому; эта свобода проявила бы себя сама, если бы было уничтожено все, что противится ей”.
Эта-то вера в близкую революцию и руководит в эту эпоху всей мыслью Вагнера и служит, по нашему мнению, главной причиной тех столь значительных — по крайней мере с виду — перемен, которые происходят в его теориях. В продолжение нескольких лет он подлинно держался той идеи, что всеобщее разрушение скоро покажет себя —сначала во Франции, где пришествие “социалистической республики” казалось ему неизбежным, потом во всей Европе. “Необъятное движение распространяется повсюду, — писал он в то время, — то буря европейской революции; весь мир примет в ней участие, и кто не поможет ей своим движением вперед, тот усилит ее своим противодействием”. Он жил в ожидании эпохи всеобщего счастья, когда возрожденный, свободный от всяких пут человек снова станет способным понимать великое искусство и “желать” его. Та же надежда на непосредственное счастье в здешней жизни отражается во всех его взглядах на решительное действие и делает некоторым образом “мирскою” его мысль. Царство идеала, которое он видел в таинственной дали в эпоху “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, теперь кажется ему совсем близким, потому что человек может найти к нему доступ при помощи всеобщей революции. Но коль скоро царство идеала — от мира сего и для достижения его достаточно немного веры и энергии, то нужно вести войну с теми доктринами, которые проповедуют человеку аскетизм и отречение от земных надежд, потому что они отсрочивают вступление человечества в землю обетованную; отсюда — нападки Вагнера на христианство, в былое время вызывавшее в нем глубокое удивление, как религия отречения. Наконец, если человек призван быть богом на земле и в этом мире обрести блаженство, то нужно ли выдумывать Бога на небе и новую жизнь за гробом?
Но если мы вместе с критиками, которые признают эволюцию идей Вагнера, охотно допускаем, что его идеи в дрезденском периоде действительно разнятся от идей революционного кризиса, то, с другой стороны, мы признаем, что равным образом и в “унитарной” гипотезе есть доля истины, и что эти изменения не настолько глубоки, как это думается с первого раза.
Говорят, что Вагнер в эпоху “Тангейзера” и “Лоэнгрина” склонен к пессимизму, тогда как с 1848 года он — оптимист. В действительности же было бы ошибочно думать, что между двумя этими периодами есть какое-то очень резкое противоречие. Выше мы видели, что “Тангейзер” может быть истолкован как революционная пьеса, и что Вагнер даже в ту эпоху, когда был склонен к христианской концепции жизни, не осуждал безусловно искания счастья на земле. С другой стороны, в самом разгаре оптимистического периода он никогда не забывал красоты отречения. В самом деле, его теория любви, если строго разобраться в ней, заключает в себе полное отречение от эгоизма. Человек, который действительно любит, — учит он, — должен отрешиться от самого себя ради жены, ради детей, ради человечества; он должен позабыть о себе для других, без раздумья расходовать все имеющиеся у него жизненные силы; и когда, отдав все, он весь уже исчерпан, когда он уже не более, как пустой и бесполезный сосуд, никому не нужный и занимающий только место на земле, тогда он должен, в конце концов, безропотно принести в жертву свое “я” на пользу всеобщей Жизни и охотно отдаться смерти, смерти полной, без надежды на будущую жизнь, — смерти, которая разрушит таким образом последнюю цитадель эгоизма, последнюю преграду к совершенному погружению индивидуума в лоно вселенной.
Это, очевидно, не пессимистическая, в собственном смысле, теория мира; в самом деле, человек, по Вагнеру, должен расставаться с жизнью и встречать смерть не с чувством утомления и отвращения к жизни, но с чувством полной удовлетворенности, так как он знает, что его роль здесь на земле окончена; смерть не есть благо в себе, как учит христианство и философия Шопенгауэра, но просто естественное и нормальное заключение жизни, которая есть единственное положительное благо. Практически вагнеровский герой-оптимист всегда должен приходить в конце своего существования к отрицанию воли к жизни, точно пессимист, проникнутый сознанием всеобщего страдания, или христианин, убежденный в суетности благ этого мира. Мы увидим сейчас, что Вотан в “Кольце Нибелунга” кончает желанием уничтожения совершенно так же, как проклятый Голландец, Тангейзер или Тристан, хотя из-за других побуждений. Так что, в конце концов, если правда, что Вагнер в первых своих произведениях уделяет место жизнерадостности — что, полагаем, уже доказано нами — то в эпоху, когда он проповедует оптимизм и создает лучезарную фигуру юного Зигфрида, он не перестает с тою же интенсивностью чувствовать грустную красоту отречения.
Точно так же между Ватером-христианином до 1848 г. и Вагнером-атеистом после 1848 г. нет такого сильного и полного контраста, какой можно было бы предполагать. Прежде всего заметим, что до 1848 года Вагнер был скорее религиозным, чем христианином в специальном смысле. Он от всего сердца верил, что “в мире есть моральный смысл” его воодушевляло глубокое убеждение, что человек выполняет свое назначение и находит истинное счастье, если только беспрестанно стремится к идеалу, никогда не позволяя себе уклониться со своего пути в сторону тех материальных наслаждений и пошлых удовольствий, которые предлагает современная жизнь. В христианской доктрине он видел удивительный символ такого религиозного верования; но он не чувствовал при этом себя обязанным строго и в буквальном смысле признавать все положительные догматы, возведенные разными христианскими исповеданиями в символ веры. События же 1848 года ничем не затрагивают его веры в идеал, его безусловное презрение к пошлым наслаждениям, которые предлагает нынешний мир.
Что изменилось, так это — та идея, которую Вагнер видит в содержимом своей веры. Христианство уже не представляется ему символом, способным выражать это содержимое, и он пишет об исторической роли христианства целые страницы, которые позднее сам же будет считать несправедливыми. Но самые чувства его не изменились. Наилучшее доказательство в пользу такого утверждения находим в его переписке с Листом. В ответ на полное отчаяния письмо Вагнера, в котором последний писал ему о своем глубоком отвращении к сложившейся для него жизни и о навязчивых мыслях о самоубийстве, Лист пишет своему другу: “Твоя сила является в то же время твоей слабостью, обе они неразрывно связаны между собой и будут причиною твоих мук и страданий... до того дня, когда, упав на колена, ты предашь их, и ту и другую, уничтожению в вере! Обратись к вере, и ты обретешь счастье! Смейся как хочешь горько над этим чувством; я не могу заставить себя не видеть в нем спасения, не считать его для себя желанным. Через Иисуса Христа, через безропотное страдание в Боге мы обретем избавление, искупление”.
На эти увещания, носящие на себе отпечаток самого чистого христианского чувства, Вагнер отвечал следующим письмом, большую часть которого, несмотря на его длинноту, приводим целиком, потому что оно является настоящей исповедью, ясно раскрывающей состояние души великого артиста в то время:
“Как ты мог подумать, что твои щедрые излияния вызовут во мне усмешку! Формы, под которыми мы ищем утешение в наших бедствиях, сообразуются с нашим существом, с нашими потребностями, с характером нашей культуры, с нашим более или менее художественным чувством. Кто настолько лишен любви, чтобы думать, что единственно законная форма открыта ему? Разве только тот, кто из побуждений личной потребности никогда не придавал формы своим надеждам и своим верованиям; для кого, как для животного с притупленными чувствами, эта форма является навязанной окружающей средой, точно чуждое требование; кто, следовательно, не обладает собственной внутренней жизнью и для утверждения своего пустого и глупого бытия, в свою очередь, хочет навязать другим как наружное правило веры тот самый постулат, который был навязан ему извне. Кто стремится, надеется и сам верит, тот охотно радуется вере и надежде другого; всякий же спор об истинности формы может быть поэтому только пустой придиркой! Видишь, друг мой, я тоже имею твердую веру, которая заставляет меня клеймить политиков и правоведов: я имею веру в будущее человеческого рода и основываю ее просто на непреодолимой потребности.
Мне удалось рассмотреть сущность явлений в природе и истории с такой любовью и свободою духа, что я не нашел в них ничего злого, если не считать отсутствия любви. И это отсутствие любви, в свою очередь, я мог объяснить себе только каким-то блужданием, которое от естественного неведения приведет нас к ясному сознанию единой и высшей необходимости любви. Приобрести это сознание и приложить его на практике — вот мировая задача; сцена, где это сознание со временем должно будет передаваться в действиях, — ничто иное, как земля, как сама природа, ибо от нее исходит все, что дает нам это блаженное знание. Для человеческого рода отсутствие любви есть состояние страдания: это страдание в настоящее время держит нас в могучих объятиях и тысячью жгучих ран мучит твоего друга. Но смотри: через него-то мы и познаем удивительную необходимость любви; мы взываем к ней, мы приветствует ее со страстной интенсивностью, единственно возможной в этом скорбном испытании. И вот таким образом мы приобрели силу, о которой естественный человек не имел никакого представления; и эта сила, сделавшись достоянием всех людей, положит когда-нибудь на земле начало существованию, которое никто не захочет променять на совершенно ненужную тогда загробную жизнь. Ибо человек будет счастлив: он будет жить и любить. А кто пожелал бы оставить жизнь, когда он любит?..
Сегодня, правда, мы страдаем! Сегодня мы — жертва отчаяния и безумия, без веры в будущую жизнь. Но я верю в будущую жизнь — это я только что доказал тебе, — и если она за пределами моей жизни, то по крайней мере она не превышает того, что я могу чувствовать, мыслить, осязать и понимать: ибо я верю в людей —и ни в чем другом не имею нужды”.
Как видно, в глубине души Вагнер остается верующим, скажу даже — религиозным, несмотря на его воинствующий атеизм. Он верит в природу, в человека, в будущее счастье человечества так же, как христианин верит в Бога и в будущую жизнь: и вот почему в чувствах он является вполне согласным с Листом, несмотря на явную противоположность их идей. В сущности, кризис 1848 г. был для Вагнера главным образом интеллектуальным, следовательно, довольно поверхностным и не достиг самой глубины его существа. Вагнер на некоторое время поверил — а это-то и характеризует состояние его духа от 1848 до 1854 г., — поверил, что идеал, к которому стремился он, близок от него и может с минуты на минуту осуществиться. Поэтому я не думаю, чтобы с точки зрения чувства нужно было полагать какое-либо различие между Вагнером до и Вагнером после 1848 года.
Его религия, его вера в идеал не поддавались ни перед какими ударами, его воля постоянно и неизменно преследует одну и ту же цель. В его жизни не видно ничего, что было бы похоже на “превращение”. Он ни на один момент не знал сомнения, тоски по утраченной вере, опасений за избранный путь. Что главным образом изменилось в нем, так это — происходившее в нем самом толкование бессознательной жизни его духа. Для выражения своей новой веры, воспламененной чаянием революции, он до того радикально изменил форму и символы, что получился вид почти полной внутренней метаморфозы. Его письмо к Листу убеждает нас, что он не придавал существенного значения тем метафизическим образам, в которые он облекал свою мысль; может быть, с ранних пор в нем была интуиция того, что они представляют собою несовершенное выражение фактической действительности, и что он должен будет переменить их.
Глава III: III. Идеи Вагнера об искусстве
Теория музыкальной драмы
Доктрины Вагнера об искусстве и в особенности о музыкальной драме изменились меньше, чем его философские или моральные теории. Окончательно они выясняются в его уме к 1849 году и к этому времени принимают почти законченную форму. Между “Художественным произведением будущего” (1849) или “Оперой и драмой” (1851), с одной стороны, и “Письмом к Ф. Вилло” (1860), с другой, нельзя отметить никакой существенной разницы, хотя в промежутке автор от оптимизма перешел к пессимизму и Фейербаха бросил ради Шопенгауэра. Однако это не значит, что его мысль оставалась идентичной самой себе в продолжение десятилетнего периода. Как мы знаем, Вагнер вовсе не был спекулятивистом, с помощью голого разума воздвигающим грандиозное здание из отвлеченных теорий. Он выработал свою эстетику не для того, чтобы руководиться ею в своих художественных намерениях или составить для себя программу, но просто чтобы дать возможность разуму исследовать и проверить работу своего творческого воображения. Он всегда и прежде всего остается артистом.
Следовательно, у Вагнера не теория имеет влияние на художественную практику, но скорее практика определяет теорию. Большая часть его крупных критических сочинений, особенно самое важное из них, “Опера и драма”, были написаны в тот момент, когда он носил в голове план “Кольца Нибелунга” — произведения, которое казалось ему музыкальной драмой par excellence, последней степенью расцвета самой высокой художественной формы, какую можно себе представить. Без всякого парадокса можно сказать, что “Опера и драма” есть прежде всего теоретическое оправдание “Кольца”. Здесь Вагнер дает, например, предписания относительно выбора драматических сюжетов или еще относительно употребления аллитерации, — предписания, к которым сам уже не будет строго применяться в последних своих произведениях. Однако же в целом, несмотря на некоторые изменения в деталях, общий план вагнеровской драмы после 1849 г. заметно не изменился. Итак, сейчас в этой главе мы постараемся в главных чертах набросать художественное учение Вагнера, особенно имея в виду то, чтобы сделать как можно более понятным общий дух, вдохновлявший его, и показать, как идеи Вагнера об искусстве связываются с его общим мировоззрением. Мы ограничимся пока изложением — без критики — понятия музыкальной драмы, какой хотел Вагнер, предоставляя себе в нашем заключении указать главную критику, которая была создана на вагнеровские идеалы.
1.Греческая трагедия.
Взгляд, брошенный на всеобщую историю, открывает нам, по мнению Вагнера, что в течение всеобщей эволюции человечество раз уже поднялось до совершенного художественного произведения, вышедшего из деятельного и вдохновенного сотрудничества целого народа. Греческая драма во времена Эсхила и Софокла вполне осуществляет идеал той “коммунистической” драмы, о которой грезил и которую желал восстановить для своих современников и будущих поколений Вагнер.
Эта драма, прежде всего, если рассматривать ее материал, не искусственное и субъективное создание гениального индивидуума, а некоторым образом плод сотрудничества артиста с народом, нежный и великолепный цветок самого вдохновенного гения Греции.
Сюжеты греческих драм классической эпохи все были взяты из области мифа или героической легенды. А миф богов или героев есть плод поэтического воображения народа. Первобытный человек, поставленный лицом к лицу с грандиозным и ужасающим зрелищем природы, ищет объяснения этих явлений, истинный смысл которых ускользает от него, и в конце концов относит их к вещам, воображаемым вне самой природы, к таинственным и могущественным существам, которых он считает похожими на него, и наделяет их теми же чувствами, теми же страстями, которые испытывает он сам. Следовательно, миф есть простое и сжатое представление о природе — так, как оно слагается в воображении народа. Драма же есть ничто иное, как упрощенный и сжатый, в свою очередь, творческой фантазией артиста миф, отнесенный этой операцией к своим существенным элементам и предлагаемый в живой форме всему народу.
Поэтому греческий артист являлся истолкователем целого народа; от него не требовалось быть “оригинальным”: его миссия состояла в том, чтобы точно определять и вызывать к жизни под прекрасной и возможно более выразительной формой видения, носившиеся в уме его современников; и последние, действительно, интересовались таким произведением, которое было также и их произведением. Наиболее прекрасные, наиболее порядочные, наиболее образованные становились актерами и таким образом брали на себя честь непосредственно участвовать в сотрудничестве с поэтом; что касается массы публики, то она доказывала свой интерес, стекаясь толпами в громадный амфитеатр, где в исключительных и торжественных случаях давались драматические представления. Таким образом, в жизни греческого народа трагедия приобрела особенное значение. Она далеко не была пустым развлечением, чем является театр в наше время, но она была самым высоким, самым полным художественным выражением религиозного идеала Греции; по своим началам, как и по своему духу, она была истинно религиозным актом, даже более важным для истории религиозной идеи Греции, чем те церемонии культа в собственном смысле, которые справлялись в храмах.
Еще и с другой точки зрения греческая драма была “коммунистической” она являлась результатом не только братского содействия людей, но и братского содействия искусств. В самом деле, различные искусства связаны друг с другом тесными узами и могут достигнуть своего полного расцвета только с помощью сердечного согласия, внутреннего соединения. Они так же, как люди, выполняют свое назначение только тогда, когда подчиняются закону любви. Греческая же драма, как лирическая поэзия, от которой она получила начало, призывает к содействию все отдельные искусства. В трагедии Эсхила или Софокла поэзия, музыка и танец соединяются на очарование всего человека через посредство чувств, зрения и слуха, а также и через посредство разума. И благодаря этому плодотворному соединению каждое из искусств достигает максимума своего действия.
Танец в греческой драме не является только рядом пластических поз, ритмических движений, лишенных всякого определенного смысла, но возвышается до пантомимы и таким образом в разнообразных выразительных позах передает всю гамму чувств, все страсти и все желания, которые благодаря слову делаются доступными для разума и которые заключает в свои стихи трагический поэт. В свою очередь, музыка дает танцу ритм и передает на своем волнующем языке стихи поэта. Поэзия же, вливая в музыку и в танец душу, сознательную мысль, в свою очередь, не может обойтись без содействия этих двух искусств под опасением потерять всякое соприкосновение с живой действительностью; будучи предоставлена только своим средствам, она оставалась бы отвлеченной и бесцветной, не имела бы прямого воздействия на чувства, следовательно не имела бы истинного бытия.
“Стихи Орфея, — говорит Вагнер, — конечно, не вызвали бы в диких зверях благоговейного молчания, если бы поэт удовольствовался поднесением им печатной бумаги. Нужно было, чтобы в их ушах раздавался непреодолимо трогательный голос, чтобы пред их алчущими добычи глазами открывалось во всей своей прелести человеческое тело, двигающееся с созвучной смелостью, — если, укрощенные, они узнали в этом человеке нечто иное, чем лакомый кусок для желудка, узнали предмет, стоящий уже не того только, чтобы его грызть, но и слушать его, смотреть на него, и если они сделались способными оказывать некоторое внимание его моральным сентенциям”. Что дает высокую цену греческой трагедии, это — то, что она является не только “литературным” произведением, обращающимся к мысли и воображению, но живым искусством, непосредственно воздействующим на чувства своей, некоторым образом, материальной красотой. Даже зодчество, и то способствует этому удивительному ансамблю, когда пение и танцы, сопровождавшие богослужение, приобрели характер слишком художественный для того, чтобы можно было исполнять их среди чисто природного пейзажа, зодчий превратил лес — святилище богов — с его аллеями деревьев в греческий храм с рядами колонн. А когда из лирического искусства выросла трагедия, тогда расширенный, открытый для всего народа храм стал театром, — зданием, приспособленным к этой новой форме богослужения и по своей стройной красоте достойным того, чтобы в его стенах появилось образцовое произведение.
2. Эволюция музыки: гармония, контрапункт, симфония. — Эволюция поэзии: роман. Шекспир, Расин.
За периодом “коммунизма” следует эра разъединения, за блестящим расцветом эллинского искусства — две тысячи лет упадка, искания на ощупь и заблуждений. Главную причину этого упадка, по мнению Вагнера, кажется, надо искать в общей эволюции человеческого духа. В греческую эпоху человек еще очень близок к природе; он смотрит на нее глазами художника, добровольно подчиняется закону необходимости, которая говорит в нем голосом инстинкта; он еще весьма близок к первобытному периоду великих созданий народного духа, религии, мифа, естественного государства, языка. Между тем с веками стройное единство естественного человека начинает разрушаться. За периодом интуиции и инстинкта следует период размышления. Отвлеченный разум стремится овладеть им и горделиво подняться над чувствами. Благодаря разуму он хочет под чувственной оболочкой различить самую сущность вещей. Вместо того, чтобы созерцать, он анализирует, и природа, которую в былое время он воспринимал в ее единстве, с этих пор для него распадается на множество, все возрастающее от отдельных мелочей. Он отбрасывает, считая их за ребяческие, те бесхитростные объяснения вселенной, которыми удовлетворялся инстинктивный человек.
Таким образом, космогония приходит к физике и химии, религия превращается в теологию и философию, мифы делаются исторической хроникой, естественное государство дает начало государству политическому, зиждущемуся на договорах и на законе; наконец, искусство превращается в науку и эстетику. Везде, во всех областях, естественное уступает место искусственному, единство — разрозненности. Та же всеобщая эволюция влечет за собой распадение целого и живого художественного произведения, осуществленного греками в апогее их цивилизации. Пластические искусства — архитектура, скульптура и живопись, танец, пантомима, музыка, поэзия удаляются друг от друга, и каждое из них эгоистично хочет блеснуть в свою сторону и замыкается в горделивом и бесплодном одиночестве. В “Художественном произведении будущего” Вагнер набросал историю каждого из этих искусств за все века и показал, как, с одной стороны, та специализация, которая с самого начала кажется способствующей отдельному развитию каждой ветви искусства, в действительности сопровождается глубоким падением, и как, с другой стороны, искусства, отделившись каждое в свою сторону, в настоящее время снова стремятся сблизиться, пополниться друг другом. Не имея возможности разбираться в подробностях, развивающих эту идею, мы удовлетворимся, по крайней мере, изложением его идей относительно эволюции тех двух искусств, которые входят главными факторами в цельное произведение лирической драмы: музыки и поэзии.
Материал, над которым оперирует музыкант, — это звук; бесконечные оттенки его по высоте, тембру или силе являются адекватным и естественным выражением тех бесчисленных оттенков, которые приобретает чистая эмоция, чувство, рассматриваемое в самом себе, независимо от всех объясняющих его причин, от всех характеризующих его частных случаев. Область звуков Вагнер уподобляет огромному океану, простирающемуся до бесконечности, без определенных границ, без закрепленных контуров; их закон — гармония. Гармония — îтвлеченная наука о сочетании звуков между собой. “Она поднимается снизу вверх, как вертикальная колонна, при помощи соединения и умножения родственных между собою звуков. Непрерывный ряд колонн такого рода, следующих одна за другой и вертикально воздвигнутых, — вот единственно как можно понимать абсолютное гармоническое движение в горизонтальном направлении. Желание придать красоту этому движению в горизонтальном направлении чуждо чистой гармонии: в деле красоты она знает только игру своих звучащих колонн. Она незнакома с искусством изящного расположения их последовательности во времени, потому что это дело ритма. Бесконечное разнообразие этой игры — вот неистощимый источник, откуда с бесконечным самодовольством гармония черпает силу беспрестанно являться под новой формой. Жизненное дыхание, которое оживляет и вызывает эту вечную и произвольную перемену, — ничто иное, как самая душа звука, неисповедимое и всесильное желание, вечно живущее в глубине человеческого сердца. В царстве гармонии нет, следовательно, ни начала, ни конца: так расточается вечно идентичный самому себе жар сердца, в котором горит желание, не имеющее определенного объекта и не знающее, где оно зарождается...”
Чтобы продолжать сравнение Вагнера — бесконечный океан гармонии соединяет два континента: континент танца и континент поэзии. В самом деле, танец дает музыке ритм, т. е. закон, который устанавливает последовательность движений во времени. С другой стороны, поэзия в соприкосновении с музыкой произвольно рождает мелодию: так инстинктивное искусство народа создает вне всяких научных законов и в силу непогрешимости инстинкта свои простые песенки, в которых чувство естественно и одновременно передается при помощи поэзии и музыки, и стих сам собою развертывается в мелодию.
Когда, после исчезновения греческой трагедии, музыка начала стремиться к освобождению себя от танца и поэзии, она самою силою вещей должна была все более и более ограничиваться чистой гармонией. Под влиянием христианства, враждебного материи и чувствам, музыка, сделавшись органом чистого христианского чувства, одухотворилась и почти совсем освободилась от своих чувственных элементов, — мелодии и ритма. В христианской вокальной музыке слова, взятые большею частью из литургии, теряют на деле всякую цену, всякое свое значение и таким образом становятся бессильными создать мелодию. Совершенно отделенная от танца, на который христианство смотрело, как на нечестивое и окаянное искусство, музыка стала почти исключительно гармонией. Между тем, когда нужно было так или иначе установить во времени последовательность гармонических модуляций, христианское искусство взяло у искусства танца ритмические элементы, которые были необходимы для него. Ритмические фигуры, лишенные всякого живого смысла, доведенные, так сказать, до положения простых геометрических формул, должны были дать гармонии какое-то подобие жизни; они развивались, комбинировались между собой вовсе не в силу внутренней необходимости, но чисто внешним и механическим образом, для того чтобы искусственными средствами дать гармонии ритм, без которого она не могла совсем обойтись. Таким образом получили начало педантские и сложные законы контрапункта, которые Вагнер называет “произвольной игрой искусства с самим собою, математикой чувства, механическим ритмом эгоистической гармонии”.
Вся история музыки от христианской эпохи вплоть до наших дней повествует, по мнению Вагнера, о постоянном стремлении затерявшихся в этом беспредельном океане христианской гармонии артистов возвратиться к берегам, снова стать на ноги, снова обрести ритм и мелодию и выйти из той неопределенности, что тяготела над ними. Лирические композиторы с ожесточением ударились в погоню за мелодией, но без окончательного успеха. Одни начали искать простой народной песни, этого свежего и благоухающего цветка полей, и погубили его, пересаживая его в искусственно подогретую почву новейшего лирического искусства. Другие погнались за химерой чисто “музыкальной” мелодии, пытались искусственно добыть природный цветок Volkslied с его формой и цветом — поэзией — и с его ароматом — мелодией; это были, по словам Вагнера, “дистилляторы искусственных благовоний”, которыми бальзамировались цветы из бумаги, бархата и шелка. Третьи, наконец, постарались верно скалькировать музыку со стиха, не заметив того, что поэмы, которые предлагались им, были “литературные” произведения, предназначенные довольствоваться самими собой и вовсе не задуманные в духе музыки, и, следовательно, точно перелагая их на музыку, они могли дать только род музыкальной прозы, неизящной и некрасивой.
Симфонисты ближе подошли к цели и сделали в музыке громадные успехи. Их исходный пункт — ритмованная мелодия танца, наделенная гармоническими основами и исполняемая на инструментах. “Эта мелодия танца также сделалась вкусной добычей схоластического контрапункта: он освободил ее от послушания ее господину, реальному и пластическому танцу, и заставил ее двигаться и танцевать по своим правилам. Но в многосложный механизм этого танца, усовершенствованного школой контрапункта, проникло теплое дыхание настоящей народной мелодии, и тотчас же этот бесплодный организм оживился, сделался эластичным, гибким телом, расцвел в прекрасный шедевр человеческого искусства: таким художественным произведением в совершенной степени является симфония Гайдна, Моцарта и Бетховена”. В руках этих великих артистов, и особенно величайшего среди них — Бетховена, — эта мелодия, отделенная от слов поэзии, но украшенная зато всеми богатствами гармонии, сделалась средством бесподобной силы выражения, языком удивительной гибкости, способным с удивительной интенсивностью раскрывать все тайны “внутреннего человека”, выражать светлую радость удовлетворенного и успокоенного сердца, взывать к небу с грустью и отчаянием одолеваемой сомнением души. Но в силу самой своей природы этот удивительный язык был осужден всегда выражать только состояние души, никогда не имея силы возвыситься до того, чтобы говорить о самом моральном акте.
“Абсолютная музыка не может, не впадая в чистый произвол, только с помощью своих средств достичь ясного и точного описания человека, определяемого своими чувствами и своим нравственным инстинктом; несмотря на свой удивительный прогресс, она всегда остается <чувством она аккомпанирует моральному акту, сама же никогда íå является актом; она может изложить одно за другим чувства, состояния души, но не может показать, как одно данное состояние души необходимо разрешается в другое; ей недостает нравственной воли”. С неудержимой энергией, с неутомимой настойчивостью Бетховен стал проход — слова.
“Последняя симфония Бетховена, — заключает Вагнер, — освящает освобождение музыки, своими средствами поднявшейся до коммунистического искусства (allgemeinsame Kunst). Она — человеческое евангелие будущего искусства. За ней более возможен прогресс, ибо после этой симфонии остается появиться только совершенному художественному произведению будущего, коммунистической драме; Бетховен выковал тот ключ, который откроет нам этот храм”.
Так же, как и музыка, поэзия не достигла одними только своими средствами, без содействия музыки и танца, осуществления совершенного художественного произведения. После блестящего расцвета коммунистического искусства в Греции поэзия также начала стремиться к эгоистическому отделению себя от других искусств, к жизни в самой себе и для себя. Но через это она потеряла всякое непосредственное соприкосновение с чувственной реальностью и стала “литературой”. Она перестала услаждать зрение и слух и непосредственно обращаться к чувствам, ограничиваясь лишь возбуждением воображения через посредство мысли. Вместо того, чтобы быть живым образом мира, она была не более, как описанием природы и человека. Она стала, так сказать, каталогом музея, вместо того чтобы быть самой картинной галереей. “Так поселилась она, одинокая и угрюмая, при мерцающем свете дымной лампады, в глубине мрачной комнаты, и этот женский Фауст, усталый от прозябания в своем ученом, покрытом пылью и червями кабинете, получил отвращение к вечному плетению бесплодных мыслей, к постоянному пичканию себя идеями и схемами; он жаждет броситься в жизнь, быть настоящим человеком, созданием из плоти и костей, — жить среди других людей”.
Литературная форма, которая становится на место греческой трагедии и характеризует период разобщения искусств, есть роман. В то время, как драма есть главным образом изображение индивидуума, роман прежде всего — описание среды; и этого капитального различия, по мнению Вагнера, достаточно для того, чтобы жанр романа считать прямо низшим. “Драма, — говорит он, — исходит от внутреннего к внешнему, роман от внешнего к внутреннему. Драматург имеет точкой отправления простую, легко понимаемую среду, и от нее восходит до изображения развития все более богатой индивидуальности; романист же, устремив силы на то, чтобы взять среду сложную и трудную для понимания, уже истощившись, впадает в описание такого индивидуума, который, будучи беден сам по себе, обладает отдельным характером только в той обстановке, среди которой он живет. В драме автономная и мощная индивидуальность обогащает окружающую ее среду; в романе среда должна давать немного материала пустой индивидуальности.
Таким образом, драма показывает нам самый организм человечества, выставляя индивидуальность существенной чертой породы; роман же, напротив, описывает механизм истории, благодаря которому общие черты породы становятся существенными у индивидуума. Поэтому также творческая деятельность является органической в драме и механической в романе. В самом деле, драма позволяет нам видеть человека; роман же показывает нам лишь гражданина; первая открывает пред нами во всей полноте человеческую природу, второй указывает оправдание скудости той же самой природы в государстве; следовательно, драматург творит в силу внутренней необходимости, романист — под импульсом внешнего побуждения”.
В конце средних веков, в эпоху Возрождения, в литературе, как и в музыке, ясно замечается обратное движение к “коммунистическому” искусству. Поэзия из литературной и повествовательной, какою она была, снова становится жизненной: в это время появляется разговорная драма. Шекспир доводит ее до высшей степени совершенства: он собирает и сжимает в одно драматическое действие длинное и растянутое историческое или романическое повествование, и это действие он разыгрывает с труппой актеров пред глазами публики.
Таким образом, его искусство действует непосредственно на чувства. Но это искусство — изумительно по глубине, потому что Шекспир более, чем кто-либо из его предшественников или преемников, сумел дать впечатление самой жизни в ее объективной реальности. “Его драмы являются столь верным изображением мира, что в артистическом воспроизведении идеи невозможно различить в них субъективной стороны поэта, и в особенности невозможно определить эту сторону с помощью литературной критики; поэтому также его драмы рассматривались как произведения, так сказать, сверхчеловеческого гения и изучались почти как чудеса природы великими немецкими поэтами, пытавшимися объяснить генезис этих удивительных произведений”. Таким образом, Шекспир занимает исключительное место в истории поэзии; его нельзя сравнивать ни с одним артистом, за исключением Бетховена. “Если, окинув взором мир действующих лиц, созданных Шекспиром с той необыкновенной рельефностью, которую он умел придать всем характерам, мы попытаемся резюмировать общее впечатление, полученное от этих произведений нашим внутренним чувством, и если, с другой стороны, сравним с этим шекспировским миром мир музыкальных мотивов, созданных Бетховеном, вместе с их определенностью и их неотразимой силой эмоций, то мы должны будем констатировать, что эти два мира точно наложимы один на другой, что содержания их абсолютно идентичны и еще, что они представляются вращающимися в совершенно различных сферах”.
Однако драма — так, как понял ее Шекспир — с точки зрения формы представляла важный недостаток. Искусство сценической постановки было еще столь примитивно, что великий драматург не чувствовал необходимости постараться воспроизвести ту обстановку, среди которой развивалось действие его пьес. Сцена его театра окаймлялась коврами. Чтобы пополнить недостающие декорации, он обращался к воображению зрителей: легко меняемая всякий раз, как то заблагорассудится, надпись указывала место, где происходило действие. Драма не вполне была еще осуществлена, потому что развивалась в чисто идеальных и абстрактных рамках. Сверх того, в виду той особенности, которая позволяла ему бесконечно разнообразить место действия, Шекспир не чувствовал потребности упрощать завязку своих драм, сводить ее к небольшому числу существенных мотивов.
Следовательно, с такой точки зрения его пьесы остались историей или романом в действии. При театральной технике того времени его драмы являются бесподобным шедевром; но самая эта техника была несовершенна и не замедлила, в самом деле, сделать большие шаги вперед. Этот успех в технике должен был стать началом соответствующего успеха в разработке самих драм. Но до сих пор не нашлось нового Шекспира для того, чтобы создать драматическую форму, приспособленную к новейшему искусству сценической постановки.
Во Франции драматическое искусство получило направление совершенно противоположное тому, какого оно держалось в Англии. Будучи народным у наших соседей, оно было аристократическим у нас. Но державные зрители пренебрегли деревенской сценой Шекспира. “Тогда комедиантов заставили играть в роскошном зале торжеств, где они должны были устраивать свою сцену, не производя больших перемен в декорациях. Таким образом, единство места сделалось одним из основных законов драмы”. Это единство места, возведенное в догмат от имени плохо понятых правил Аристотеля, оказало важное влияние на судьбу трагедии. Чтобы не менять сцены, французский драматический поэт поневоле должен был перенести действие в собственном смысле слова за кулисы, оставить на сцене только разговор и дать таким образом вместо драмы серию образцов ораторского красноречия.
По той же причине французские трагики должны были отказаться от употребления на сцене сюжетов, заимствованных из романа или истории, слишком сложное действие которых не согласовалось с игрой при одной декорации; они оказались вынужденными взять у древнеклассической драмы не только ее форму, но и ее сюжеты и испытать таким образом искусственное возрождение античной драмы, переделанной, однако, на новый лад и тем самым деформированной. Если драма Шекспира органически развивается из романа и исторической хроники, то трагедия Расина обязана своей формой, по мнению Вагнера, тем рамкам, в которых она разыгрывалась; и эта форма, в свою очередь, определила содержание, которое вкладывалось в нее. Классическая трагедия как плод ненормального развития есть, следовательно, лишь продукт неестественного и потому неспособного к жизни искусства.
Новейшие поэты Германии, даже наиболее великие — как Гете или Шиллер, — могли только колебаться между двумя противоположными полюсами драматического искусства, между Шекспиром и Расином. Они всеми силами старались — хотя без определенного успеха — соединить могучую жизнь шекспировской драмы с красотой формы расиновской трагедии. Но никто из них не пришел к решению этой невозможной задачи. И Вагнер заключает: “У нас нет драмы, и мы не можем иметь ее. Наша литературная драма столь же разнится от истинной драмы, сколь фортепиано может разниться от симфонии человеческих голосов; в нынешней драме благодаря усовершенствованной литературной технике достигают некоторого вида поэзии, — точно так же, как на фортепиано, с помощью сложного механизма, достигают некоторого вида музыки; только у такой поэзии нет души, у такой музыки нет тела”.
3. Критика современной оперы. — Опера — эгоистическое произведение.
Между тем в середине XVI века в Италии нарождается новая художественная форма, более сложная, чем литературная драма, — опера, которая с первого взгляда, кажется, осуществляет тот идеал коммунистического искусства, о котором мечтал Вагнер. Музыка, сводимая в продолжение всех средних веков к бесполезным хитростям контрапункта, с этого времени начинает проникаться сознанием своей экспрессивной мощи; артисты упражняются в насколько возможно верном записывании различных эмоций человеческой души и смело берутся за вопрос о связи музыки с поэзией; они задаются в своих стремлениях сознательной целью — отыскать утраченное искусство древнегреческих трагиков, произведениям которых только что вернуло славу Возрождение. Плодом этого нового движения является лирическая драма, которая с самого своего появления на свет находит себе роскошный приют во дворцах правителей в Риме и особенно во Флоренции и вскоре распространяется не только по всей Италии, но и по всей Европе.
В первой части “Оперы и драмы” Вагнер с большой тщательностью исследует эволюцию оперы от ее итальянских начал вплоть до той сложной формы, которую она приняла в XIX веке у Мейербера и его подражателей. У нас не хватает места, чтобы следовать за ним в его длинном историческом изложении и делать обзор тех аргументов, на основании которых он стремится показать, что ни в один из моментов своего развития опера не осуществила полностью внутренней связи музыки с поэзией, — той цели, к которой должна стремиться современная драма. Мы ограничимся изложением в кратких чертах его главной критики, направленной на новейшую итальянскую и французскую оперу. Для того, чтобы хорошо понять смысл реформы Вагнера, важно, в самом деле, знать, как он смотрел на произведения своих непосредственных предшественников и на каком основании он считал необходимым совершенно порвать с теми традициями, которым они следовали.
Основная жалоба Вагнера на нынешнюю оперу заключается в том, что она далеко не осуществляет того слияния поэзии, музыки и танца, которого должна добиваться лирическая драма, что она есть только незаконное и основанное на сделке произведение, род компромисса между тремя искусствами, которые, вместо того чтобы проникать и оплодотворять друг друга, силятся в своем соединении друг с другом сохранить — каждое для себя — свое независимое положение.
Прежде всего композитор и либреттист тянут каждый в свою сторону. Музыкант — он вообще главное лицо в союзе — обязывает поэта снабжать его известным количеством лирических положений, годных для музыкальной иллюстрации; ему нужен предлог к тому, чтобы заставить петь его главные темы по одиночке или несколько сразу, — предлог, чтобы ввести хор или дать оркестру развернуть свои средства; вследствие этого либреттист видит себя вынужденным пожертвовать интересами своего сюжета, развивая пьесу совсем не согласно с требованиями драматической логики, но сообразуясь с требованиями композитора: здесь он должен обкорнать такую-то существенную часть действия, потому что она не дает материала для музыкальных развитий: там ему нужно, вопреки всякому правдоподобию, напротив, продлить те или другие положения, чтобы дать музыканту время развернуться в свое удовольствие.
В другой раз, напротив, либреттист, вопреки своей доброй воле, затрудняет музыканта, — словом, нет ни одной драмы, в особенности ни одной исторической драмы, которая бы не представляла там или здесь плохо подходящих или совсем неподходящих для музыкального выражения положений; для того чтобы историческая завязка, хотя бы упрощенная, оставалась все же понятной, почти невозможно избежать повествований о фактах, изложений обстоятельств, доставляющих композитору весьма неблагодарный материал; ему приходится придумывать какой-нибудь более или менее банальный речитатив, который бы сопровождал слова поэта, подобно тому, как — мы только что это видели — поэт старается подыскать текст, который бы мог служить для музыканта основанием его развитий. Что касается третьего искусства в союзе искусств, то оно не оказывает никакой помощи остальным искусствам: только в каждой опере для него берегут такое пустое место, внутри которого ему позволяется развернуть, как оно захочет, все присущие ему прелести; здесь музыкант ограничивается лишь обозначением ритма; что касается поэта, то он предоставляет ему свободу делать то, что оно сочтет за лучшее.
Танец, соединяемый некогда с поэзией в драме Софокла, освобождается в современном балете: и вот он — вне опеки. Но дорого платится он за эту пагубную независимость, потому что нынешняя танцовщица не более, как бездушный механизм. Все, что есть в ней живого, сосредоточивается в ее ногах и руках, которые служат ей балансиром. Ее лицо, некогда умевшее выражать глазами физиономии всю гамму чувств и страстей, застыло ныне в стереотипном выражении приятной любезности: она улыбается, предлагая свое тело вожделению всех, она постоянно улыбается деланной улыбкой, которая говорит о ее бесконечном самодовольстве.
Короче сказать, основной недостаток нынешней оперы, по мнению Вагнера, — тот, что композитор, либреттист, певец и танцор являются эгоистичными и завистливыми товарищами, которые вместо того, чтобы честно сотрудничать в драме, стараются только блеснуть каждый в свою пользу и в договоре тщательно разграничивают область своей собственной деятельности. “Чтобы сохранить за собой первенство, музыка жалует танцу столько-то минут, в продолжение которых Итак, опера — произведение крайне эгоистическое, и с таким именем она является художественным символом нынешнего света. Это — то самое зло, которое, по мнению Вагнера, терпит в настоящее время общество и искусство. Все отдельные лица, которые сотрудничают в опере, от музыканта и поэта до декоратора и костюмера включительно, имеют в виду свои личные интересы, удовлетворение своего эгоистического тщеславия раньше всякой заботы об общем деле.
Но это отсутствие любви, эта Lieblosigkeit — только частная форма той религии эгоизма, которая составляет несчастье современного общества. Когда общественные нравы будут изменены, когда революция сломит несправедливый режим, который тяжестью висит над всей Европой, когда царство любви водворится на место злобы и зависти, тогда и опера добровольно уступит место истинной музыкальной драме. Равно как обыкновенная опера есть отражение действительного света и получает от этого света свое raison d'etre, так и великое дело искупления, полное обновление человечества наступит наряду с пришествием коммунистического искусства.
4. Определение музыкальной драмы. — Действие: история и миф. — Действие, превращенное в “естественное чудо”. — Роль поэта в музыкальной драме. — Поэтическое выражение действия. — Соединение поэзии с музыкой. — Происхождение мелодии. — Роль музыки в драме: оркестр. — Оркестр музыкально передает жест. — Оркестр выражает предчувствия и воспоминания. — Соединение поэзии с музыкой в драме.
Итак, мы переходим к положительной части произведения Вагнера, подготовленной и выведенной отрицательной частью и критикой. Как должно народиться коммунистическое художественное произведение? Каким образом различные искусства должны соединиться, чтобы дать музыкальную драму будущего? Каждый человек, следящий за каким-нибудь совершающимся на его глазах событием, получает сложную массу различных впечатлений, интуицию более или менее ясную, более или менее полную, смотря по степени развития его чувств, его эмоционной способности и разума. Артист отличается от большинства людей прежде всего ясностью интуиций, на которые он способен; потом — способностью закреплять свои интуиции в художественных произведениях и сообщать их таким образом себе подобным.
Впрочем, не необходимо, чтобы каждый артист был способен воспроизводить интуицию во всех ее видах, во всей ее сложности. Один более способен чувствовать и воспроизводить зрительные впечатления, другой превосходно рисует эмоции музыкой, для третьего же более всего имеет значение интеллектуальная сторона интуиций. Но высшее художественное произведение необходимо будет полным (интегральным) воспроизведением интуиций; это снова говорит за то, что совершенное художественное произведение есть драма, ибо драма является единственной художественной формой, которая обращается ко всему человеческому существу, к его чувствам, равно как и к его уму, и которая, следовательно, способна воспроизводить интуицию адекватным образом.
Драма, — будет ли она при этом произведением одной исключительно одаренной личности или же результатом сотрудничества нескольких артистов-специалистов, по мнению Вагнера, не есть, следовательно, отдельная ветвь искусства, жанр среди других жанров: это — высшая художественная форма, это — живой синтез отдельных искусств, из которых каждое достигает своего полного расцвета только в соединении с другими искусствами, только в общем соединении сил ради цельности действия. Задача, которую должен преследовать нынешний артист, состоит, следовательно, в том, чтобы создать такое художественное произведение, которое было бы для нового времени тем, чем была греческая трагедия для эллинского мира.
Как же возникнет эта драма? Для упрощения задачи мы можем оставить пока в стороне все те искусства, которые только осуществляют для чувств драматическую концепцию: искусство актера, передающего действие мимикой; искусство декоратора и машиниста, приготовляющих сценическую постановку и т. д. Сведенная к своим существенным границам задача о происхождении лирической драмы предлагается в таком виде: как поэзия и музыка могут соединить свои силы так, чтобы не противоречить друг другу, чтобы не накладывать просто один эффект на другой, но чтобы при помощи внутренней и плодотворной связи достичь результатов, которых они не могли добиться, пользуясь каждая отдельно своими частными средствами.
Посмотрим сначала, какую роль будет играть в такой ассоциации поэзия.
Главная задача поэта — прежде всего установить порядок в драматическом действии. Он один в состоянии выполнить это поручение, потому что музыкант с помощью собственных средств, своего искусства не способен высказывать ничего другого, кроме чувств. Напротив, поэт, который располагает языком и обращается к разуму и воображению, может излагать действие, описывать его ход, точно определять его мотивы. Только для достижения намеченной им цели он не должен обращаться исключительно к мысли, но через посредство мысли должен приводить в движение самую чувствительность. При изложении действия он не может поступать, как философ или историк, которые сводят все к возможно ясной логической связи идей. То, что он должен воспроизводить, не есть, в самом деле, отпечаток, который событие кладет на спекулятивный ум человека, но живой образ, вызываемый этим событием в уме инстинктивного человека. Он не должен стараться описывать событие так, как оно есть в действительности, или, точнее, — так, как оно открывается анализирующему и размышляющему уму, а должен изображать его так, как оно произвольно и необходимо, без всякого абстрактного мышления является естественному человеку, поставленному лицом к лицу со зрелищем вещей. Но первобытный человек выражает свои идеи о вселенной в форме мифов; он населяет мир сверхъестественными существами, которых он уподобляет себе, полагая их одаренными разумом, чувством, волей. Артист поступит так же: он также создаст мифы или же воспользуется для своих сочинений мифами, порожденными народным воображением.
На самом деле история не может быть благоприятным для драматурга материалом, и легко видеть почему. В самом деле, история как наука появляется тогда, когда человек вместо того, чтобы просто отдаваться своим впечатлениям, начинает анализировать их, искать истины за тем, что он видит. Она не открывает пред нами естественного человека, вечно человеческой сущности событий, но предлагает те частные виды, в которых появляется человек за все время своей эволюции; она описывает нам произвольные и случайные произведения его разума. Отсюда тот условный и случайный характер, который, как мы уже видели, является общим для всех исторических повествований и делает последние малопригодными для употребления поэта, творящего в духе музыки.
Инстинктивный человек в присутствии человеческих событий создает мифы и легенды, но не пишет истории. Желая воспользоваться для драмы историческим сюжетом, поэт, следовательно, должен был бы подвергнуть историю деформации, аналогичной той, какой подверглись бы реальные факты, отразившись в инстинктивной душе народа. Но такое превращение, которое имеет в виду освобождение истории от ее случайного характера, почти во всех случаях совершенно невозможно. Напротив, повествования мифические или легендарные являются бесконечно более благоприятным материалом для драматурга.
В самом деле, в этих повествованиях труд приспособления, которому должен подвергнуться реальный факт, чтобы стать поэтическим материалом, в большей части уже совершен без вмешательства со стороны поэта. Мифы не носят на себе клейма строго определенной исторической эпохи; дела, о которых они повествуют, — “дела давно минувших дней”, совершаются где-то очень далеко, в умершем прошлом; герои, которых они воспевают, слишком просты и легки для изображения на сцене, они живут уже в воображении народа, который создал их, и достаточно нескольких определенных штрихов, чтобы вызвать их; их чувствования — произвольные элементарные эмоции, искони волновавшие человеческое сердце; это все — души совсем юные, примитивные, носящие в самих себе принцип действия, у которых нет ни наследственных предрассудков, ни условных мнений. Вот какие герои, какие повествования годятся для драматурга.
Драматическое действие, притом какого бы рода оно ни было, во всяком случае должно удовлетворять двоякому условию: с одной стороны, оно должно быть достаточно важно и в виду этого изображать человеческую жизнь в одном из ее характеристических моментов; с другой стороны, оно должно обладать наибольшей простотой, ибо слишком сложное действие не может произвести впечатления на чувствительность. Таким образом, поэт должен будет принять на себя двойной труд: сначала рассмотреть действие, о котором он хочет трактовать, в его отношениях ко всем человеческим событиям и установить те сложные отношения, которые могут быть у него с другими явлениями.
На самом деле действие — разве только оно лишено всякого значения и потому непригодно для драмы — никогда не бывает изолированно: оно участвует в громадном сцеплении причин и следствий; это-то сцепление поэт и должен постараться ясно представить себе во всей его сложности, на всем его протяжении. По окончании такой работы анализа ему останется выполнить обратную работу — работу синтеза. Когда он рассудочно воспримет содержание драматического действия и когда, таким образом, получится интеллектуальное изображение его сюжета, тогда его дело — совершить превращение этого интеллектуального изображения в чувственное, представить сюжет в форме, которая могла бы произвести впечатление на чувствительность зрителя. Для этого нужно, чтобы он сжал его, свел его к существенным данным, не уменьшая, однако, его значения и интереса. Нужно (если следовать выражению Вагнера), чтобы необычайное действие, которое пленяло бы ум грандиозным зрелищем совокупного ряда явлений, представленных в красивом расположении, он превратил в “естественное чудо” (Wunder), которое бы произвело на инстинктивного человека впечатление, соответствующее тому впечатлению, какое произвело это действие на человека интеллектуального.
Отсюда мы видим, что когда Вагнер рекомендует поэту мифические сюжеты, то он отнюдь не думает советовать ему отступить назад, к прошлому, искусственно создать себе примитивную душу. Объяснять это подобным образом значило бы очень плохо понимать его мысль. Вагнер вовсе не восстает против тех громадных успехов, которых достиг человеческий ум; он отнюдь не является врагом науки и истории и вовсе не видит своего идеала в первобытном и диком звере, у которого разум еще не освободился от инстинкта, в любезном для Руссо “bon sauvage”. Он только хочет, чтобы все новые приобретения ума были введены в наше чувство.
Раньше мы видели, как Вагнер представляет себе всеобщую эволюцию: сначала человек является созданием инстинкта; потом он становится рассудочным существом, старается управлять собою при помощи разума и знания; но знание, достигнув высшей степени развития, приводит к оправданию инстинкта, в котором проявляется закон мировой необходимости. Поэт, так сказать, должен быть штрихом, соединяющим инстинкт с разумом: он должен усвоить себе последние результаты человеческого знания и мудрости и преобразить эти результаты так, чтобы сделать их доступными для инстинкта. Это-то Вагнер и разумеет, говоря, что цель всякой поэзии — “полное воплощение замысла в художественное произведение, переложение идеи в эмоцию”. Таким образом, в драме он видит язык, на котором зрелый возраст лучше всего может дать понять себя юности и сообщить ей о результатах своего опыта.
Юноша, вступающий в жизнь, бессознательно руководится естественным законом своих инстинктов и в увлечении деятельностью он не всегда бывает в состоянии справедливо оценить свои поступки и поступки других. Человек сложившийся, наученный жизнью, проникся сознанием той всеобщей необходимости, которая действует в инстинктивных созданиях и проявляется в делах юношества; возраст, открывая ему закон любви и научая его отрешаться от самого себя, дает ему спокойствие, необходимое для того, чтобы с проницательной справедливостью судить о каждом явлении в жизни. Таким образом, он будет в состоянии представить юношеству верное изображение его бессознательной деятельности. И юношество, остающееся глухим к наставлениям, направленным к его уму, позволит убедить себя живой эмоцией, исходящей от изображенной драматическим поэтом картины: так оно научится лучше познавать себя и в то же время через сочувствие проникать в мысль других.
Следовательно, поэт, превращающий природу в миф и в создании драматического действия применяющий истины, познанные разумом, к понятиям инстинкта, совершает работу столь же славную и, может быть, более полезную, чем ученый. Поскольку он является посредником между юношеством и зрелым возрастом, постольку он создает симпатическую связь между природой и человеком. “Он спрашивает природу, — говорит Вагнер, — и она ему отвечает. Не поймет ли природу скорее он в этой беседе, чем тот, кто рассматривает ее через микроскоп? В самом деле, последний узнает от природы только то, что ему бесполезно знать; напротив, первый научится от нее тому, что в состоянии высшего подъема всего его существа является для него необходимым; и так он приобретет знание природы, бесконечно пространное и глубокое, знание живое, которого не может достигнуть самый обширный ум. В этот момент человек любит природу, он облагораживает ее, берет ее себе в наперсницы, заставляет ее принимать участие в самых высоких эмоциях человеческой души, — и физическое бытие его имеет свои корни в бессознательной эволюции самой природы”.
Раз драматическое действие выбрано и отнесено к своим существенным мотивам, остается найти необходимое выражение, чтобы верно и живо передать его. Равно как содержание действия должно быть не только понятно для ума, но и прежде всего доступно для самого инстинктивного человека, так и форма, в которой представляется это действие, должна облекаться, так сказать, в конкретную красоту, воздействующую не только на мысль или воображение, но также и на чувства. Но поэт, если он предоставлен одним только средствам своего искусства, не может найти этого живого выражения для своей драмы. Материал, которым он располагает, — язык, особенно в настоящее время стал уж слишком отвлеченным. В первобытную эпоху, когда разум и инстинкт сливались, язык и пение соединялись в то, что Вагнер называет первобытной мелодией (Urmelodie). С помощью этой мелодии, подчеркиваемой жестами и выражением лица, естественный человек передавал свои чувства вместе со своими мыслями; и такое инстинктивное и самопроизвольное проявление его мысли обладало зараз и доступным уму смыслом, и импонировавшей чувствам музыкальной красотой.
Но равно как ум во всеобщей эволюции постепенно отделялся от инстинкта, так и язык отделялся от мелодии. Вместо “первобытной мелодии” у нас есть теперь, с одной стороны, — система слов, которые не имеют уже сами по себе никакой чувственной красоты и суть только отвлеченные знаки, искусственно связанные с известными понятиями нашего ума, а с другой стороны, — ряд звуков, которые приводят в движение чувства, не вызывая при этом никакой определенной идеи в нашем уме. Между “абсолютным языком слов” и “абсолютным языком звуков” не существует никакой необходимой связи. Они независимы друг от друга, и действия их даже не могут быть наложены друг на друга; поэтому совершенно напрасно было пытаться данный текст положить на музыку или сочинить слова на данную музыку. Слово передает мысль, музыка — чувство, но мысль не передается звуками и чувство словами. Так что, в конце концов, иллюзорно воображать, что есть какая-то естественная связь между словом и музыкой.
С другой стороны, не менее известно, что язык тяготеет к музыке, как и музыка к языку. Выше мы видели, что Бетховен всю жизнь старался дать своим музыкальным композициям определенное и понятное чувство; но, с другой стороны, мы констатировали, что музыкант, предоставленный самому себе, не может создать мелодии. Область музыки — гармония: в связи с танцем музыка приходит к ритму. Следовательно, музыкант может изобретать различные ритмы, может без конца развивать или варьировать данную мелодию. Но сам он не в силах создать мелодии с помощью собственных средств своего искусства, установить без посторонней помощи ритмованную последовательность звуков, составляющих музыкальную “фразу”. Однако и поэт не более музыканта достигает удовлетворительного осуществления своих замыслов. Правда, стихи его обладают удовлетворяющим ум смыслом, но они лишены всякой выразительности. Они не производят никакого непосредственного действия на чувствительность. Замысел поэта является обнаруженным, очерченным, но не осуществленным. Поэзия толкает и возбуждает дух, но она никогда не может удовлетворить его вполне. Сознавая то, чего ей недостает, она попыталось присвоить себе некоторые музыкальные элементы. С помощью хитростей метрики и рифмы поэт постарался придать своей мысли подобие ритма и подобие гармонии. Но эти условные и произвольные приемы решительно бессильны придать разговорному языку истинно музыкальное значение. Таким образом, в конце концов, поэт является все так же неспособным построить мелодическую фразу, как и музыкант.
Один лишь поэт-музыкант преуспеет там, где по необходимости не имеют успеха поэт и музыкант.
Если мы станем рассматривать инстинктивные произведения народного искусства, то заметим, что первоначальный танец есть ничто иное, как действие, передаваемое мимикой; по большей части он изображает нежную и страстную историю двух влюбленных; это действие, передаваемое жестами танцора, комментируется мелодией танца и песней (Lied), распеваемой на эту мелодию. Те же самые элементы встречаются в музыкальной драме. Любовное влечение, изображаемое мимикой танцора, со своими психологическими и сентиментальными усложнениями становится драматическим действием; это действие изображается мимикой и, так сказать, “танцуется” на сцене актером. Драматическая симфония есть музыкальная передача этого действия, драматическая поэма — поэтическая передача его, точно так же, как “народная песня” (Volkslied) и ее мелодия есть музыкальное и поэтическое выражение народного танца. Таким образом, драматическая мелодия не является музыкальным переложением драматической поэмы, как допускает это Глюк и его школа, но она комментирует сценическое действие точно так же, как и сама драматическая поэма. Следовательно, между поэзией и музыкой нет непосредственного сообщения: и та и другая суть оригинальные передачи одного и того же драматического действия, изображаемого на сцене мимикой.
Эти две передачи дивно пополняются друг другом, потому что каждая из них говорит именно то, чего не может высказать другая. В то время, как одинокий поэт остается поневоле отвлеченным и истощает свои силы в бесплодных попытках полностью выразить эмоции действующих лиц, — поэт, сочиняющий в духе музыки, знает, что для выражения того, чего не может выразить поэзия, у него имеются бесконечные музыкальные средства, и он может замолчать, ибо чувства, которых нельзя передать стихами, свободно польются в волнах мелодии и гармонии. Так же и симфонист в совместности с драматургом, без боязни сделаться непонятным, может удалиться от простых форм музыки танца, чтобы свободно отдаться своему вдохновению и изображать самые сложные состояния души и самые разнообразные оттенки чувств, ибо в своем предприятии он всегда встретит поддержку со стороны поэта. “Кинься без страха в средину волн океана музыки, — говорит ему его товарищ. — Пока мы пойдем рука об руку, ты никогда не выйдешь из сферы того, что более всего доступно человеку. В самом деле, благодаря мне ты всегда останешься на твердой почве драматического действия; и это действие в тот момент, когда оно появляется на сцене, есть самая непосредственно понятная поэма в свете. Дай смело развернуться волнам твоей широкой мелодии, чтобы сплошным потоком лилась она через все творение. Ею ты скажешь то, о чем я молчу, потому что один ты можешь сказать это, и в молчании я скажу все, ибо я поведу тебя за руку”.
Вот — происхождение мелодии, этого общего создания поэта и музыканта. Поэт, пренебрегши хитростями метрики и рифмы, позаботится исключительно о том, как бы придать своей мысли возможно более живую и конкретную форму. Равно как драматург сводит действие к его существенным элементам, откидывая все то, что является незначительным и лишним, условным и случайным, так и поэт должен будет возможно более сжать словесную передачу своей мысли. Он упразднит все пустые слова, не имеющие эмоционного содержания, все отвлеченные термины, составляющие механизм речи. С точки зрения выражения, как и с точки зрения действия, в музыкальной драме должно иметь силу только то, что является вечно человеческим, одинаково доступным для ума и для сердца. Такая поэзия, где мысль заключается в нескольких всенеобходимых, всесильных словах, необходимо вызывает музыкальное выражение.
Музыкант принимается за работу именно в том месте, где оставил ее поэт, и ведет ее до конца. Поэт сжал и упростил, он свел громадное количество разрозненных элементов, случайных, интересных только для ума фактов, в одно драматическое действие, способное производить впечатление на самого инстинктивного человека; он передал это действие насколько возможно общечеловеческим, простым и сильным языком. Но здесь его власть кончается: он может обращаться непосредственно только к уму, но не действует на чувство. Следовательно, он может выражать лишь весьма несовершенным образом эмоционное содержание своей драмы; хорошо объясняя уму, как и почему зарождается и развивается то или другое чувство, он не способен передать словами это чувство. Тогда-то и вступает музыкант: он развертывает во всей полноте эмоционное содержание упрощенного действия созданной поэтом сжатой поэмы и великолепно описывает все, о чем последний должен был молчать.
Демаркационная линия между его областью и областью поэта и есть мелодия. Она определяется стихом, ибо сообщает гласным буквам поэтической фразы их полное музыкальное и выразительное значение, и в таком смысле она является поэзией. Но в то же время мелодия, как мы это видели, есть движущаяся поверхность океана гармонии, и в этом смысле она является музыкой. По сравнению, приводимому Вагнером в “Опере и драме”, поэт, так сказать, развертывает свою драматическую картину над волнами музыки; поэтический образ отражается в водной поверхности, и это движущееся и окрашенное отражение есть мелодия. “Через нее, — говорит Вагнер, — поэтическая мысль становится живой и самопроизвольной эмоцией; через нее также бесконечное желание, выражаемое музыкой, приобретает способность определенно и правдиво обнаруживаться, как ясно очерченное человеческое явление, облеченное в пластическую и индивидуальную форму. Мелодия есть искупление вечно случайной и зависимой поэтической мысли, которая через нее поднимается до радостного сознания высшей свободы чувства: она — желаемая и провозвещаемая необходимость, она — бессознательное, ставшее сознательным и ясно представляемым”.
Однако ничто не было бы так противно мысли Вагнера, как уподобление мелодии художественного произведения будущего “примитивной мелодии” — этому первоначальному источнику языка и музыки. Равно как мифы новой музыкальной драмы бесконечно возвышаются над мифами древних народов, так и мелодия музыкальной драмы стоит много выше первоначальной мелодии. В одном случае — смешение, в другом — синтез. Человеческий дух во всех своих проявлениях переходит от интуиции к знанию — с тем, чтобы в конце концов снова прийти к сознательной интуиции. Выражение человеческой мысли тоже совершает эту эволюцию. Инстинктивное и смутное вначале, оно становится все более и более рефлексивным и ясным; язык, орган ума, отделяется от музыки, органа чувства. Но как знание в своем апогее приходит к оправданию инстинкта, так и язык стремится опять стать музыкой. Однако совершенная мелодия имеет над первоначальной мелодией то же превосходство, что и сознательная интуиция “видящего” будущего человечества — над смутной интуицией первобытного, которое не поднялось еще до сознания самого себя и вселенной.
После того как мы разобрали, какова должна быть в драме будущего отдельная работа поэта — действие и поэма — и общая работа поэта с музыкантом — мелодия-песня, — нам остается теперь рассмотреть, какова будет специальная работа музыканта и в каком духе он должен исполнять ее.
Поэт, как мы видели, осуществляет свой замысел прежде всего в мелодии-песне, самопроизвольно вылившейся из декламируемого стиха. Но с музыкальной точки зрения эта мелодия может быть сравнима с горизонтальной линией, проведенной по поверхности волн гармонии; каждая точка этой линии есть вершина одной вертикальной звучащей колонны, одного гармонического аккорда, поднимающегося от основной ноты к поверхности. Мелодия-песня, а следовательно и чувственное выражение поэтической мысли, пока она раздается одна, лишенная гармонических основ, остается несовершенной. Слагая свои стихи, поэт бессознательно слышит в ушах своих отзвук не только этой песни, но также и гармонию, которая является составной частью этой песни. Только одна гармонизованная мелодия, происшедшая от мелодии танца, — такая мелодия, какая стала возможна вследствие удивительного развития, достигнутого в настоящее время симфонической музыкой, может адекватным образом передавать чувствам мысль поэта. Но эти гармонические основы песни-мелодии поэт не может построить с помощью средств своего искусства. Следовательно, в действительности он не изобретает мелодии, он открывает ее так, как она рисуется в душе его сотрудника-музыканта.
При создании драматической симфонии музыкант не может довольствоваться употреблением человеческого голоса, поручением, например, второстепенным персонажам или хору обязанности — давать гармонические основы мелодии-песни. В самом деле, в музыкальной драме ни одно из действующих лиц не должно иметь столь незначительной роли, чтобы его пение могло служить простым аккомпанементом той мелодии, которую поет главное действующее лицо. Зато новейший композитор, чтобы справиться с выпавшей на его долю задачей, располагает замечательно выразительным инструментом, доведенным до редкой степени совершенства благодаря громадным успехам, достигнутым в настоящее время инструментальной музыкой: это — оркестр.
В каком же смысле он воспользуется им? Обыкновенный оперный композитор пользуется вообще оркестром, как гигантской гитарой, дело которой — аккомпанировать мелодии певца; или заставляет его исполнять пьесы “абсолютной музыки”, которые должны сами по себе доставлять наслаждение без всякого отношения к драматическому действию. Совсем другую роль играет оркестр в музыкальной драме. Равно как поэт, строит ли он действие или же пишет либретто, должен всегда сочинять в духе музыки, так и музыкант не должен писать ни одного такта, который бы не был задуман в духе драмы. Здесь, в музыкальной драме, нет места ни абсолютной поэзии, ни абсолютной музыке. Роль оркестра — высказывать то, чего нельзя передать словом.
Прежде всего оркестр передает слуху то, что пантомима различных персонажей драмы открывает зрению.
В самом деле, жест выражает нечто такое, чего нельзя пересказать словами. Человек не жестикулирует, пока он обращается только к уму своего собеседника, он довольствуется словом; напротив, если он хочет произвести впечатление на его чувства, то сейчас же к слову присоединяет жест и именно своим жестом высказывает тот остаток эмоции, который не передается языком. Но этот остаток эмоции хочет также, чтобы его передали музыкой. Песня-мелодия, правда, обращается к чувствам, но так как она выливается из стиха, то и может передавать только ту долю чувства, которая передается языком. То, что человек высказывает жестами, сообщалось бы, следовательно, только зрению, если бы не вмешательство оркестра, который поясняет пантомиму актера, — точно так же, как мелодия передает чувствам стихи поэта.
Но это не все.
Оркестр — и это, может быть, самая важная его функция — может рисовать душевное состояние действующих лиц драмы во всей его полноте, может говорить о бессознательной или полусознательной жизни их духа. Словами человек высказывает доминирующее ощущение, всецело наполняющую его эмоцию. Но почти всегда сильная эмоция раньше в течение более или менее долгого времени подготовляется то ясными, то смутными предчувствиями; также она оставляет в душе человека память, которая под влиянием обстоятельств может пробуждаться, может появляться на пороге сознания то ясно и сильно, то туманно и расплывчато, в виде смутного воспоминания. Эти-то предчувствия и воспоминания оркестр наделяет голосом.
В виду этого главные моменты драмы характеризуются мелодическими мотивами, которые передаются обыкновенно в течение всей пьесы певучим словом или подчеркиваются и истолковываются сценическим действием. Эти мотивы, вводимые и развиваемые с помощью инструментов по мере того, как в душе актеров драмы зарождается или пробуждается соответствующее впечатление, посвящают слушателя самым непосредственным образом в предчувствия, в воспоминания, в пережитые мысли, — словом, во всю внутреннюю жизнь тех персонажей, действия которых он видит на сцене. Возвращаясь к этим различным мелодическим темам, перекрещивая их, комбинируя их различным образом между собой, музыкант достигает таким образом полного воспроизведения движений прилива и отлива, волнений, поверхностных или глубоких течений той постоянно движущейся волны чувств, которая составляет внутреннее действие музыкальной драмы.
Такую-то оркестровую симфонию, которая дает слуху музыкальный эквивалент изображаемого на сцене актерами действия, Вагнер и означил в своем “Письме к Вилло” часто цитируемым и редко понимаемым термином “бесконечная мелодия” (unendliche Melodie). В сущности говоря, оркестр в музыкальной драме играет роль подобную той, какую играл хор в греческой трагедии. Античный хор всегда присутствовал на сцене; пока действие развивалось на его глазах, он старался разобрать те побудительные причины, которые руководили действиями актеров драмы, и на основании этих причин высказать суждение относительно самого действия. Оркестр вагнеровской драмы выполняет аналогичную функцию. Он также является постоянным свидетелем всего драматического действия: он точно определяет слова всех действующих лиц, давая каждой мелодии, которую они поют, гармонические основы; он комментирует их жесты, их позы и самое их молчание, потому что знает все, что происходит в глубине их сердец; он проникает в самые сокровенные мотивы их действий, он угадывает те предчувствия и воспоминания, которые посещают их душу.
Но тогда как античный хор излагал свои суждения в форме отвлеченных мыслей и сам не принимал участия в действии, нынешний оркестр высказывает все, что он знает, в форме, которая действует непосредственно на чувства, и это — по мере того, как развиваются перипетии драмы. Своим беспрерывным присутствием он создает, таким образом, полную беспрерывность музыкальной симфонии, в былое время в традиционной опере разбиваемой на серию независимых отрывков. В вагнеровской драме нет столь шокирующего в опере контраста, контраста между большой арией, всецело пропитанной лирической эмоцией, и сухим речитативом, столь часто лишенным всякого эмоционного содержания и всякой музыкальной красоты. Выражают ли актеры драмы в той мелодии, которую они поют, свои самые глубокие эмоции, или, напротив, излагают в близкой к разговорному языку мелодии сведения, представляющие интерес главным образом для мысли, или, наконец, молчат, — оркестр всегда готов в каждый момент восстановить равновесие между различными частями драмы: то он ограничивается аккомпанированием или усилением мелодии певца, то, подхватив голос, завлекает его в мелодию и берется передать для слуха ту эмоцию, которая выделяется из драмы. Благодаря своему вмешательству он с начала до конца действия обеспечивает непрерывность мелодической волны и гармонического единства целого впечатления.
Следовательно, в конце концов, в целом вагнеровская драма является результатом внутреннего слияния, взаимного поникновения поэзии и музыки. Поэт строит действие, определяет каждое слово, каждый жест действующих лиц, и после этого драма является осуществленной для ума и для чувства зрения; но она еще не является таковой для чувства слуха, для ощущения. Таким образом, поэт окажется вынужденным усилить выражение своего стиха созданием мелодии. Но этого еще недостаточно: ему нужно дать этой мелодии гармонические основы, ему нужно передать для чувства слуха то, что выражает жест, высказать голосом оркестра всю сумму эмоций, которые заключает в себе драма и которых не в силах передать человеческое слово.
Если стать на такую точку зрения, то в первый момент может показаться, что Вагнер отдавал поэзии первенствующую часть в образовании музыкальной драмы. Во всяком случае, известно, что в соединении двух искусств поэзия является, по его мнению, элементом мужского пола, оплодотворяющим семенем, содержащим в зародыше полную драму. Но было бы ошибочно думать, что он совершенно подчиняет музыку поэзии. Если мы станем на другую точку зрения, то увидим на самом деле, что музыка определяет драму совершенно в той же степени, как и поэзия. Музыкант — бесспорный творец той оркестровой симфонии, которая аккомпанирует драме, — является, сверх того, в известной степени творцом мелодии-песни, потому что последняя определяется, правда, с одной стороны, акцентом стиха, но с другой стороны — также элементом специфически музыкальным, гармоническими основами, необходимыми ей для того, чтобы быть настоящей мелодией. Затем музыкант равно оказывает решительное влияние на самую деятельность поэта.
В самом деле, последний, если он хочет, чтобы его союз с музыкантом мог оказаться плодотворным, должен сочинять свои стихи и сообразовывать свое действие в духе музыки. Итак, если верно то, что драма определяет оркестровую симфонию до ее мельчайших подробностей, то не менее достоверно и то, что поэт не может ни установить порядок своей пьесы, ни сочинить сцены, ни написать ни одного слова, не имея в виду того музыкального выражения, в которое должна будет облечься его мысль. Если следовать сравнению, которое беспрестанно выходит из-под пера Вагнера, то музыка является любящей женщиной, соединяющейся со своим божественным супругом-словом, для того чтобы подарить свет совершенным художественным произведением; она есть плодоносное чрево, в котором прозябает и развивается семя, исшедшее от слова.
“Очень плохо представляют себе, — говорит Вагнер, — отношение музыки к “театральной пьесе” (Schauspiel), если считают ее, как это делают в настоящее время, только частью в целом. В этом случае она была бы только лишней или даже мешающей пристройкой; потому-то она в конце концов и была исключена из театральных пьес в собственном смысле слова. Но она в действительности является “частью, которая вначале была целым” и в настоящее время она чувствует в себе призвание — восстановить свое древнее материнское достоинство по отношению к драме. Вследствие этого она не должна занимать места ни выше, ни ниже драмы: она не соперница ей, а добрая мать. Она говорит, и то, что она говорит, вы можете видеть представленным там, на сцене; для этой-то цели она и собрала вас. Что такое —
Когда Вагнер решил, что достаточно подготовил почву для художественного произведения, о котором он мечтал, и когда он окончательно приобрел полное осознание самого себя и своих трудов, — желание приняться за свою артистическую миссию и снова создавать живые произведения с изумительной интенсивностью охватило его и внезапно вселило в него отвращение ко всякому литературному и критическому труду. Едва было окончено его “Сообщение моим друзьям”, как он писал уже своему другу Рекелю, что “всякий теоретический труд с этих пор стал противен ему”.
В следующем году он выражал то же чувство еще более энергично: “Мои критические сочинения свидетельствуют о том вынужденном состоянии, в котором я находился как артист: я писал их только под гнетом самой крайней необходимости, и я менее всего имел в мыслях писать книги. Теперь литературный период закончился для меня. Если бы я должен был идти дальше по этому пути, это было бы моей смертью”. В его переписке с Улихом и Листом мы также встречаемся часто с выражениями тех же самых настроений. Его ужас к писательскому ремеслу доводит его до того, что он отказывается от сотрудничества в художественном обозрении, которое предполагали в 1853 г. основать его друзья. “Раз делают дело, то не толкуют”, — пишет он Листу, убеждавшему его редактировать программу этого предприятия; и он доказывает, что настоящее отвращение его к литературе всякого рода позволило бы ему представить “разве только никуда не годные произведения, которые ужасным образом обнаружили бы скудость моих специальных эстетических способностей”.
После нескольких лет борьбы с пером в руке Вагнер хотел снова стать поэтом и музыкантом. Он чувствовал, что в голове его зарождаются грандиозные проекты. 23 августа 1851 г. он выпустил в печать последнее из своих крупных теоретических произведений — “Сообщение моим друзьям”, а осенью того же года он уже имел окончательный план “Кольца Нибелунга”.
Глава III: IV. “Кольцо Нибелунга”
Франкская легенда о кладе Нибелунгов. — Романская легенда. — Спор гвельфов и гибеллинов. — Материалистическое толкование клада Нибелунгов.
Когда Вагнер работал над композицией “Лоэнгрина”, находя в ней в печальные часы своего пребывания в Дрездене, словно в “оазисе среди пустыни”, убежище, — два новых сюжета одновременно овладели его поэтическим воображением: “Зигфрид” и “Фридрих Барбаросса”. И в самом деле, с одной стороны, продолжая свои изыскания в области германских легенд, Вагнер почувствовал к 1846 г., как пред глазами его встает лучезарное видение юноши Зигфрида — не Зигфрида из Nibelungenlied, рыцарского, учтивого и слишком часто условного, но Зигфрида из коренной легенды — этого бессмертного, столь немецкого и в то же время столь общечеловеческого образа улыбающегося и радостного героизма, самопроизвольного и прямого великодушия. С другой стороны, Вагнер продолжал в Дрездене начатое им в Париже изучение истории древней Германии и средневековых императоров, и во время этих занятий он пришел в восторг от Фридриха I Барбароссы, увидев именно в нем самое прекрасное и самое сильное историческое воплощение легендарного Зигфрида. Снова, как и тогда, когда почти одновременно были задуманы им “Манфред” и “Тангейзер”, Вагнер колебался между историческим сюжетом и сюжетом легендарным — с тою, однако, разницей, что в 1848 г. оба занимавшие его сюжета он попытался соединить в одном грандиозном синтезе.
Прежде чем приступить к более подробному изучению “Кольца”, нам кажется интересным остановиться немного на той первоначальной, весьма любопытной форме, которую принимает в уме Вагнера легенда о Зигфриде и Нибелунгах в связи с историей германских императоров, и разобрать небольшое, сравнительно малоизвестное французской публике сочиненьице, под названием “Вибелунги”, где Вагнер в главных чертах набрасывает нечто вроде философии всеобщей истории, объясняемой посредством мифа. Едва ли нужно говорить о том, что он поступает как артист, а не как историк или филолог. Мы безусловно сомневаемся, чтобы его поэтические фантазии могли иметь какое-нибудь значение с точки зрения понимания легенды ли или исторических фактов; впрочем, он и сам старается указать, что посвящает свою книгу друзьям, а не историко-юридической критике. Но “Wibelungen” заслуживает истинного внимания как поэтическое произведение, и можно только подивиться могучему воображению Вагнера, создавшему тот фантастический и грозный вид вековой легенды, в котором история немецких императоров неожиданно освещается в связи с великими средневековыми легендами, легендой о Нибелунгах и святом Граале.
Героями этой обширной эпопеи являются монархи, происходившие из королевского рода Франков — древней династии; легенда, по Вагнеру, сохранила нам ее наиболее древнее название — название Нибелунгов. Власть этой династии была основана на понятии о наследственном праве: на короля и его родоначальников смотрели, как на самых подлинных представителей рода, как на самых прямых потомков какого-то таинственного Предка, патриарха древнего арийского рода, соединявшего в своем лице королевскую власть с властью религиозной. С веками потомки его потеряли религиозную власть, но от своего первоначального достоинства короля-жреца сохранили за собой тот как бы божественный ореол, который осеняет их светское королевское достоинство; народ смотрит на них и они сами на себя, как на божественных избранников, как на привилегированные существа с челом, отмеченным таинственным знаком, самым рождением своим предназначенные к верховному владычеству. С Карлом Великим род Франков одно время почти достигает осуществления той мечты о всемирном господстве, которая часто посещала честолюбивую душу Нибелунгов.
Идея той всемирной монархии, которую Франки, или Нибелунги считали себя призванными осуществить на земле, встречается в символической форме в народной легенде о их роде, в мифе о Зигфриде и Нибелунгах.
Мифические Нибелунги — духи ночи и смерти, жители недр земли, усердные работники, беспрестанно занятые собиранием скрытых в недрах земли сокровищ, литьем украшений и выковыванием оружия. Когда Зигфрид, божественное солнце, герой Дня, убивает дракона — символ бесформенной, мрачной Ночи, то в то же время он овладевает кладом Нибелунгов и таким образом делается владыкою их; другими словами, он вступает во владение всеми богатствами земли и достигает верха неограниченной власти. Между тем величие его является причиной его же гибели. Наследник дракона делается непримиримым врагом победоносного бога, у которого он хочет отнять добычу: он предательски поражает Зигфрида, как ночь поражает день, и уносит его в царство мрака и смерти. Но Зигфрид, в свою очередь, предоставляет потомкам своим позаботиться о мщении за него и завещает им свои притязания на клад. И равно как день должен беспрестанно побеждать ночь, сиять над великолепием земли, потом снова исчезать в недрах мрака, так и все поколения, происшедшие от Зигфрида, побуждаются непреодолимой силой непобедимого рока завоевывать клад Нибелунгов и не менее роковым образом являются обреченными на смерть, как только добывают его. Вечное честолюбие всего потомства Зигфрида, упорная мечта Нибелунгов, или Франков, законных потомков бога, это — обладание великим кладом, завоевание верховной власти, завоевание гегемонии среди народов Европы.
Вступление Карла Великого в Рим и встреча его с папой является важным моментом в истории Нибелунгов, ибо ставит лицом к лицу франкскую идею с другой исторической силой аналогичного происхождения — с идеей романской.
Романская легенда говорит нам о народе, тоже стремящемся к всемирному господству; но это господство — духовное, внутреннее; оно должно распространяться не на тела, но на души. Главной пружиной оно имеет религиозную традицию, преподающую борьбу, отречение, освобождение человеческого духа победою над эгоистическими и животными страстями. Эта традиция сначала является олицетворенной в Pontifex Maximus древнего Рима. Потом, уклонившись от первоначального своего значения и объясняемая в материалистическом смысле, романская идея оказывается осуществленной в личности Юлия Цезаря, который является не только первосвященником, властителем душ, но и прежде всего императором, верховным владыкой мира. Наконец, после падения видимой и материальной власти Рима старая религиозная традиция, восстановленная в ее первоначальной чистоте христианством, воплощается в папе, духовном главе Вселенской церкви. Отсюда ясно все значение встречи Карла Великого с папой: она ставила лицом к лицу законного наследника первоначального царского достоинства по праву крови с первосвященником, хранителем самой древней религиозной власти не в силу наследственного права, но в силу мистической передачи. Жрец и король, соединенные некогда в лице верховного главы арийцев, потом разъединенные, по прошествии веков снова, наконец, соединялись и заключали между собой вечный союз.
Но этот союз духовной власти со светской властью был непродолжителен. Вскоре же вспыхнула война между представителями религиозной власти и преемниками Карла Великого, почти всегда избираемыми из королевского рода Франков-Нибелунгов, и потому наследниками честолюбивых замыслов этого племени. То был великий спор гвельфов и гибеллинов, или, как говорили немцы, Welfen и Wibelungen, или Nibelungen. Рассмотрим же причины этой достопамятной борьбы.
До Карла Великого империя, или, выражаясь в мифическом стиле, клад Нибелунгов был понимаем вместе как чувственная реальность и как идея: как реальность, ибо потомки Зигфрида стремились к реальному обладанию миром; как идея, ибо они основывали свои притязания на происхождении, по которому они являлись законными наследниками древнего арийского короля-жреца. После же Карла Великого империя все более и более становится понимаемой уже не как реальность, а как идея. В самом деле, франкское племя уже не владеет миром, и император уже не имеет действительной власти над всей Европой, ни даже над всей Германией. Итак, мало-помалу империя понимается как духовное могущество, независимое от реального обладания. Короли и князья являются фактическими обладателями реальности под гегемонией императора, в котором пребывает высший авторитет и от которого получает начало всякий авторитет. Но тогда как император хотел, так сказать, спиритуализировать свою власть, — папа, напротив, желая укрепить свое владычество на почве сознания, стремился к духовному авторитету присоединить действительную власть и, таким образом, он материализировал свою власть.
Итак, франкская идея и идея романская стремились стать идентичными. Столкновение было неизбежно. Папа, представитель Бога на земле, считал себя выше императора, как душа выше тела. С другой стороны, император в качестве законного потомка главы арийцев требовал возвращения двойного авторитета короля и жреца и смотрел на папу, как на своего духовного наместника. Фридрих Барбаросса, по мнению Вагнера, — представитель par excellence императорской мечты в такой новой форме. Прародитель императора — таков был его принцип — сын Божий, которого германцы зовут Зигфридом, а другие народы Иисусом Христом, и который для величайшего блага людей совершил среди всех геройское дело и ради этого дела претерпел смерть. Наследники его — Нибелунги, или Франки, рожденные быть государями над всеми народами земли, и глава их император — законный владыка мира. Всякое обладание должно быть узаконено им, в противном же случае оно считается только кражей. В Германии император сам раздает лены; в других странах короли и князья — его наместники и от него получают свой авторитет. Наконец, император — он же и первосвященник — вверяет свою духовную власть папе, как наиболее достойному из сановников, который от имени императора и под его надзором ради блага и мира народов пользуется верховной властью в деле религии над всеми народами земли.
Барбаросса встретил троих противников, возмутившихся против его притязаний: германских князей — во имя эгоистического интереса; папу — во имя господства духа над материей; ломбардские города — во имя идеи свободы. Пред лицом этой грозной оппозиции, которая одерживает верх в битве при Леньяно, Барбаросса примиряется с папой, подавляет мятеж германских государей и провозглашает свободу ломбардских городов. Тогда свободный от волнений идет он на Восток для завоевания Палестины и святого Грааля.
Таким образом, мы приходим к последней фазе эволюции франкской идеи: зараз идеальная и реальная империя Карла Великого совершенно спиритуализируется с Барбароссой. Клад Нибелунгов стал чашей святого Грааля.
Дивные предания рассказывали, что в глубине Индии, в великолепной стране жил король-жрец со своим народом, посвятившие себя культу щедрой чудесами святой реликвии, которую легенда называет святым Граалем, и созерцание которой давало хранителям ее бессмертие среди высшего блаженства. Там Барбаросса мечтал снова найти религиозное государство, эксплуатируемое в Риме честолюбивыми попами. Он отправляется в Палестину, чтобы освободить Гроб Господень; он избивает сарацинов; уже одна только река отделяет его от обетованной земли, но, не дождавшись, пока построят мост, в нетерпении он бросается в нее верхом на коне. Потом уже больше никто не видел его. И вот с этого момента пламенное желание овладевает христианством: оно мечтает вновь обрести, помимо папского Рима, истинную землю спасения, Иерусалим, гроб Господень — и дальше, на таинственном Востоке, легендарную колыбель белой расы...
В то время, как легенда о Нибелунгах, с одной стороны, спиритуализуется, становясь легендой о Граале, с другой стороны, она материализуется в теории собственности.
Таким образом, клад Нибелунгов был разрушен: у императора он спиритуализовался в мечте об идеальном королевском достоинстве; у алчных средневековых владетелей, предков наших современных капиталистов, он материализовался, сделался тем золотом и той землей, которые они захватывали в свою пользу. У народа ничего уже не остается от него, кроме воспоминания по старинным легендам. Но народ верит еще в существование клада. Он говорит, что этот клад скрыт на самом дне одной горы, как в то время, когда Зигфрид добывал его. Сам Барбаросса схоронил его для лучшего времени. Там, в древнем Кифгейзере, спит старый император; вокруг него лежит несметный клад Нибелунгов, а рядом с ним висит тот меч, которым некогда был убит дракон.
Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы такой сюжет, как сюжет о Фридрихе Барбароссе, можно было изложить в форме оперы: он был слишком обширен, слишком сложен, слишком богат историческими и случайными элементами, чтобы Вагнер сейчас же мог извлечь из него либретто для музыкальной драмы. Итак, вопрос стоял пред ним в такой форме: написать ли ему литературную драму о Барбароссе или музыкальную драму о Зигфриде? Колебание его не было продолжительным. Он отказался от Барбароссы, — не потому, чтобы он отступил перед работой, в которой не мог воспользоваться своим музыкальным гением; но он чувствовал, что самый драматический гений его мог свободно развернуться только в сюжете, годном также к музыкальному изложению. Этот решительный опыт в конце концов вполне ясно открыл ему один из основных законов его эстетики, который долгое время он потом предусматривал, не давая ему еще точной формулировки, а именно: истинная драма необходимо является музыкальной, а следовательно, исторические и политические сюжеты не свойственны не только опере, но и вообще самой драме. Таким образом, этот любопытный синтез истории и мифа, набросанный им в “Wibelungen”, не дал ему материала для художественного произведения. Тем не менее он остается интересным не только как доказательство необыкновенной мощи воображения Вагнера, но и особенно тем, что открывает ту таинственную связь, которая соединяет “Кольцо” с позднейшим произведением Вагнера. В самом деле, мы видим, что с 1848 года миф о Нибелунгах он понимает как первый акт одной божественной комедии, развязкой которой является легенда о Граале. “Wibelungen” предсказывают не только “Кольцо”, но и “Парсифаля”. После кровавого, бешеного и тщетного стремления к золоту и власти — тихое и успешное искание святого Грааля. После трагедии смерти мы предвидим в будущем драму искупления.
2. Драматический эскиз на миф о Нибелунгах. — Господствующая идея в эскизе 1848 г. — Композиция “Юного Зигфрида”. — Концепция тетралогии. — Новая концепция роли Вотана. —Обработка тетралогии
Тем же летом 1848 года, когда Вагнер писал “Вибелунгов”, он набрасывал также и план обширного драматического сочинения на миф о Нибелунгах, которое в главных своих чертах ничем почти не отличается от той тетралогии, которую Вагнер написал на тот же сюжет несколько лет спустя. Что прежде всего характеризует этот эскиз, так это то, что Вагнер совершенно отступает от немецких и норвежских источников легенды, от Nibelungenlied, как и от Voelsunga Saga, или от эддических певцов, оставляя в стороне всю историю мщения Кримхильды и избиения Нибелунгов при дворе Аттилы и заключая свою драму смертью Зигфрида. Таким образом, он возвращается к той первоначальной форме легенды, в какой ее воспроизводил тогда один из первых немецких филологов. Если верить Лахману, написавшему в 1829 г. “Критику легенды о Нибелунгах”, то история Зигфрида в ее древнейшей форме является мифом о фатальной силе золота. Клад Нибелунгов был скрыт от его первого владетеля на дне Рейна; с тех пор он становится предметом самых пламенных желаний и причиною гибели всех тех, кто касается его рукой; Зигфрид, светлейший из героев, рядом удивительных подвигов овладевает им и сам подпадает под власть духов мрака; он должен добывать не для себя, а для своего повелителя, короля Нибелунгов Гунтера, лучезарную деву Брунгильду; он умирает, предательски пораженный Хагеном, а предмет столь алчных желаний — клад — скрывается в волнах Рейна и возвращается его первым владетелям. По-видимому, золото Нибелунгов первоначально представлялось воображению, как роковая сила, как злотворное и страшное чудовище, вроде Левиафана, которое, выйдя из недр мрака, снимает оковы со всех пагубных страстей человека, находит удовольствие при виде ручьями текущей крови, заставляя всех чувствовать свою пагубную власть; которое, наконец, насытившись убийствами, погружается в струи отца рек и снова вступает в царство ночи — туда, откуда оно вышло. Эту древнюю концепцию, с веками затемненную и видоизмененную германскими и норвежскими преданиями, Вагнер с необыкновенной мощью гения сумел рельефно передать в произведении, которое он в то время замышлял.
Кроме того, что с самого начала характеризует его эскиз, так это то, что, придерживаясь в этом отношении норвежских источников и вместе с тем развивая их показания, он к человеческой трагедии присоединяет трагедию божественную. Он рассказывает о похищении Золота Рейна Альберихом, который силою кольца порабощает Нибелунгов; затем захват Альбериха богами, которые заставляют его выдать сокровища и кольцо. Далее он излагает первую несправедливость богов, делающую их власть недействительной: вместо того, чтобы освободить порабощенных Альберихом Нибелунгов, боги расплатились кладом и кольцом с великанами, построившими для них Валгаллу, и таким образом навеки продлили несправедливое тяжелое рабство Нибелунгов. Наконец, он говорит об усиленных попытках со стороны богов загладить разрушающую их власть несправедливость; об их боязни увидеть Альбериха снова обладателем кольца, достигающим всемогущества; об искуплении вселенной человеком, который навсегда упрочивает царство богов, возвращая дочерям Рейна похищенное у них золото. Однако в эскизе 1848 г. уже не история богов и их главы, Вотана, и не судьба мира составляют центр действия. Теперь в мыслях Вагнера главный герой драмы — Зигфрид, Зигфрид, прекрасный и лучезарный образ которого прежде всего запечатлелся в его поэтическом воображении и привлек его к легенде о Нибелунгах. В Зигфриде он воплощает идеал человека так, как он ему представляется в данную минуту — сильный и прекрасный, без зависти и страха, прямодушный и самопроизвольный, всецело отдающийся настоящему чувству, без заботы о будущем, не знающий никаких законов, никаких ни божеских, ни человеческих договоров. Зигфрид-то по своей доблести и берет на себя вину богов и заглаживает несправедливость, которой они позволили существовать. Он является в развязке как бы искупителем-социалистом, пришедшим на землю для отмены царства капитала. И в самом деле, после того, как он пал под ударами Хагена, Брунгильда провозглашает от его имени, что рабство Нибелунгов кончено, что кольцо не достанется ни Альбериху, ни людям, ни богам — оно не станет больше служить средством к осуществлению властолюбивых грез для кого бы то ни было, но навсегда будет скрыто в глубинах Рейна. С этих пор царство богов упрочено навеки; и вот посреди пламени костра, пожирающего останки Зигфрида, в сиянии апофеоза показывается Брунгальда на коне, сверкающая доспехами валькирии, и уносит героя в чертоги Вотана.
Окончив эскиз, Вагнер не медля более приступил к делу. С ноября месяца того же 1848 г. он менее чем в 15 дней написал “большую героическую оперу” в трех актах, которую озаглавил “Смерть Зигфрида” в ней изобразил он последнюю часть своего драматического эскиза, изложив в повествовательной форме предшествовавшие действию события. В декабре он читал новое произведение в кружке своих дрезденских друзей.
Оставленная на время смутных месяцев, предшествовавших майскому восстанию 1848 г. и непосредственно следовавших за ним, драма “Зигфрид” не замедлила вновь посетить воображение Вагнера, как только ему представилась возможность подумать о том, чтобы снова приняться за труды. 18-го июня 1848 г. он писал Листу, что сейчас же примется за композицию своего “Зигфрида” и что думает окончить ее в шесть месяцев. И вот в продолжение почти двух лет, когда почти против воли он писал свои теоретические произведения, большая мифическая драма его оставалась произведением, к которому он стремился и которое связывало его с жизнью. Однако у него не находилось ни времени, ни вдохновения для того, чтобы приступить к музыке “Зигфрида”. Он чувствовал, что его новое произведение — так, как он его понимал — столь сильно превышало размеры и уровень обыкновенной оперы, что во всей Германии не нашлось бы ни театра, в котором можно было бы поставить его, ни актеров, чтобы играть его, ни публики, чтобы понимать его. Уныние овладевает им. В мае 1850 г. он настолько проникается мыслью о бесполезности попыток подобного рода, что твердо намеревается совершенно отказаться от всякой надежды когда-нибудь положить на музыку “Смерть Зигфрида” и посылает драму к издателю с тем, чтобы по крайней мере хоть напечатать либретто в качестве литературного опыта. Тем временем, однако, благодаря Листу для него предвидится возможность поставить задуманное произведете в Веймаре. Искра надежды западает в душу Вагнера; он останавливает печатание либретто. В начале 1851 г., когда он уже закончил “Оперу и драму” (февраль), его охватывает потребность более настоятельная чем когда-либо — cнова создавать художественное произведение; и вот он с новым жаром возвращается к своему “Зигфриду”. Однако в то же время он сознает абсолютную невозможность, с которой все же ему приходится сталкиваться, представить в доступном для понимания виде такое необыкновенное произведение, как “Смерть Зигфрида”, на маленькой сцене веймарского театра. Тогда вместо того, чтобы начать музыку к готовой драме, он предпринимает для веймарского театра совершенно новое произведение, мысль о котором была у него еще несколько раньше; это-то произведение и предназначалось по замыслу своему служить введением к “Смерти Зигфрида” и было озаглавлено “Юный Зигфрид”.
Как-то осенью 1848 г., столь богатой планами всякого рода, Вагнер предполагал в форме музыкальной драмы изобразить народный рассказ — историю одного ветреного мальчика, который бросает дом “для того, чтобы поучиться страху” и который настолько глуп, что никак не может добиться этого. “Пойми же весь мой ужас, — пишет Вагнер Улиху 10 мая 1851 г., — когда вдруг я открываю, что этот мальчик никто иной, как юный Зигфрид, овладевающий кладом и пробуждающий Брунгильду”. Сейчас же у него является мысль о драме, которая рассказала бы о простом геройском детстве Зигфрида, непосредственно познакомила бы публику с предшествующими и мотивирующими смерть героя событиями и таким образом подготовила бы зрителей к лучшему восприятию тех более сильных и более глубоких эмоций, которые должна вызывать “Смерть Зигфрида” эта мысль с непреодолимой силой овладела его художественным воображением. В три недели — с 3 по 24 июня 1851 г. — поэма о юном Зигфриде была поставлена на ноги. И Вагнер твердо рассчитывал на то, что в конце года он сможет вручить Листу вполне оконченную партитуру для представления ее в Веймаре.
Едва Вагнер кончил “Юного Зигфрида”, как заметил, что его новое произведение точно так же, как и “Смерть Зигфрида”, — только отрывки, выхваченные из той исполинской драмы, эскиз которой он набросал в 1848 г., — отрывки, которые могли произвести полное впечатление только тогда, когда каждый из них был бы поставлен на отведенное ему в целом произведении место. “В этих двух драмах, — писал он Листу, — много существенных данных или только рассказаны, или просто даже предоставлены воображению зрителей: все, что придает интриге и характерам этих драм их громадное значение и глубокий смысл, все это должно было остаться вне рамок сценического действия и быть просто сообщено мысли. Но мое личное мнение таково, что художественное произведение... может действительно произвести впечатление только в том случае, если поэтический замысел выражен во всех своих главных чертах в конкретной, видимой форме; в настоящий момент я менее всего должен погрешать против того правила, справедливость которого я постиг. Итак, чтобы быть понятым, я должен передать художественно и с абсолютной точностью весь миф о Нибелунгах вместе с его обширным и глубоким символизмом; нужно, чтобы мысль и размышление отнюдь не заступали место картины; нужно, чтобы каждый самопроизвольный ум с помощью органов художественного восприятия мог охватить эту картину всю в целом, ибо только таким путем он может верно уловить смысл каждой детали”. С этих пор для Вагнера уже недостаточно было передать в драматической форме вторую половину эскиза — юность и смерть Зигфрида, — но он считал также необходимым ясно изложить уже не в повествовательной, а в драматической форме ту божественную драму, которая бы объясняла и мотивировала драму человеческую: похищение золота и эпизод Зигмунда с Зиглиндой.
В то время, как Вагнер расширял таким образом рамки своего произведения, он придавал также больше ясности и глубины выраженной в нем философской идее. В эскизе 1848 г. он не указывал, как Альберих добыл золото Рейна и выковал кольцо. Осенью же 1851 г., как это видно из его писем к Улиху и Листу, он открывает, что для того, чтобы овладеть кладом, Нибелунг должен был отказаться от любви.
С этих пор была найдена главная идея, управляющая всей тетралогией — несовместимость желания любви с жаждой золота и власти; и вот для того, чтобы ясно выделить ее, Вагнер ввел в первоначальный план массу изменений, с виду маловажных, но которые, в общем, совершенно изменяют весь общий характер его произведения. Первым его намерением, как мы видели, было описать происхождение будущего общества, основанного на законе любви, пришествие того свободного, счастливого, олицетворенного в Зигфриде и Брунгильде человечества, которое, по его мнению, не могло бы не вырасти на земле, если бы власть капитала была сломлена и если бы люди вместо того, чтобы эгоистично применяться к традиционным законам, повиновались своему инстинкту. Как только он решился представить в драматической форме уже не только подвиги и смерть Зигфрида, но и весь миф о Нибелунгах, — его точка зрения изменилась. Мысль — дать нам в Зигфриде идеальный тип будущего человека — отошла на второй план.
В конце своего произведения Вагнер захотел показать уже не начало золотого века, открытого подвигами Зигфрида, но страшную катастрофу, в которой рушится старое общество со своими несправедливыми и обманчивыми законами. Глава богов Вотан, роль которого в эскизе была только довольно затемнена, теперь выступает на первый план. Он становится представителем современного духа, раздвоенного любовью и эгоизмом, алчущего власти и богатства, но и исполненного непреодолимой потребности любви. В сердце бога разыгрывается великая трагедия мира: возмечтав о беспредельной и вечной власти, он узнает, что создание его немощно и зло, он подчиняется, как и все существа, закону перемены и ждет от самого себя уничтожения. Он, как пишет Вагнер Рекелю, есть сумма интеллигенции настоящего времени; другими словами, с помощью высшего усилия разума он поднимается до понимания необходимости великой Революции, в которой должен погибнуть старый мир; он соглашается на исчезновение ради того, чтобы дать место грядущему Человеку. — В силу нового значения, приданного роли Вотана, развязка драмы должна была подвергнуться полному изменению. В эскизе 1848 г. царство светлых богов утверждалось навсегда самоотверженным подвигом Зигфрида, и для искупленного мира начинался золотой век. Окончательная редакция “Кольца”, напротив, разрешается “Сумерками богов”, смертью Вотана и богов Валгаллы, которые с концом своего царствования погружаются в небытие, оставляя свободное поле победоносному человечеству.
В целом произведение Вагнера, в своем окончательном виде, должно было включить в себя трилогию: “Валькирия”, “Юный Зигфрид” и “Смерть Зигфрида” с предварительным прологом “Похищение Золота Рейна”. О постановке серии этих четырех драм в Веймарском театре нечего уже было и думать. Это необычайное по размерам, единственное в своем роде произведение могло быть поставлено только на специальной сцене, по случаю какого-нибудь великого торжества, в неопределенном будущем, “после великой Революции”, как писал о том своему другу Улиху Вагнер. Итак, он взял назад те обещания, которые он дал Листу, и продолжал опасное строение своей тетралогии, не зная, где его новое произведение увидит огни рампы, не помышляя даже о том, чтобы когда-нибудь он мог предложить его публике в соответствующем его идеям виде — ободряемый только такими прекрасными словами Листа: “Итак, за труд! Смело работай над своим великим созданием, для которого пусть не будет начертано у тебя другой программы, кроме программы, данной капитулом Севильи архитектору, строившему кафедральный собор: “Построй нам такой храм, при виде которого последующие поколения сказали бы: капитул был сумасшедший, если он решился на такое необычайное предприятие!” И вот все же кафедральный собор Севильи и поныне устремляет к небесам свои башни”.
Сочинение поэмы пошло сравнительно скоро. К 1-му июля 1852 г., после месячного труда, была окончена “Валькирия”. В первых числах ноября Вагнер кончил “Золото Рейна”. Затем сейчас же он взял две части, написанные до концепции общего плана “Кольца”, — “Юный Зигфрид” и “Смерть Зигфрида”, чтобы употребить их в дело и связать с остальной частью поэмы. На Рождество он читал великое произведение в кругу близких знакомых и напечатал “Кольцо” в 25-30 экземплярах, чтобы поднести его некоторым друзьям. 11 февраля 1853 г. он послал Листу первые экземпляры. Он вполне сознавал исключительное значение только что оконченного им произведения: “скажем, не скромничая, — писал он своему другу Улиху, — эта поэма, в целом, есть наиболее грандиозное и” того, что я создал”.
3. Вотан стремится к знанию и власти. — Трагическая ошибка Вотана. — Вотаном овладевает забота. — Вотан и Зигмунд. — Вотан и Брунгильда. — Вотан отказывается от мечты о могуществе. — Вотан и Зигфрид. — “Сумерки богов”.
Изучив исторический генезис “Кольца”, нам нужно теперь поближе познакомиться с внутренним действием той исполинской поэмы, в которой Вагнер захотел говорить не только о судьбе человека, расы или породы, но о судьбе всего мира. В “Кольце”, как мы уже указали это, сопоставлены две драмы: драма человеческая, кончающаяся смертью Зигфрида и Брунгильды, и драма божественная, или космогоническая, имеющая героем Вотана и кончающаяся “Сумерками богов”. Теперь мы приступаем к изучению божественной драмы — быть может, самой величественной из двух и наиболее важной для истории идей Вагнера.
В тот момент, когда открывается действие, Вотан, первый из Асов, величайший из духов света (Lichtalben), познав сладость любви, хочет добыть власть мира. Прелесть юной любви для него несколько поблекла. В былое время он любил свою супругу Фрику с таким жаром, что отдал за обладание ею один из своих глаз; но теперь он начинает находить тяжелыми те вечные узы, которые связывают его с ней, начинает утомляться от оков, делающихся еще более тяжелыми от ревности его беспокойной супруги. Таким образом, самое супружество их, происшедшее от неизбежной иллюзии любви, которая мнит себя вечной и хочет избежать закона перемены, развило в его сердце зародыши эгоизма и нерасположения, или, сохраняя тот непереводимый термин, которым Вагнер обозначает причину всех зол в мире, зародыши Lieblosigkeit.
В душу его проскальзывает честолюбие. Без сомнения, оно не могло заглушить в сердце Вотана любви — этого первого закона вселенной, который влечет к женщине и к наслаждению все твари “в водах, в поднебесной, на земле, повсюду, где копошится жизнь, где волнуется существо, повсюду, где обращаются зародыши”. Но, не отказываясь от сладости любви, он пожелал власти. Под Ясенем Мира журчал источник, струи которого, протекая, нашептывали мудрые речи. Чтобы напиться из этого источника премудрости, бог отдал в залог один из своих глаз. Потом, срезав с Ясеня Мира священную ветвь, он сделал себе из нее копье; острие этого чудесного оружия дает ему власть; на древке его вырезываются руны верности, закрепляющие божественные договоры. Силою этого копья Вотан владеет миром: он предписал законы великанам, покорил Нибелунгов, подчинил своей власти все злотворные силы. Другими словами, выражаясь без метафор, Вотан уже не довольствуется, как прочие создания, следованием своему инстинкту, подчинением себя закону любви. Он приобретает знание, которое с этих пор должно будет руководить им в жизни. Затем через знание он достигает власти; он подчиняет мир справедливости и закону. Наконец, он хочет избавить себя и свое создание от общего для всей жизни закона, от закона перемены и смерти; он хочет вечной власти и с помощью великанов воздвигает величественный дворец Валгаллы, который господствует над миром и который должен навсегда упрочить его всемогущество.
Но власть Вотана зиждется на зыбком основании. Он не заплатил настоящей платы за свою новую славу. В самом деле, тот, кто хочет власти, должен отказаться от любви. Так хочет судьба вещей. Вотан же не отказался от любви. Он твердо обещался великанам, что отдаст им в вознаграждение за их труд Фрею, богиню юности и любви; сам же решил в сердце обойти это обещание; хитрый Логе, дух огня, дух лукавства и зла, обещал ему найти средство сохранить богам Фрею.
Между тем в недрах земли злобный и страшный гном Альберих, из племени Нибелунгов, или духов ночи (Schwarzalben), совершил жертвоприношение, от которого отказывался Вотан. Он проклял любовь и ценою этого ужасного отречения смог похитить у ундин бесподобный вверенный им клад — Золото Рейна. Это сокровище, до того дня спавшее на дне реки, сверкающее и ненужное украшение мрачных вод, сейчас же делается в руках честолюбивого гнома грозным орудием: мрачный Нибелунг выковывает из него Кольцо, с которым он может стремиться к мировому наследию. Силою этого Кольца он порабощает своих братьев-Нибелунгов: принуждает их собирать в его пользу несметные богатства; сильный этим неисчерпаемым кладом, он твердо надеется со временем властвовать над богами и богинями, поработить их обаянием золота и заставить покориться его игу, проклясть любовь. Но Вотана извещает о делах Альбериха Логе. На желание бога сдержать свое обещание и освободить Фрею из рук великанов Логе отвечает, что во всем свете одно только благо может вознаградить их за утрату женщины: это — Золото Рейна, ради которого Альберих проклял любовь. Великаны сейчас же требуют этого золота в выкуп за Фрею. С помощью Логе Вотану удается захватить Альбериха и принудить его выдать сокровища и Кольцо. В отчаянии Нибелунг произносит над этим Кольцом, добытым ценою проклятия, самое страшное из проклятий: пусть оно зажжет алчность у всех — без выгоды для кого-либо, пусть оно будет причиною отчаяния и смерти каждого, кто коснется его рукой.
Между тем Вотан отдает великанам, в качестве выкупа за Фрею, клад Альбериха. Он хотел было сохранить для себя Кольцо, символ всемогущества. Но великаны требуют, чтобы вместе с прочим было отдано им и Кольцо; и Вотан, извещенный таинственным видением Эрды об опасности, которая грозит роду богов, если он упорно будет хранить роковое Кольцо, после печального спора уступает и отказывается от этого залога верховной власти. Первая несправедливость совершена. Для того, чтобы всеобщий порядок был восстановлен, Вотан должен бы был возвратить Золото Рейна ограбленным ундинам, скорбные жалобы которых поднимались до чертогов богов. Вместо того, чтобы совершить этот акт справедливости и любви, Вотан сначала пожелал Кольца для себя самого, потом, не имея возможности сберечь его, он отдал его великанам взамен Фреи. Итак, Вотан расплатился за Валгаллу, гарантию и видимый знак своей власти, проклятой платой. Царство его плохо упрочено, потому что основано на несправедливости, власть его ненадежна, ибо доколе золото не будет возвращено глубинам Рейна, Вотан может опасаться, как бы Кольцо не попало опять в руки его соперника Альбериха и не принесло бы последнему вновь то могущество — большее, чем могущество самих богов — которое он было стяжал, проклиная любовь.
Следовательно, Вотан должен будет поплатиться за свои мечты о власти, о бессмертии и всеведении. Раздвоенный стремлением к любви и нечистым желанием Золота и всемогущества, он скоро окажется опутанным непроходимой сетью противоречий — до того самого момента, когда, одолеваемый скорбью, разочарованный в своих делах, бог поднимется до последнего отречения и осознает высшую необходимость смерти-освободительницы.
Сначала его блаженное состояние начинает смущать страх. Вотан захотел знать, он напился из источника познания. С того времени он уже не живет только настоящим моментом, как инстинктивное существо, но взвешивает свои дела, старается проникнуть за покров будущего. И это-то знание, которое должно было упрочить его власть, делается для него источником слабости, позволяя ему предвидеть в далеком будущем грозные опасности. Всевидящая Эрда смущает его сердце туманными и грозными предсказаниями. Она — “древний дух негибнущей вселенной”, “изначальная мудрость мира” она знает настоящее, прошедшее и будущее, она ведает “тайны бездны, тайны гор, тайны долин, тайны воздуха и волн; нет существа, в котором бы не обитал ее дух; нет головы, которая не думала бы ее мыслью”. Она спит, покрытая инеем, на самой глубине вечной бездны; “ее сон — мечтание, ее мечтание — мысль, ее мысль — область знания” и пока она размышляет, дочери ее, норны, благоговейно вплетают в нить судеб ее вечную мысль. Очевидно, Эрда — ничто иное, как туманное сознание той слепой Необходимости, которая, по философским воззрениям Вагнера, управляет вселенной. Навсегда скрытая от всех созданий, живущих настоящим и подчиняющихся инстинкту, она открывается только Вотану, который захотел знать и предвидеть. И вот ее пророчества, полные туманных угроз, вонзают жало заботы в сердце бога. Он называет ее “Первой заботой”, “Матерью первого страха”. Знание наполняет его боязнью позорно поддаться какому-нибудь врагу. Он страшится конца, и этот страх делает его эгоистом; с этих пор он управляет всеми делами его, отнимает у него навеки мир души и подавляет в нем радости, которые вкушают те, кто свободно отдаются своему инстинкту без притязаний на то, чтобы исправлять судьбу или приподнимать завесу с будущего.
Лишившись через свое знание блаженства, Вотан, сверх того, в своей свободе является стесненным теми законами, которые сам он наложил на мир. Если благодаря договорам, обеспеченным рунами, вырезанными на древке копья, он властвует над миром, то сам он, в свою очередь, пленник этих договоров. Он отдал великанам клад Альбериха и Кольцо как плату за их труды; он связан этим договором. Он ничего не может предпринять против великанов; ему запрещено взять у них обратно ту плату, которой он расплатился с ними, ибо если он и представляет собою нечто, так это в силу тех же договоров, которые он заключил, и древко его верховного копья сломалось бы в его руке, если бы он нарушил свою клятву. Следовательно, все его мужество, вся его власть совершенно бессильны в том, чтобы каким-либо образом загладить первую несправедливость, чтобы отнять у великанов Кольцо Нибелунга.
Все усилия, которые он прилагает к тому, чтобы избежать своей участи, только отягчают его скорбь. Охваченный страхом от грозных предсказаний Эрды, он преследует ее до недр земли, чтобы вырвать у нее ее тайну. Побежденная силой его любви, встревоженная в своем гордом знании, богиня уступает Вотану: она дарит бога девятью детьми, валькириями, дщерями его желания; сверх того, она предрекает ему будущее. Толпы Альбериха, говорит она, угрожают могуществу богов; опьяненный от злобы Нибелунг жаждет мщения, и если когда-нибудь он снова достанет Кольцо, Валгалла погибнет. Со своими мрачными толпами поднимется он на приступ к замку богов; силою Кольца отвлечет от Вотана героев Валгаллы и заставит их соединиться на его дело — тогда наступит конец Блаженных.
Чтобы отвратить эту опасность, Вотан ищет помощников среди человеческого рода, который до сих пор он заставлял, по своему деспотизму, пассивно гнуть голову пред лживыми договорами. По его приказанию валькирии зажигают мужество в груди людей; войной, тяжелыми приключениями они приготовляют племя героев, способных в час борьбы защитить Валгаллу. Сам Вотан, под именем Вельзе, соединяется со смертной и производит на свет двух людей-близнецов: Зигмунда и Зиглинду; с сыном своим Зигмундом он рыщет, под видом волка, по лесам, закаляя бесчисленными испытаниями тело и душу юного героя: он надеется, что когда-нибудь Зигмунд будет в состоянии совершить воспрещенный богам подвиг, умертвит того великана, который, под видом дракона Фафнера стережет в своей пещере клад и Кольцо Нибелунга и таким образом навсегда разрушит надежды Альбериха. — Тщетная надежда! — Уже Зигмунд превосходит отвагою всех людей; однажды, после неравной борьбы, преследуемый врагами, раненый и обезоруженный, он укрывается у своего врага Хундинга; узнанный Хундингом, он думает, что ему ничего не остается, как только умереть; но в хижине врага он находит свою сестру Зиглинду, выданную против воли замуж за ненавистного ей Хундинга; она указывает брату на победоносный меч, Нотунг, некогда обещанный ему Вельзе; затем оба Вельзунга соединяются во взаимной любви и убегают вместе, преследуемые Хундингом.
В предстоящем бою Вотан хотел было дать победу Зигмунду. Но жена его Фрика — против такого решения. Хранительница обычая, она протестует во имя попранной морали против кровосмесительной связи брата с сестрой; она требует смерти Зигмунда. И когда Вотан пытается спасти любимого своего героя, она убедительно доказывает ему, что Зигмунд не может совершить того подвига, которого ждет от него бог. Если и храбр он, то храбростью этой он обязан Вотану; бог вложил в его сердце смелость и гордость; он воспламенил его дерзость против божеских законов; он направил его шаги в хижину Хундинга; наконец, он в час нужды вложил в его руки победоносный меч. Следовательно, Зигмунд есть только создание Вотана; не более своего отца он имеет право напасть на Фафнера и взять назад Кольцо. И вот побежденный бог может лишь склонить голову, проклиная законы, которые сам же он создал и рабом которых он является в настоящее время: “своей же цепью скован я: всех я меньше свободен!” Зигмунд погибнет.
Тогда в душе бога, измученной бесконечным отчаянием, поднимается чувство, которое одно может избавить его от тоски: отречение, добровольное принятие смерти. С этих пор он не видит никаких средств бороться против судьбы. Как мог бы он, в самом деле, произвести существо, истинно свободное существо, которое было бы отдельно, независимо от него, но при всем том способно обратно добыть Кольцо и таким образом исправить первоначальную несправедливость. “Позор богов! Постыдная скорбь! Противно — вечно во всем, что творю я, себя самого находить. Другого, вот чего ищу я, другого, чем я; напрасно! Ведь независимое существо должно само себя создать, я же могу создавать только рабов!”
Итак, Вотан в силу проклятия, которое висит над всяким, кто касался Кольца Альбериха, видит себя осужденным неумолимой судьбой на неудачу в своих планах. “Я должен покинуть того, кого люблю; убить, кого я люблю, изменить ему, лгать в слове, к которому он имеет веру! Прощай же, слава верховного сана! Ослепительное бесславие божеского величия! Пусть рушится все, что я воздвиг. Я отвергаю свое создание! Я ничего больше не хочу, только конца! конца!” И Вотан, измученный сознанием своего бессилия, одолеваемый ужасным желанием похоронить под развалинами разрушенного мира свою неизлечимую муку, с болью в сердце благословляет будущего владыку мира Хагена, сына Альбериха, рожденного в ненависти Нибелунгом так же, как Зигмунд рожден в любви богом: “Прими же привет мой, Нибелунгов сын! Полный к нему глубокого отвращения — я передаю тебе этот ничтожный блеск богов; ты можешь насытить им свою ненасытную злобу!”
Последнее испытание вконец сокрушает гордость Вотана. Он приказывает валькирии Брунгильде, наперснице в его самых потаенных мыслях, любимейшей дщери его желания, убить Зигмунда. Но Брунгильда, охваченная любовью и жалостью и уверенная в том, что, помогая Зигмунду, она исполнит истинную волю своего отца, не повинуется приказанию Вотана. Она пытается дать победу сыну Вельзе; сам Вотан должен был своим копьем разбить тот меч, который дал он Зигмунду, и оставить его без защиты под ударами Хундинга. К скорби об убийстве любимого сына у Вотана присоединяется гнев при виде самой любимой дочери, восстающей против его приказаний и оказывающей неуважение к его власти. Он поражает вероломную ужасной карой: “Ты была только волей моей, против нее ты захотела идти; ты была желанием моим, ставшим девой; наперекор ему ты решила; дева, носительница щита моего, против меня понесла ты его; ты располагала за меня жребием; наперекор мне ты избрала его; твоя душа вдохновляла героев моих, и на меня ты их подняла! Чем ты была, сказал тебе Вотан; чем стала теперь, решай сама! Ты уже не дочь моего желания; валькирией больше не будешь: будь же отныне тем, чем ты еще остаешься... Ты исключена из сонма богов, отнята от вечного ствола... На этой горе я оставлю тебя, — без защиты, во сне; здесь я закрою глаза твои. Первому человеку достанется дева, первому человеку, который найдет ее на своем пути и пробудит”.
Однако Вотан смягчается мольбами дочери; гнев покидает его и уступает место безмерному унынию. Он знает, что Брунгильда — только часть его самого: она — его любовь к доблестному Человеку, которого он хочет поразить из повиновения теперь ненавистному для него закону; она — его “лучшее Я”, которое он только что должен был принести в жертву настоятельным требованиям своего разума. Он не может отдать ее слабому, недостойному, не умалив себя самого. Итак, он отгонит от той скалы, где почивает его дочь, всякого человека, доступного страху. Вокруг спящей Брунгильды поднимется стена пламени, непроходимая для тех, кто только боится копья бога; никто не может добыть валькирию, если он — не герой, более свободный, чем сам Вотан. Человек избранный — один только может спасти мир. И вот когда Вотан снимает поцелуем божество с Брунгильды и кладет спящую деву на покрытый мхом холм, где, скрытая широкими ветвями ели, под доспехами валькирии, она будет ждать освободителя, которому суждено пробудить ее, — то в действительности он опускает в могилу свою собственную душу, свое собственное желание жизни.
С этих пор он отказался от мечты о могуществе и бессмертии. Он уже не хлопочет, уже не сопротивляется. Он уже ничего не предпринимает, чтобы отвратить ту катастрофу, которая положит конец его царствованию; он ходит в мире под видом путника, пассивного зрителя событий, которые развертываются на земле и подготовляют новый порядок вещей. Спокойствие водворилось в его сердце. Теперь он уже не страшится знания Эрды: “Конец богов, — объявляет он пророчице, — мало пугает меня, когда я стремлюсь к нему, когда я хочу его! То, что некогда в разгаре острой скорби и отчаяния я решил, — ныне свободно, с радостью и спокойствием я привожу в исполнение”.
Вотан постиг вечный закон эволюции, правящий миром: все, что существует, должно родиться, расти, любить, размножаться и умирать — боги так же, как и люди. С этих пор он подчиняется всеобщей Необходимости уже не со скорбью, как в то время, когда с болью в сердце он приносил в жертву злобной Фрике Зигмунда и горько приветствовал в сыне Нибелунга будущего владыку мира, — но с радостной покорностью, с мужественным приятием неизбежного. Он уже не мятежник, а покорный; он уже не отрицает, не проклинает жизнь, а утверждает, он хочет более не существовать. Боги исчезнут в вечной ночи, но Человек будет жить и воцарится на их месте. Зигфриду, сыну Зигмунда и Зиглинды, герою свободному и бесстрашному, который ничем не обязан богам и не получил от них ни совета, ни помощи — ему завещает Вотан свое наследство. Он вырвет у дракона Кольцо Нибелунга, он пробудит усыпленную Брунгильду. Соединившись в любви, они совершат дело освобождения и искупления мира и возвратят дочерям Рейна Золото, которое некогда было похищено у них. Теперь Вотан победил заботу и снова обрел свободу. С этих пор он властвует над Эрдой, ибо знание всевидящей останавливается там, где начинается свободная воля — воля, поднявшаяся до желания всеобщего порядка. Необходимость, а не Мудрость управляет миром; а Вотан, через свое свободное приятие участи, слился воедино с этой Необходимостью.
Однако стремление к власти последний раз пробуждается в нем. Он встречается с Зигфридом, победителем дракона; герой, размахивая мечом, который он выковал себе сам из обломков меча Зигмунда, скоро перейдет через ту огненную преграду, которая охраняет Брунгильду. При виде его ревность пробуждается в Вотане: он хотел бы остановить бесстрашного юношу, помешать ему проникнуть к валькирии; он не может согласиться без борьбы уступить любви смертного ту, которая была дочерью его желания. Когда он не видит никакого уважения к себе со стороны Зигфрида, в нем вспыхивает ярость: он не хочет быть отброшенным в сторону тем, кто должен заменить его; он хочет померяться с ним и умереть, по крайней мере, с оружием в руках; он хочет сразиться — вопреки высшему решению, — он мечтает даже о победе, о победе, которая разрушила бы навсегда его надежды. Он размахивается вечным Копьем, которое в былое время раз уже разбило меч, дарованный им Зигмунду. Но Зигфрид владеет им только от самого себя и разбивает в осколки божественное оружие. Побежденный бог без сожаления уступает место победоносному “вечно юному” Человеку: “Иди же! — восклицает Вотан. — Я не могу удерживать тебя!”
И вот Вотан поднимается в Валгаллу, держа в руке своей обломки разбитого копья. Знаком он дает приказание своим верным срубить высохший ствол Ясеня Мира и воздвигнуть вокруг дворца богов гигантский костер. Вот он садится на свой трон; по сторонам уселись трепещущие боги, вокруг них герои Валгаллы заполняют зал. Нить норн оборвалась, вечное знание пришло к концу; сивиллы уже ничего не имеют сказать миру. Сейчас сама судьба будет говорить. Безмолвный, недвижимый и суровый, Вотан, сидя на своем божественном троне с разбитым копьем в руках, ждет конца. “Пара его воронов посланы с поручением: если когда-нибудь они вернутся с доброй вестью, то еще раз — последний раз — бог улыбнется”.
С этих пор, убежденный в близости конца богов, Вотан сосредоточивает свое внимание на последней драме, что разыгрывается на земле. Будущее вселенной в руках человеческих. Если Брунгильда и Зигфрид исполнят последнюю волю Вотана и возвратят Кольцо дочерям Рейна, то закон любви воцарится на земле и грядущие поколения заживут в радости. Но если Кольцо попадет в руки ужасного Альбериха, злоба восторжествует в мире, навсегда порабощенном гибельной властью золота. Вокруг трупа убитого Зигфрида, под покорным взором утомленного жизнью бога будет ликовать счастье или несчастье мира. Наконец Брунгильда слышит желание своего отца. Очищенная скорбью, душа ее открывается для созерцания высших мировых законов.
Она возвращает Кольцо глубинам Рейна, зная, что этим она исправит первоначальную несправедливость и даст владыке богов покой смерти, к которому он стремится: “Все — восклицает она — я знаю, все! Да, все мне стало ясно; я слышу шум крыльев твоих воронов: вот я посылаю к тебе их обоих — носителей желанной вести, столь скорбно желанной! Умри спокойно, бог!.. Ruhe, ruhe, du Gott!” В то время, как вороны летят в Валгаллу, валькирия, прежде чем броситься в пылающий костер Зигфрида, возвещает оставшимся в живых от великой резни будущий закон вселенной. “Племя богов ушло, как дыхание; мир, который оставляю я, отныне без властителя: сокровище знания моего я отдаю миру. Ни богатство, ни золото, ни величие богов, ни дом, ни двор, ни блеск верховного сана, ни лживые узы жалких договоров, ни строгий закон лицемерной морали — ничто не сделает нас счастливыми; и в скорби, и в радости сделает это только одна любовь”. И вот когда все герои человеческой драмы — Зигфрид и Брунгильда, Гунтер и Хаген — погибли в охваченной пламенем Валгалле, посреди багрового сияния неба, на котором как бы разгорается северное сияние, в последний раз показывается герой великой трагедии мира, Вотан, который с успокоенной душой, “улыбающийся улыбкой вечности”, погружается в Сумерки богов.
4. Характеристика Зигфрида. — Высшая мудрость Зигфрида. — Зигфрид и Брунгильда. — Зигфрид отдает кольцо Брунгильде. — Зигфрид делается изменником Брунгильды. — Искупление мира Брунгильдой.
“Мы должны научиться умирать, — писал Вагнер своему другу Рекелю, — умирать совершенно, в полном смысле этого слова...” Вотан поднимается на трагическую высоту отречения до желания своего уничтожения. И вот — все, чему должна научить нас история человечества: желать неизбежного и добровольно выполнить его. Самое последнее произведение этой самоуничтожающей себя высшей воли — пришествие человека, который не знает страха, который действует всегда любовью, — пришествие Зигфрида. Таким образом, драма Зигфрида, по мысли Вагнера, есть естественное заключение трагедии Вотана и по смыслу вытекает из этой трагедии. Отречение бога есть необходимое условие триумфального появления юного героя. Вотан отрекся от всякого эгоистического желания, бросил всякую мысль о власти, избавил человечество от всякой заботы, поэтому и мог родиться человек свободный и без страха, который самопроизвольно исправляет ошибку богов и делает возможным на земле пришествие царствия любви. Вотан приготовил, предвидел, сделал возможным появление Зигфрида; следовательно, герой является некоторым образом исшедшим из его желания так же, как валькирия Брунгальда является дочерью его желания. И если в Зигфриде Вотан едва показывается на сцене, если в “Сумерках богов” он появляется только в финале апофеоза, восседая на троне посреди богов, в охваченной пламенем Валгалле, если как в первой, так и во второй пьесе он не оказывает никакого непосредственного влияния на ход событий, то все же дух его невидимо и безмолвно управляет всем действием. Зигфрид и Брунгильда являются некоторым образом как бы воплощениями бога: в них расцветает, молодеет, очищается, возрождается лучшая часть души Вотана.
Таким образом, Зигфрид и Вотан представляют собою непрерывное последование поколений, постоянный контраст между бытием возрастающим и бытием, клонящимся к концу. Вотан — это человек уже созрелый, который на склоне дней своих покоряется закону перемены и становится выше правящего миром рока, свободно совершая то, что предписывает ему необходимость. Зигфрид — это лучезарное и смеющееся, уверенное в своей силе и верящее в свою звезду юношество, которое стремится к завоеванию мира, сокрушая по пути одним мановением руки злотворные и состарившиеся силы, загораживающие ему дорогу. Все уступает его юной силе: он справляется с грубой силой дракона Фафнера, он разрушает козни изменника Миме, он не останавливается ни пред копьем Вотана, ни пред огнем, пылающим вокруг скалы Брунгильды. И вот все склоняется пред всемогущей очаровательностью, разливающейся вокруг него: Брунгильда и Гутруна при виде его воспламеняются любовью, Гунтер обменивается с ним клятвами в дружбе, сам чудовищный Фафнер, грубый и мрачный страж Кольца, не может избавиться от этого чудного очарования, исходящего от лучезарного победителя, не может оторвать от него своего умирающего взора, — без злобы, полного какого-то темного удивления, и, прежде чем издохнуть, предостерегает своего убийцу от опасностей, которые грозят ему.
С малолетства Зигфрид обладал полной самопроизвольностью. Вотан захотел напиться из источника мудрости и руководиться советами высшего разума; Зигфрид, напротив, всегда повинуется первоначальному закону инстинкта. Он живет в единении с природой; он понимает таинственный шепот леса, внимает щебетанию птиц и старается подражать им; он чувствует себя близким лесным зверям, любит их, следит за ними в их убежищах в глубине дикой чащи: наблюдая за ними, он догадывается, что такое любовь, и желает узнать о своей матери. У него нет другого проводника в жизни, кроме импульсов его природы: “следовать внушениям моего сердца, — говорит он, — вот мой высший закон; то, что я совершаю, повинуясь своему инстинкту, то я и должен делать. Проклятый ли для меня этот голос или святой — я не знаю, но уступаю ему и никогда не стараюсь идти против моего желания”. Так вот почему он действует всегда без боязни, без колебаний, без долгих размышлений, без заботы о прошедшем и будущем, живя всецело ощущением настоящего. В то время как Вотан, который слушается своего разума и своего знания, задавлен заботами и трепещет пред грозными предсказаниями Эрды, Зигфрид не знает страха.
Напрасно Миме хотел бы научить его этому: он не боится ни тревожной таинственности темного леса, ни отвратительного дракона, ни копья Вотана, ни охраняющей Брунгильду стены пламени; он не дрожит ни от советов Фафнера, предостерегающего его от неразлучного с кладом проклятия, ни от предсказаний дочерей Рейна, возвещающих ему, что он умрет, если не отдаст им Кольца, которое он носит на пальце. Таким образом он переживает жизнь, счастливый, спокойный сердцем, никогда не задеваемым заботами, которые смущают души, одолеваемые честолюбием и преисполненные тоски пред тем, что принесет им с собою будущее. В то время как Вотан истощает себя в бесплодных мечтах о власти и о вечности и сам разрушает свою собственную свободу, связывая себя лживыми договорами, — Зигфрид ограничивается тем, что следует закону Необходимости. Она приказывает ему, как всем существам, пользоваться своими силами и любить, она толкает его к приключениям и влечет его к женщине. Bo всех случаях жизни он сохраняет свою внутреннюю свободу неприкосновенной, ибо его воля всегда пребывает в согласии с мировым законом. Итак, он достигает высшей мудрости — мудрости, которая не обдумывает, не вычисляет, но непосредственно выражается в действии.
В самом деле, Зигфрид — наивен, но не бессознательно; он, как пишет Вагнер Рекелю, “самый совершенный человек, которого я могу себепредставить” он — далеко не игрушка слепой необходимости; он знает, что делает; он действует в полном сознании самого себя и вселенной. Нигде эта высшая мудрость так хорошо не обнаруживается, как в сцене между Зигфридом и дочерями Рейна, когда последние сначала с ласками и насмешками, потом с угрозами просят у него Кольцо Нибелунга, которое он носит на пальце и которое скоро станет причиной его гибели. Хотя Зигфрид и знает про магическую силу этого талисмана, однако совсем не дорожит им; по своему великодушию он охотно отдал бы его дочерям Рейна, чтобы удовлетворить их каприз; но раз они угрожают и стараются запугать, предрекая ему близкую смерть, он сохранит Кольцо как доказательство того, что он не знает еще страха.
В самом деле, для него мало значит смерть, неизбежная для каждого создания; никогда боязнь конца не заставит его отречься от своего внутреннего закона: “Мировым наследством охватило меня Кольцо, — говорит он ундинам, — для любви я охотно отказался бы от него; я отдам его вам в обмен за поцелуй. Но угрозами моему телу и моей жизни вы не вырвете у меня этого Кольца, хотя бы оно и не стоило одного мизинца! Ибо свое тело и жизнь — лучше, чем отречься от любви и заковать их в оковы страха — свое тело и жизнь — смотрите! — вот так, бросаю их далеко от себя!” Вот в чем секрет храбрости, веселости, высшей свободы Зигфрида; он не стремится, как Вотан, к вечно Равно как в Зигфриде оживает “лучшее Я” Вотана, так в Брунгильде продолжается непреодолимое стремление бога к любви.
Брунгильда, как мы сказали, дочь Эрды и Вотана; от матери она унаследовала высшую мудрость, от отца — волю. “Никто, — говорит Вотан, — не знал так, как она, моей потаенной мысли! Никто, как она, не понимал так источника моей воли; она сама была творческим чревом моего желания”. Когда Вотан, терзаемый ужасным отчаянием, видит себя вынужденным отказаться защищать Зигмунда, — изменить герою, возлагавшему на него упование, следовательно, осушить в своем сердце источник любви, — Брунгильда остается верной первоначальной воле своего отца и становится на сторону закона любви против традиционной морали.
“Воинственная вестница Вотана, — говорит она в свое оправдание, — я видела то, чего не мог видеть ты: я должна была так же видеть Зигмунда. Я шла возвестить ему смерть и встретила взор героя; я услышала голос его, я поняла величественную скорбь его! Эта скорбная жалоба в устах храброго, это ужасное отчаяние свободнейшей любви, эта высшая твердость истерзанного сердца раздавались в ушах моих, ясно открывая глазам моим причину священного трепета, которым полна была моя душа в своих основаниях. Изумленная, потрясенная, стояла я пред ним в смущении и могла думать разве только о том, как бы помочь ему”.
То стремление к любви, которое Вотан — и ценою какой мучительной жертвы! — изгнал из своего сердца, воплощается, таким образом, в Брунгильде, которая восстает против условного, предписанного миру честолюбием Вотана закона, и тем самым добровольно становится вне племени богов; ибо Вотан может только покарать Брунгильду так же, как он должен был осудить Зигмунда, и закрыть свое сердце для любви. Но в своем восстании валькирия освобождает себя — делается свободной и независимой личностью вместо того, чтобы быть только рефлексом желания Вотана. С этих пор она живет сама по себе, подчиняется собственному своему закону так же, как Зигфрид, которого она спасла от смерти, защитив его мать Зиглинду от бешенства Зигмунда вначале и от Вотана потом; таким образом, она становится способной принять участие в великом деле искупления, которое должно совершиться помимо Вотана и богов Валгаллы.
Встреча Зигфрида с Брунгильдой, мужа с женой, есть решительный момент в этом деле спасения. Она отмечает пришествие на землю Человечества. В самом деле, ни Зигфрид, ни Брунгильда не могут в отдельности осуществить человеческий идеал; в действительности они — только две половины человечества. Только благодаря их слиянию в любви может родиться полный и совершенный человек (Mensch). Через любовь, которая воспламеняет их друг к другу и сливает в одно существо, каждый из двух влюбленных постоянно пребывает в другом, как это выражает Вагнер в прекрасном диалоге, которым заканчивается пролог в “Сумерках богов”.
Брунгильда. О, если б Брунгильда твоею душою была!
Зигфрид. Храбрость моя пламенеет ей!
Брунгильда. И был бы ты вместе и Зигфрид, и Брунгильда.
Зигфрид. Где я, там оба живем мы!
Брунгильда. Опустеет скала — приют мой!
Зигфрид. Только делая одно, здесь мы будем оба.
Брунгильда. О боги державные! Высшие существа! Насытьте взор ваш святою четой! Вдали друг от друга — кто разлучит нас? В разлуке друг с другом — кто удалит нас?!
Зигфрид. Слава тебе, Брунгильда! Ясная звезда! Слава любви лучезарной!
Брунгильда. Слава тебе, Зигфрид! Победоносный свет! Слава жизни лучезарной!
Полный человек, наследник богов родился. Ему остается еще только совершить дело избавления, основать вечное царство любви, сделав навсегда невозможным царство золота и эгоизма, путем возвращения Кольца Албериха дочерям Рейна. Кажется, ничто уже не препятствует этому, потому что Кольцо находится в руках Зигфрида, победителя Фафнера... И однако дело искупления вдруг становится невозможным. Зигфрид отдает Кольцо Брунгильде как залог их неразрушимой связи. Таким образом, ужасной судьбой — и в этом видят самое трагическое действие произнесенного Нибелунгом проклятия — проклятое Кольцо делается тем же символом любви. С этих пор никакая сила в мире уже не может заставить Брунгильду расстаться с ним.
Напрасно валькирия Вальтраута спускается к ней, чтобы открыть ей верховную волю Вотана: “Пусть она возвратит Кольцо дочерям глубокого Рейна, бог и мир были бы освобождены от тяжести проклятия”. Брунгильда знает только одно: чтобы следовать закону любви, она отделилась от Вотана, она отказалась от божественности; любовь для нее — единственный закон, единственный бог; Кольцо, данное Зигфридом, для нее —залог их любви, и, следовательно, она не может пожертвовать им ради Вотана. “Для меня это Кольцо, — отвечает она Вальтрауте, — дороже радостей Валгаллы, дороже славы бессмертных; один только блеск его священного сияния дороже для меня, чем свершение счастья богов, всех богов! Ибо в нем блаженно сияет глазам моим Зигфрида любовь... Ступай отсюда к священному сонму великих богов; вместо Кольца вот что передай им: нет, от любви никогда я не отрекусь! Никогда от любви им не оторвать меня — пусть рушится слава Валгаллы!”
Проклятие, которое лежит на Золоте, так же касается и Зигфрида. Без сомнения, оно не обрушилось на него с тою же тяжестью, как на Вотана. Бог протягивал к Кольцу жадную руку; он чувствовал — по крайней мере один момент — жажду Золота. Следовательно, на нем проклятие имело свое полное действие; яд эгоизма коснулся души Вотана: он узнал страдания сердца, раздвоенного стремлением к любви и желанием вечной власти; несчастия, которые поражают его, являются логическим следствием той внутренней борьбы, которая раздирает его душу.
Напротив, душа Зигфрида чиста; она не знает ни страха, ни зависти и всецело полна любви; следовательно, проклятие Альбериха не имеет над ней власти, по крайней мере до известной степени; ибо если герой и знает свойство Кольца, то, по невинности своего благородного сердца, он не может понять, к чему могла бы пригодиться та сила, которая так достается ему. Поэтому проклятие не касается Зигфрида с его внутренней стороны, как Вотана, а только с внешней. Он так же, как Брунгильда, станет жертвой непреклонной судьбы, обрушивающейся без милосердия на всех тех, кто дотрагивается до проклятого Золота, даже на лучших; он погибнет безвинно, приняв на себя грех богов и искупив его своей смертью. “О вы, святые хранители клятв, — восклицает Брунгильда пред тем, как ей броситься в костер Зигфрида. — Взгляните на мое горе! Взгляните на вечный ваш грех! Услышь мою скорбь, ты, величайший из богов! Дав герою свершить отважнейший подвиг, ты обрек его мрачной власти разрушения: мне, мне изменить обречен был он — чистейший из чистых, — для того, чтобы жена могла знать и понимать!”
Ведомый этой жестокой, порожденной проклятием Альбериха судьбой, Зигфрид, покинув Брунгильду, направляется к владениям Гунтера; принимает из рук Гутруны любовный напиток, дающий забвение; тотчас же влюбляется в юную девушку и, чтобы получить ее руку, предлагает Гунтеру добыть для него Брунгильду. Не ведая и не желая того, он делается изменником всех своих клятв. Без сомнения, это очарование Зигфрида при помощи любовного напитка, быть может, в известной степени символическое: оно представляет собою, как это часто указывается, непреодолимое обаяние, оказываемое женщиной на естественного человека, который всецело отдается настоящему чувству и в опьянении настоящей любовью теряет всякое воспоминание о прошлом; в этом смысле Брунгильда имеет основание говорить: “В чрезмерных страданиях я ясно вижу все: очарование, пленившее моего супруга, — Гутруна”. Однако известно, что Зигфрид, по мысли Вагнера, не виновен в этом; он изменяет своим клятвам не для удовлетворения прихоти чувств, но он — невинная жертва судьбы, действующей на него извне, без всякого сознания с его стороны, — судьбы, в которой он неответственен и причину которой Вагнер видит в злосчастной силе золота над всей вселенной.
Итак, Зигфрид обещает добыть Гунтеру Брунгильду, исчезнувшую из его памяти. Под волшебным шлемом-невидимкой, придающим ему черты лица Гунтера, он без труда проходит сквозь пламя, подходит к растерявшейся валькирии, несмотря на ее сопротивление, силою снимает с ее пальца Кольцо и предает ее, беззащитную, настоящему Гунтеру, так что она не могла заметить подлога. Бессильная, потому что Зигфрид отнял у нее Кольцо, между прочим и потому, что она потеряла свое божеское достоинство, Брунгильда может только отдаться обрушившейся на нее судьбе. Напрасно она старается проникнуть сквозь мрак непроницаемой тайны, которая окружает ее и в которой разум ее сбивается с пути: другой, кроме Зигфрида, преступил стену пламени! Кто-то другой, кроме него, принуждает ее разделить с ним ложе! А этот другой, в действительности, сам Зигфрид, которого она почти что угадала во время борьбы, инстинктивно и в полусознании, по его сверкающим глазам под скрывающим его шлемом. Она чувствует, что все шатается вокруг нее; связанная с Зигфридом, обещанным ей самой судьбой, она видит себя грубо разлучаемой с ним, видит себя добычей другого. И когда, немного спустя, она видит Зигфрида рядом с Гутруной, когда замечает на его пальце отнятое у нее Кольцо, когда она понимает коварство, которому она подпала, то все существо ее переполняется от гнева и отвращения. Жизнь для нее не имеет уже цены: как могла бы валькирия вынести мысль быть супругой слабого, видеть рядом с собою Зигфрида — единственного героя, достойного ее, настоящего ее супруга, который позабыл о прошлом и счастлив от любви Гутруны. Одна смерть может если не исправить, то по крайней мере положить конец такой ужасной несправедливости, совершенной судьбой. Зигфрид должен будет умереть.
И когда злоба сделала свое дело, когда Зигфрид пал под ударами Хагена, когда колдовство, которое держало в плену душу героя, рассеялось, и когда с последним вздохом он видит свою “святую невесту” улыбающуюся ему пред смертью, тогда Брунгильда, с успокоенной, очищенной скорбью душой, может наконец совершить дело, которое смывает первоначальную несправедливость. Она стала “видящей”, она поняла вместе с тайной своей сульбы тайну судьбы мира. Она снимает с пальца Зигфрида Кольцо Нибелунга — то роковое Кольцо, в котором некогда она видела символ любви и всю печальную силу которого она теперь знает. Она знает, что страданиями своими искупила вместе с Зигфридом и первоначальный грех Вотана; что она может смертью своей освободить мир от причины всякого эгоизма и всякой злобы. И вот свободно, действием сознательной любви, она возвращает Кольцо, очищенное огнем костра Зигфрида, дочерям Рейна. Старый мир гибнет в пламени, боги умирают, небо свободно, благороднейшие из героев погибли, но Человек освобожден от власти золота и эгоизма, и на земле, преображенной самоотверженностью Брунгильды, может теперь наступить царство любви.
5. Общая идея тетралогии. — Тенденция оптимистическая и пессимистическая.
Мы полагаем, было бы чересчур смело и главным образом весьма неосновательно, если бы мы пожелали в одной формуле выразить “общую идею” “Кольца Нибелунга”. В этом столь необычайно сложном произведении можно встретиться со всем. В нем можно усмотреть, и не без основания, социалистические тенденции: Вагнер указывает там гибельные последствия жажды золота в мире с тех пор, как драгоценный металл вместо того, чтобы быть предметом наслаждения, как бесполезное “parure de la nature”, был употреблен как орудие власти и силы; он видит спасение в уничтожении денег и изображает капиталистов в мало привлекательных чертах злобного гнома Альбериха, сына его, мрачного и жестокого Хагена, или чудовищного дракона Фафнера, который валяется на своих богатствах и кричит из глубины пещеры, зевая: “Я лежу и владею, не мешайте мне спать!”
Не меньше основания будет утверждать, что “Кольцо” является пьесой анархической и революционной, ибо автор сильно осуждает власть обычаев, божеских и человеческих законов, которые он считает почти столь же пагубными для счастья мира, как жажда золота; он становится против Фрики, упрямой богини “обычая” и законных браков, на сторону Зигмунда и Зиглинды, воспламеняющихся кровосмесительной любовью; любовные отношения Зигфрида к Брунгильде точно так же могут быть легко истолкованы как оправдание свободной связи и эмансипации женщины; наконец, развязка тетралогии есть неоспоримое прославление революции: бог договоров, Вотан, побежден юным анархистом Зигфридом, и царство закона рушится в пламени, пожирающем дворец Гунтера и Валгаллу. Можно видеть в “Кольце” “языческие” тенденции, потому что Зигфрид есть идеальный тип счастливого жизнью человека, управляемого исключительно законом природы; “христианские”, потому что идея искупления ясно появляется в развязке, когда Брунгильда поднимается, как Парсифаль, до высшей мудрости и высшей жалости и совершает дело освобождения, полагающее конец царству зла в мире; “оптимистические”, потому что представители эгоизма и злобы побеждены, и царство любви основано среди людей; “пессимистические”, потому что Вотан, в конце концов, отказывается от желания жизни, и драма заканчивается смертью богов и героев.
Очевидно, невозможно привести к единству столь различные тенденции. Сам Вагнер собственным своим примером постарался показать, как было бы вредно искать какую-либо философскую систему в “Кольце”: он сам ошибся в понимании своей драмы. Мы увидим в ближайшей части отдела этой главы, что в то время, когда Вагнер обращается в 1854 году к доктрине Шопенгауэра, он замечает, что его драма, которую он истолковывал до того времени сам в оптимистическом смысле, сообразно со своими теориями относительно всеобщей эволюции, была на самом деле пропитана пессимизмом! Вот очевидное доказательство того, что “Кольцо” было построено по “интуиции”, по поэтической мысли, а не по философской формуле.
Однако, не впадая в ошибку, которая могла бы случиться при желании непременной систематизации, можно усматривать в “Кольце”, как мы сделали это раньше для “Тангейзера”, следы двух противоположных тенденций, соответствующих двум основным инстинктам, которые мы признали в Вагнере: тенденции “языческой”, или оптимистической, и тенденции “христианской”, или пессимистической.
“Кольцо” было задумано вначале как преддверие апофеоза прекрасного человечества; в то время Зигфрид занимал первое место в драме — Зигфрид, который живет, не заботясь ни о богах, ни о законах, управляемый единственно своими могучими инстинктами, счастливый жизнью и ожидающий счастья только от самого себя, свободный в высшей степени, ибо не боится смерти и, следовательно, знает, что никакая сила в мире не может заставить его согнуть голову.
Из всех действующих лиц Вагнера ни одно не является более откровенно и надменно “языческим” он чувственен, как Тангейзер, но при полной невинности и благодаря полной гармонии между его инстинктами и его волей он совершенно не знает печали, угрызений совести, аскетизма. Он — самое совершенное олицетворение того столь могучего инстинкта жизни, который Вагнер чувствовал кипящим в самом себе, и он наверное — одно из самых великолепных созданий его гения. Ницше, апологет “стремления к власти”, страстный поклонник эллинизма, Возрождения, Наполеона, находил, — и был весьма логичен по отношению к себе, — что Вагнер никогда, ни в какую эпоху своей жизни не создавал столь глубоко прекрасной фигуры, как фигура юного Зигфрида.
Но “Кольцо” не осталось драмой Зигфрида; мы видели, что с 1851 г. Зигфрид уступает первое место Вотану. Вотан же представляет собою одну из самых глубоко пессимистических фигур всего вагнеровского произведения. Хотя Вагнер и не знал теорий Шопенгауэра в тот момент, когда писал поэму своей тетралогии, но можно утверждать, что Вотан есть некоторым образом олицетворение той “Воли”, которую Шопенгауэр рассматривает как сущность мира: сначала Воля “утверждает себя”, потом, когда разум понял, что жизнь необходимо влечет за собой избыток страданий, она “отрицает себя” так поступает и Вотан, который после мечтаний о всемогуществе убеждается, что созданный им мир неисправимо плох, и добровольно погружается в ничто.
Следовательно, тип Вотана есть выражение идеала, диаметрально противоположного тому, который олицетворяет собой Зигфрид. Один воплощает в себе радость жизни, другой — разочарование, абсолютное отречение; один ищет спасения в самом энергичном утверждении существа, в свободном развитии всех сил, всех человеческих инстинктов, другой, напротив, в не менее абсолютном отрицании желания жизни, в стремлении к смерти-избавительнице.
Вагнер изложил эти два взгляда на жизнь с полной добросовестностью и совершенным беспристрастием. Ясно, что он очертил оба действующие лица с одинаковой симпатией, одинаково увлеченный и лучезарным героем, и страдающим и покорным судьбе богом. Он не захотел дать больше значения одному, чем другому. Он попробовал оправдать как точку зрения Зигфрида, так и Вотана. И со всем тем он почувствовал, что весьма трудно примирить в основании пессимизм с оптимизмом, аскетизм с эллинизмом; отсюда у него сомнения, колебания относительно последнего смысла его пьесы; колеблясь сам между энтузиазмом и унынием, между любовью и отвращением к жизни, между Фейербахом и Шопенгауэром, он воплотил сначала больше стороны Зигфрида, потом больше — Вотана. Таким образом, его пьеса осталась немного загадочной, как сама жизнь. И эта самая двусмысленность, которую мы находим в “Кольце Нибелунга”, когда ищем в нем разрешения проблемы жизни, и есть, быть может, одна из привлекательных сторон этого великого и глубокого произведения.
Глава III: V. Эволюция пессимиста
Одиночество Вагнера в изгнании. — Причины пессимизма Вагнера. — Пессимистические тенденции Вагнера до 1854 г. — Пессимистический кризис 1854 г. — Вагнер обращается к пессимизму. — Вагнер приближается к христианству. — Пессимизм вагнеровских драм до 1854 г. — Пессимизм в “Кольце Нибелунга”. — Пессимистический инстинкт Вагнера. — Возрождение оптимистического инстинкта.
Участь, которая постигла Вагнера в изгнании, сама по себе не была уж так тяжела и печальна; для мыслителя, находящего удовольствие во внутреннем мире своей мысли, для идеалиста, способного находить достаточное удовлетворение в блестящих видениях своей творческой фантазии, те внешние условия, в которых очутился Вагнер, были бы весьма подходящи. Материальные средства, которыми он располагал благодаря возраставшему успеху его произведений и благодаря щедрости его друзей, были достаточны для того, чтобы обеспечить ему, правда, весьма скромное, но вполне независимое существование. Он находил себе поддержку в небольшом кружке преданных и восторженных друзей, которые имели веру в его гений и верили в успех его дела. В том же Цюрихе он жил в достаточно развитой и весьма расположенной к нему среде. Это были, конечно, крупицы счастья, которые можно было бы ценить; ведь многие из великих людей, как, напр., Ницше, безропотно выносили несравненно более ужасную участь. Есть натуры, которые для того, чтобы создавать, нуждаются лишь в минимуме практической деятельности, в минимуме внешнего благосостояния и находят для себя радость в самом акте умственного или художественного творчества. Но натура Вагнера не была такова, и та отшельническая, трудовая жизнь, на которую он был обречен, очень скоро сделалась для него невыносимым бременем.
Одна из отличительных черт характера Вагнера — это его потребность в реальной, практической деятельности, почти равная его потребности в умственной продуктивности. Я полагаю, немного найдется артистов, которые почувствовали в той же мере, как он, настойчивое желание оказывать прямое, так сказать, чувственное воздействие на своих современников, и также, взамен, самим получать из внешнего мира сильные и возбуждающие впечатления. Мы уже говорили, что артист, по его мнению, должен быть истолкователем всего народа, следовательно, должен пропитываться мыслью современников, черпая мощное вдохновение извне. Равным образом для него драма существовала на самом деле только с того дня, когда она исполнялась на сцене перед публикой, следовательно, когда художественное произведение, само происшедшее из эмоции, в свою очередь снова превращалось в известную сумму эмоции. Таким образом, появление художественного произведения представлялось ему следствием обмена между драматургом и толпой: драматург черпает необходимое ему вдохновение у современников и возвращает им сторицею то, что он взял у них, восхищая их души красотой своих фикций. Но известно, что в годы изгнания Вагнера это плодотворное и животворящее сообщение поэта с народом было почти совсем прервано. Изгнанный из Германии, он скорбел о том, что не может видеть сам сценического исполнения своих драм. Так, он оказался лишенным счастья слышать своего “Лоэнгрина”, который был поставлен без него сначала в Веймаре, а потом на многих других сценах; в силу обстоятельств он был вынужден доверить дирижирование своими произведениями другим лицам, должен был отказаться от непосредственного общения с артистами и публикой, от самоличного констатирования действия, производимого его драмами. Кроме того, его терзала та мысль, что его недобровольное отсутствие наносит тяжкий ущерб его артистическому делу, потому что драмы его почти всегда являлись пред публикой в совершенно искаженном виде, по небрежности или по неспособности исполнителей, в особенности же — капельмейстеров и директоров.
Но если Вагнер жестоко страдал от того бездействия, к которому он был принуждаем, то, может быть, еще более горечи чувствовал он от того, что должен был терпеливо влачить свое монотонное существование. Лучшие друзья его — те, присутствие которых было для него истинным отдохновением и в то же время стимулом его артистической продуктивности, — были далеко от него и только изредка могли видеться с ним. В непосредственно окружавшей его среде он часто встречал милые отношения, но не встречал той непоколебимой преданности, той страстной любви, которой он хотел, как воздуха. Жена его была прекрасное создание, но слишком ограниченное для того, чтобы понимать те побуждения, которые руководили поведением ее мужа, чтобы принимать участие в его интеллектуальной и чувственной жизни и создать ему очаг, у которого он мог бы позабыть горести изгнания. Чтобы добыть из внешнего мира, по крайней мере, несколько приятных впечатлений, он пожелал окружить себя небольшим комфортом, развлечься путешествием. Но для этого нужны были деньги, и так как Вагнер не имел их, то и сделал долги. Это — одна из самых плачевных сторон его жизни в изгнании; вечно без гроша, он должен был, чтобы существовать, беспрестанно отыскивать понемногу денег у своих друзей, воевать с издателями, чтобы получить от них какую-нибудь субсидию; крайняя бедность заставляет его мириться с дурными представлениями его произведений — из-за заработка в несколько луидоров, — бесчестит, как он сам говорил, самых милых детей своего гения, “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, посылая их собирать милостыню у жидов и филистеров
Встретив в изгнании препятствие своим артистическим проектам, лишенный всякого возбуждения извне, стесненный во всех своих предприятиях беспрестанно появляющимися денежными затруднениями, Вагнер не находил себе другого утешения в своих бедах, кроме труда. Но при таких условиях самая артистическая продуктивность становилась для него страданием: он должен был беспрестанно давать, тратить себя, извлекать вдохновение из собственного своего существа, не получая при этом извне никакого благотворного впечатления. Таким образом, необходимое для натуры Вагнера равновесие между внешним возбуждением и внутренней работой было нарушено. Отсюда также то сильное беспокойство, которое все чаще и чаще проявлялось у него в приступах отчаяния. Жизнь Вагнера в эту эпоху состоит из кризисов напряженного труда, во время которых он доходит до забвения своего тяжелого положения; но они всегда оканчиваются периодами нервного упадка, — тогда он впадает в самое глубокое уныние.
Что усиливало ужас его положения, так это то, что оно казалось ему безвыходным. В годы, непосредственно следовавшие за дрезденским восстанием, Вагнер верил в близость революции, которая должна потрясти Европу и возродить человечество. Но скоро он должен был убедиться, что эта надежда, по крайней мере в данный момент, была совсем химерична, что его страстные воззвания оставались без отклика и что повсюду как во Франции, так и в Германии торжествовала реакция. А это было для него поражением без надежды на близкое удовлетворение, это была беспредельная отсрочка всех его надежд: идеал, который он считал одно время совсем близким, снова исчезал в бесконечной дали.
Глава III: VI. “Тристан и Изольда”
Вагнер оставляет композицию “Зигфрида”. — Аналогии между легендами о Зигфриде и Тристане.— Моральная проблема Тристана и Изольды. — Внутренняя драма Тристана и Изольды. — Общий характер драмы. — Любовный напиток в легенде о Тристане. — Любовный напиток в “Тристане” Вагнера. — Моральная эволюция у Тристана и Изольды. — Царство дня и царство ночи. — Отречение от воли к жизни. — Смерть Тристана и Изольды. — Пессимизм Тристана и Изольды.
В том же самом письме, где Вагнер объявляет Листу о своем обращении к шопенгауэровской доктрине, он также открывает другу, что у него зародилась идея новой драмы: “из любви к самой прекрасной мечте моей жизни, — пишет он, — из любви к юному Зигфриду я должен, конечно, кончить моих “Нибелунгов”... Но так как за всю мою жизнь я ни разу не вкусил полного счастья от любви, то я хочу этой прекраснейшей из всех грез воздвигнуть памятник — драму, в которой эта жажда любви получит полное удовлетворение: у меня в голове — план “Тристана и Изольды”, — произведение совсем простое, но в нем ключом бьет сильнейшая жизнь; и в складках того “черного знамени”, которое разовьется в развязке, я хочу завернуться и умереть”. Работая над тетралогией, Вагнер в то же время продолжал думать о новой драме, к которой он чувствовал в себе неудержимое влечение. Однако же в течение почти 3 лет он оставался верен принятому решению — довести до конца сочинение “Кольца Нибелунга”. В 1854 году, в тот момент, когда впервые зародилась у него мысль о “Тристане”, были готовы уже “Золото Рейна” и большая часть “Валькирии” с 1854 по 1857 г. он окончил “Валькирию” и подвинул до половины второго акта композицию “Зигфрида”. С этого момента, однако, решение его ослабевает. Мотивы практического характера — желание создать произведение обыкновенных размеров и удобное для исполнения на существующих уже оперных сценах, а также нужда в деньгах, — заставляют его уступить тому влечению, которое тянуло его к этой новой драме, где он мог в волнах гармонии излить чувство горького разочарования, омрачавшее тогда его душу. 28-го июня не без грусти писал он Листу: “Я привел моего юного Зигфрида в чащу дикого леса; там положил я его у подножия липы и простился с ним, пролив искренние слезы. Там ему лучше, чем где-либо в другом месте. Возьмусь ли я когда-нибудь опять за сочинение моих “Нибелунгов”? Я не могу это предвидеть; все зависит от моего настроения, а приказывать ему я не властен. На этот раз я сделал усилие над самим собой; в ту минуту, когда я был в самом подходящем настроении, я вырвал из своего сердца “Зигфрида” и запер его, заживо похоронил его. Пусть спит он одиноко в своем убежище, и никто не увидит его... Может быть, сон будет полезен ему... Что касается пробуждения его, то я ничего не хочу предвидеть. Я должен был вынести тяжелую, упорную борьбу с самим собой, прежде чем прийти к этому! Теперь все кончено, не будем же больше говорить об этом!”
В том же письме Вагнер сообщает своему другу о том, что он взялся за работу и намерен как можно скорее написать своего “Тристана”. И действительно, с июля по сентябрь он писал поэму. 31 декабря того же года он окончил музыкальный эскиз первого акта. Остальная часть произведения пошла не так быстро, но все же в начале 1859 — говорит он, — одно слово вследствие фонетического изменения может дать происхождение двум совершенно различным по виду словам, так и один миф вследствие изменения или аналогичного перемещения мотивов породил два весьма несходных, с первого взгляда, варианта. Несмотря на это, ясно обнаруживается полная тождественность двух легенд: Тристан так же, как Зигфрид, является жертвой иллюзии, которая лишает его действия всякой свободы: он отыскивает в невесты для другого ту женщину, которая предназначена ему законом природы, и находит смерть в пучине бедствий, куда погружает его эта ошибка. Но тогда как поэт Зигфрида, стремившийся прежде всего воспроизвести в грандиозном целом миф о Нибелунгах, мог описать только смерть героя, не уцелевшего от злобы мстящей любимой женщины, которая принесла в жертву с ним и себя, — поэт Тристана взял за основной сюжет самое описание тех мучений, на которые два взаимно любящие сердца, как только встретились их взоры, были осуждены до самой смерти. В “Тристане” широко и ясно развивается та идея, которая весьма определенно выступает уже в “Зигфриде”, но выражена только Брунгильдой, единственной осознавшей положение вещей: идея смерти от томлений любви”.
Рассмотрим несколько ближе, как представлялась Вагнеру та психологическая и моральная проблема, которую он намеревался разрешить в своем “Тристане”.
Вполне характеристической чертой вагнеровского credo в области морали в 1849 г. является то высокое значение, которое он придает чувственной любви, инстинктивному влечению человека к женщине. По его мнению, этот чисто естественный факт есть самая сущность всякого альтруизма, основа всякой нравственности; всякая другая любовь вытекает из любви мужчины к женщине или есть копия этой любви. Поэтому, как думает Вагнер, ошибочно смотреть на чувственную любовь, как на какую-то отдельную форму любви, и воображать, что рядом с этой формой существуют другие, более чистые и более возвышенные: это ошибка, в которую впадают метафизики, презирающие чувства и ставящие “дух” выше “материи” они мечтают о какой-то неведомой, сверхчувственной любви, лишь несовершенным проявлением коей была бы чувственная любовь. Но можно держать пари, говорит Вагнер, что эти люди никогда не знали настоящей человеческой любви и что их презрение обращается единственно на животную любовь, на животную чувственность. Человеческая любовь, как мы видели это раньше, есть полное удовлетворение эгоизма в совершенном отречении от эгоизма. Только такая любовь дает начало полному человеческому существу. Мужчина и женщина в отдельности — неполные существа, и только в любви они достигают полного своего развития. Поэтому человеческое существо — это мужчина, который любит женщину, и женщина, которая любит мужчину. “Только слияние мужа с женой, только любовь создает (как в материальном смысле, так и в смысле метафизическом) человеческое существо; и как человеческое существо в своем целом бытии ничего не может представить более высокого и более плодотворного, чем его собственная жизнь, так же точно не может оно миновать и того акта, благодаря которому оно поистине занимает место в человечестве, — любви”. Следовательно, человек выполнит свое назначение и найдет себе “спасение”, когда с полным доверием отдастся естественному закону любви.
По Шопенгауэру же, напротив, любовь — самая опасная ловушка, которую природа ставит человеку для того, чтобы принудить его продолжать жизнь, а следовательно — и скорбь. Природа, имея самой сущностью своей Волю к жизни, жалом вожделения гонит его изо всех сил к самопродолжению. Для животного и естественного человека любовь является высшей целью существования; как скоро природа приняла все меры к личному самосохранению, он уже больше не думает гоняться за наслаждениями любви. Но мудрец, который знает, что вся жизнь есть только страдание, ясно видит в соблазнах любви могущественные, роковые чары, которые скрашивают человеческое существование обманчивыми миражами и толкают индивидуум волей-неволей к продолжению рода. Поэтому он должен во что бы то ни стало отказывать своему телу в каждом половом удовлетворении; он должен добровольным целомудрием отвергнуть это утверждение воли, стремящейся продлить себя за индивидуальную жизнь. Следовательно, по Шопенгауэру, только тот человек может надеяться на освобождение, который безжалостно убивает в себе всякое любовное желание. Это, как видно, — радикальное отрицание того учения, которого придерживался Вагнер.
Что же делает в таком случае Вагнер, когда в 1854 г. он обращается к пессимизму? Отрекается ли он просто-напросто от своей прежней теории любви с тем, чтобы целиком принять аскетическую доктрину Шопенгауэра? Оптимистический инстинкт был слишком силен в нем, чтобы он мог принять такой оборот. Правда, он признал, что то, что до сих пор он называл “любовью”, в действительности было сложным продуктом, в котором в различных мерах смешивались два весьма неравноценные элемента: один эгоистический, злой — вожделение, другой бескорыстный, добрый — жалость. Он понял, следовательно, что истинно избавительная любовь, та свободная от всякого эгоизма любовь, которая вдохновляла героинь его первых драм — Сенту, Елизавету, Брунгильду, — была ничем иным, как только чистейшей жалостью; что везде, где к жалости присоединяется вожделение, — как, напр., у Зигфрида и Брунгильды, — любовь становится мрачной, разрушительной для человеческого счастья силой. Однако Вагнер не мог предаться полному осуждению инстинктивной любви — и в этом пункте Вагнер разошелся с Шопенгауэром.
По Шопенгауэру, любовь всегда злотворна, ибо она постоянно поддерживает Волю к жизни; а потому он считал глубоко нелогичным и даже непонятным то, чтобы любовники, даже несчастные, могли желать смерти. “Ежегодно, — говорит он, — можно насчитать несколько случаев самоубийства из-за любви: любовники, встретив препятствие в удовлетворении страсти, вместе принимают смерть; при всем этом я не могу понять, как два существа, раз они уверены во взаимной любви друг к другу и ждут от этого чувства высшего счастья, не предпочтут скорее еще раз попытаться разбить все разлучающие их преграды и вынести еще худшие страдания, чем вместе с жизнью отказаться от того счастья, выше которого они не могут себе представить”. Вагнер же не так смотрел на вещи. Найден отрывок одного письма, которое предназначалось Шопенгауэру и в котором он намеревался точно опровергнуть только что цитированное мною место и показать великому пессимисту, что инстинктивная любовь есть “путь, могущий привести к спасению, к познанию себя, к отрицанию воли”.
По Вагнеру, чувственная страсть является хорошим фактором разрушения и смерти; она ничуть не исцеляет страдание и не утешает, как жалость; но по крайней мере вместо того, чтобы раздражать в человеке желание жизни и погружать его глубже, чем когда-либо, в мировую иллюзию, она приводит его иногда, когда достигает наивысшей степени своей интенсивности, не только к отрешению от самого себя, к отречению от индивидуальной воли, но также и к предугадыванию, сквозь видимый мир и его фикции, реального единства всего, что существует, к желанию уничтожения индивидуализации, к отречению от Воли к жизни. Следовательно, любовь ведет к смерти, но не к погибели и “проклятию”: для некоторых натур она может быть скорбным путем спасения; ужасными муками и не Ни в одной из своих драм Вагнер не подчинил до такой степени, как в “Тристане”, внешнее действие действию внутреннему. Мы уже указали в нашем вступлении, что, с этой точки зрения, на “Тристана” можно смотреть как на некоторым образом парадоксальный тип вагнеровской драмы. Легенда о Тристане, чрезвычайно простая в своем первоисточнике, в руках воспевших ее французских, англо-нормандских и немецких поэтов была украшена множеством привлекательных и трогательных эпизодов. В этих рассказах, проникнутых по большей части поэзией — так что прелестью их мы наслаждаемся еще и до сих пор, — драматург без труда мог найти материал для какого угодно сложного, широкого и живописного действия.
Вагнер, будучи знаком с историей Тристана по переводам Готфрида Страсбургского и его продолжателей в лице Курца и Симрока, без милосердия оборвал все те пышные цветы, которые распустились по всему главному стволу. С редким и тонким искусством он сжал существенные мотивы легенды в весьма небольшое число симметрично расположенных картин. Все живописные и повествовательные элементы действия он свел к строгому минимуму, по возможности избегая рассказов о событиях; а что касается тех рассказов, без которых невозможно было обойтись, то он лишал их всякого повествовательного характера, пропитывая их драматической эмоцией. Поэтический язык, подобно самому действию, сжат по временам почти до туманности. Так как внутреннее действие драмы главным образом чувственное и музыкальное, и так как поэзия, по самой своей сущности, не способна к описанию внутренней природы, волнующих человеческую душу эмоций, к передаче высших экстазов любви и отчаяния, то она беспрестанно уступает первую роль музыке. В “Тристане” есть длинные места, где стих, так сказать, претворяется в музыку, где он чуть ли не доходит до того, что становится почти безразличной самой по себе подставкой к певучей мелодии; где поэт, сознавая свое бессилие передать при помощи ясных, логических понятий то голое чувство, о котором он поет в своих мелодиях, заменяет правильную фразу рядом отрывистых междометий и едва связанных между собой восклицаний, которые дают пониманию не более, как крайне неопределенное направление.
Ни одна драма Вагнера не противоречит так сильно, с точки зрения интриги и языка, сложившемуся понятию о театральной пьесе. Одних он озадачивает крайней, почти схематической простотой действия, в которой пропадают некоторые из действительно интереснейших эпизодов легенды, как, напр., уединенная жизнь влюбленной четы в лесу Моруа. Других он возмущает туманностью до крайности эллиптического языка, который особенно раздражает филологов и литераторов и в котором действительно невозможно найти ни малейшей прелести, если поэтическое выражение отделить от музыкального выражения. И все-таки у него есть восторженные поклонники, которые восхищаются тому удивительному искусству, с каким Вагнер сумел сочетать средства драматической техники, поэзии и музыки, чтобы достигнуть своей цели, или которые просто отдаются без сопротивления тонкому, беспокойному очарованию, той почти болезненно интенсивной эмоции, которою проникнуто это страстное и волнующее произведение.
Но вернемся к разбору внутренней драмы “Тристана” и постараемся точно определить выражаемую в ней философскую идею.
Моральная идея, которая отделяется в конечном анализе легенды о Тристане и обнаруживается более или менее ясно во всех вариантах, в которых она дошла до нас, это — утверждение вечных и неотъемлемых прав страсти: над писаным законом, над моральными договорами, которые óïðàâляют жизнью общества и устанавливают мнения людей, cóùествует закон “неписаный” каждый из нас носит его çàïåчатленным в глубине своего сердца, и приговоры его — безапелляционны. “Выше обыкновенных обязанностей, — говорит Гастон Парис, — наша легенда провозглашает право двух существ располагать собою, несмотря ни на какие препятствия, когда их влечет одного к другому непобедимая и неудержимая потребность соединиться. Эту необходимость, которая одна только и оправдывает их, она выразила детским и в то же время глубоким символом “любовного напитка”: раз роковая чаша разделена, Тристан и Изольда уже не свободны ни перед самими собой, ни друг перед другом, но совершенно свободны пред светом; чтобы выполнить свою судьбу, они сокрушают все преграды и попирают ногами все обязанности, сопутствуемые в своем триумфальном и скорбном шествии горячим сочувствием поэзии; ибо назначение поэзии — высказывать все, что бессознательно дремлет в сердцах, освобождать душу от оков, тяжесть которых она смутно чувствует на себе”.
Такая страсть необходимо трагична; для того, чтобы мы могли поверить в эту крайнюю фатальность страсти — фатальность только и может оправдать ее — нужно, чтобы любовь действительно показала себя “более сильной, чем смерть”. Эта-то печальная тень неизбежной смерти, витающая с самого начала над участью обоих влюбленных, облагораживает их похождения и банальную адюльтерную историю превращает в поэму — с печатью самой скорбной грусти. Еще один из самых вдохновенных певцов Тристана, старый англо-нормандский трубадур Тома, предчувствовал, что между смертью и любовным напитком существует какая-то неразрывная связь. “Это смерть свою пили мы”, — так говорит у него Тристан, отдаваясь воспоминаниям своей жизни. Та же самая идея с начала до конца управляет драмой Вагнера и является ясно отмеченной в главной сцене первого акта, когда Тристан и Изольда пьют любовный напиток, который навсегда связывает их друг с другом.
В самом деле, Вагнер почти не мог сохранить вполне неприкосновенным мотив “любовного напитка” — так, как предлагало его ему предание. У Готфрида Страсбургского — главный источник Вагнера — любовный напиток, которого Брангена без умысла и без всякого намерения наливает Тристану и Изольде, думая, что это — обыкновенное питье, является реальной и действительной причиной, снимающей оковы со страсти у обоих любовников. Такой символ легко мог бы показаться современной публике наивным; поэтому Вагнер совершенно изменил сцену любовного напитка, придав ей совсем новый, сильно драматический смысл. В его поэме Тристан и Изольда влюбляются друг в друга при первой встрече. После своей победы над Морольтом (по французским источникам — Морутом) Тристан, тяжело раненый, с помощью притворства проникает к Изольде, невесте того, кого он только что убил, но которая одна только и может излечить рану, причиняющую ему страдание. С первого же взгляда он влюбляется в нее. Не менее скоропостижна любовь и у Изольды: в тот момент, когда, узнав в Тристане убийцу Морольта, она готовится отомстить за своего жениха, ее взгляд встречает взгляд раненого; и тотчас же, охваченная жалостью и любовью, она роняет меч, который она занесла уже над ним.
Пока Тристан везет на своем корабле в Корнуэльс Изольду, которую он потребовал в невесты королю Марку, трагедия уже начинается. Тристан знает, что Изольда ненавидит его и считает его предателем, потому что он принуждает ее сделаться женой другого; он не осмеливается подойти к ней, потому что боится ее, и боится главным образом потому, что любит ее. Следовательно, для того, чтобы воспламенить в них страсть, не нужно было никакого любовного напитка. Но оба влюбленные, как один, так и другой, знают, что долг и честь настоятельно приказывают им заглушать голос любви; самый священный человеческий закон, высший закон, с которым сообразует свою жизнь всякая благорожденная душа, честь, разлучает их навсегда; и потому ни тот, ни другой не помышляют о том, чтобы преступить этот закон; мысль погрешить против него ни на минуту не приходит им в голову: они не вынесли бы мысли жить в бесчестии. — Но если жизнь разлучает их, им остается смерть; при жизни они не могут любить друг друга; только одна смерть может уничтожить ту непроходимую преграду, которая поднимается между ними.
Таким образом, когда мало-помалу, с большим сознанием самих себя, они чувствуют всю глубину той страсти, которая влечет их друг к другу, смерть является для них главным условием, единственным оправданием их любви. В тот момент, когда корабль подплывает к Корнуэльсу, Изольда, чувствуя, что она не в силах жить с королем Марком, — в вечной разлуке с тем, кого она любит, — требует от Тристана дать ей удовлетворение за смерть Морольта и осушить вместе с ней чашу забвения: она предлагает ему смертельный напиток. Тристан знает это и принимает. Оба они пьют смерть. Освобожденные от жизни и от ее условий, влюбленные теперь свободно могут быть искренними друг перед другом, — — не менее верно, но более медленно — разъедающим смертельным ядом любви. По своей слепой жалости она осудила их на самую ужаснейшую из пыток. Тристан и Изольда действительно выпили смерть из чаши, поднесенной им Брангеной: они обменялись признанием в любви — тем признанием, оправдать которое могла только смерть; они не могут отказаться от того непоправимого акта, который обрек их на смерть. И однако они живут — живут вопреки их искренней воле, — становясь с этих пор жертвой неисцелимой болезни, терзаемые той пожирающей страстью, которая может насытиться только со смертью и которая, однако, привязывает их к жизни.
В отрывке своего письма к Шопенгауэру Вагнер возводит в принцип то, что человек благодаря любви может прийти не только к отречению от “индивидуальной” воли, но и более того: к отречению от самой Воли к жизни. Чтобы уяснить себе значение этого места, обратимся к теориям Шопенгауэра об отрицании воли. По учению великого пессимиста, два пути приводят человека к уничтожению в себе воли: или путем безучастного созерцания мира он дойдет до той интуиции, что все существа — идентичны, и поднимется таким образом до сознательной жалости; или после великой физической и нравственной скорби, сокрушающей в нем жизненную энергию и освящающей его страданием, он внезапно достигнет полной покорности и радостно встретит смерть. Зато самоубийство далеко не есть отрицание Воли к жизни; оно является признаком интенсивного утверждения воли, ибо человек, лишающий себя жизни, хочет жизни, но он желал бы, чтобы воля, которая в нем, могла утверждаться беспрепятственно, и так как в глубине души он верит, что воля бессмертна и беспрестанно воплощается в новых феноменах, то, убивая себя, он отрекается таким образом от своей индивидуальной воли, но с еще большей силой утверждает Волю к жизни вообще.
Если теперь мы выразим с помощью шопенгауэровских формул философскую идею “Тристана”, на что дает нам право приведенное место из вагнеровского письма, то мы можем так определить ту моральную эволюцию, которая совершается в продолжение пьесы: сначала Тристан и Изольда уничтожают в себе индивидуальную волю — они решаются на самоубийство, — но потом, когда смерть не захотела их, они благодаря претерпеваемым страданиям приходят к проклятию уже не только доставшейся им в удел индивидуальной жизни, но и к проклятию всякой возможной жизни, к отрицанию самой воли. Томление любви очищает их души и приводит их к высшему отречению.
Таким образом, в конце первого акта Тристан и Изольда являются мятежниками: Изольда призывает смерть, потому что ни за что не хочет подвергнуться ожидающей ее позорной участи; Тристан хочет умереть, чтобы остаться верным своей чести. И тот и другой восстают против судьбы; и тот и другой еще привязаны к жизни и прибегают к смерти только благодаря отвращению к индивидуальной жизни, на которую осудил их рок.
Второй и третий акты показывают, как бывшие мятежники становятся покорными. В первой сцене второго акта Изольда открывает Брангене о происшедшей в ее душе перемене: “Я дерзко дело смерти хотела совершить сама, но Любовь-богиня мою остановила руку: влюбленную, обрекшую себя на смерть, она взяла в залог; и дело смерти на себя она взяла; как совершит она его, как кончит, что ждет меня, куда она меня ведет — какое дело мне! Теперь я вещь ее!” Оба влюбленных больше не борются и без сопротивления отдаются страсти, которая владеет ими. И вот любовь открывает им, что настоящая область ее не жизнь, не день, или, пользуясь формулами Шопенгауэра, не мир явлений, чувственных представлений, не мир множества, в котором воля является раздробленной в бесчисленных индивидуумах, а скорее смерть, ночь — на философском языке, область абсолютного, бессознательного единства. В царстве сверкающего ложью дня не любовь предписывает закон: пока человек хочет жить под ясным светом солнца, он привязывается к ложным и иллюзорным благам: к власти, славе, чести, дружбе; он должен принести в жертву пустым условиям основной, священный закон, запечатленный в глубине его сердца. Но царство дня потеряло для Тристана и Изольды свое обаяние. “О, с этих пор отдались ночи мы, — восклицает Тристан, — день, полный ков, поспешный в злобе, коварно разлучать нас мог, но нас не обольстит он ложью. Над тщетной суетой его, над тщетным блеском смеются те, чьи очи осветила ночь; сиянье беглое его мерцающего света не ослепит наш взор. Избранник — сердце, полное любви, — узревший смерти ночь, глубокую от ней приявший тайну, видит, как ложь денная, слава, честь, богатство, власть, наперекор их лживому сиянью, подобно пыли солнечной рассеиваются в его очах. Сам призрак верности и дружбы — и тот в вернейшем друге исчезает, коль сердце, полное любви, узрело в смерти ночь и тайну от нее глубокую прияло. Меж тщетными блужданиями дня одно ему останется желанье, стремление горячее к ночи святой, стремление туда, где правда вечная единая сияет улыбкой сладостной любви”.
Итак, жизнь уже не прельщает Тристана и Изольду; если бы даже закон чести не разлучал их, то между ними явились бы преграды, которые воздвигает между всеми конечными созданиями время, пространство и индивидуализация. Ведь сама личность является препятствием к полной любви; как объясняет Тристан своей возлюбленной в “прелестном метафизическом споре о значении одной частицы” нужно, чтобы эта двойственность “я” и “ты”, без которой всякая любовь кажется с первого взгляда непонятной, сама кончила исчезновением:
Изольда. Наша любовь не зовется ли Тристан и Изольда? Не осталось ли бы это столь сладкое словечко “и” — договор любовный тех, кого он соединяет, — когда бы умер, уничтожен смертью был Тристан?
Тристан. Что со смертью погибло бы, как не то, что нам помехой служит, что Тристану воспрещает вечно любить Изольду и вечно жить для нее одной?
Изольда. Но если бы словечко это “и” пропало, Тристана смерть не стала ли бы смертью и Изольды?
Тристан. Так, через смерть соединенные навеки, неразлучимые, без пробужденья, без конца, без страха, без имен, навеки слитые в объятиях любви, отдавшись наконец себе самим всецело, мы жили бы одной любовью!
Но если мысленно Тристан и Изольда уже и касаются почвы царства ночи, то телом они все же еще принадлежат дню, жизни. Тяжелые испытания отделяют их от цели, которую они считали уже совсем близкой. Они накрыты королем Марком и предателем Мелотом. Не имея возможности оправдаться, Тристан должен выслушивать трогательные жалобы короля; последний, сраженный до глубины сердца изменой своего друга, в особенности же огорченный тем, что тот идеальный образ, что он составил себе о нем, навсегда является помраченным для него, грустно умоляет его объяснить свое поведение. Напрасно Тристан хочет умереть, бросаясь на меч Мелота. Во второй раз смерть ускользает от него.
Тяжело раненого врагом, без чувств, его относит верный Курвенал в замок его отца, куда должна прибыть извещенная старым оруженосцем Изольда, чтобы снова соединиться со своим другом. Там он устроит последнюю стоянку своего скорбного пути. Он возвращается к жизни, но без Изольды жизнь для него только ужасная пытка; и пока Изольда видит дневной свет, он опять-таки не может умереть вдали от нее, ибо страсть, которая терзает его, настойчиво заставляет его переносить все, лишь бы только увидеть ее.
Отвергнутый жизнью и смертью, осужденный на желание до самой смерти и от излишка этого желания лишенный возможности умереть, несчастный с раздирающим сердце стоном зовет Изольду, которая одна может положить конец его мукам: “Еще Изольда — во власти солнца! Еще Изольда — в блеске дня!.. Я слышал, с грохотом за мной тогда закрылись двери смерти; и вот они отверсты широко, разбитые лучами солнца... Проклятый день! Долго ли ты будешь освещать мои мученья? Долго ли ты будешь жечь, о пламя, что даже ночью меня угнало от нее! О Изольда! сладко любимая, когда наконец загасишь ты факел и мне блаженство возвестишь? Свет, когда угаснешь ты? Когда войдешь ты, ночь, в жилище... Wann wird es Nacht im Haus?”
Но Изольда медлит, ни одного паруса не видно на горизонте; и вот еще более ужасное отчаяние сжимает сердце Тристана. В помешательстве от скорби он приходит в такое возбуждение, что проклинает самый любовный напиток, в котором он видит символ и как бы квинтэссенцию всего человеческого страдания. Однако час освобождения наконец приходит. Корабль с Изольдой дает сигналы и подходит к пристани. Изольда вбегает к своему другу и в чрезмерной радости, после чрезмерного страдания, Тристан находит наконец последнее успокоение: он умирает в объятиях своей горячо возлюбленной, шепча в последний раз имя Изольды. А Изольда, в свою очередь, расстается с жизнью; без отчаяния, без насилия, погрузившись в созерцание трупа Тристана, едва сознавая себя, очищенная любовью и скорбью, она, улыбаясь, вступает в тень окутывающей ее ночи и сладко погружается вместе со своим другом в великий покой смерти.
Из всех драм Вагнера “Тристан”, наверное, — самая мрачная и самая отчаянная. Вагнер не только провозглашает, как это было в эпоху “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, неосуществимость идеала в этом мире, но, по-видимому, совершенно обрекает жизнь человека только на ожидание смерти. Земля является какой-то геенной, где человек терзается страданием до того момента, когда в нем угаснет всякое желание жизни. Все блага, которых он добивается здесь, власть, честь, дружба — иллюзорны; правда, в любви он может предчувствовать, что такое это далекое царство идеала, но человеческая любовь смешана со страстью и приводит человека к спасению только благодаря самой чрезмерности тех мук, которые она налагает на него. Одна только смерть — благо: Тристан и Изольда умирают, и они спасены. Но жизнь не имеет смысла или, по крайней мере, положительной цели. Представляют ли себе, например, что за жизнь могла быть у короля Марка после той катастрофы, которая поразила его в самых дорогих для него чувствах и поглотила единственные существа, привязывавшие его еще к жизни? Без сомнения, он понял, что Тристан не виноват, он в утешение может сказать себе, что он не отдал своей дружбы недостойному, что может еще верить в силу верности... но это ли — достаточное оправдание жизни? Конечно, он также приходит к полному отречению, к отрицанию воли, но этот аскет, этот “святой” кажется нам скорее побежденным жизнью, чем победителем ее; он больше внушает жалости, чем удивления; жалко, что он тоже не умер, что ему поневоле приходится еще влачить свое пасмурное и бесцветное существование здесь на земле, где все — лишь иллюзия.
Вагнер не удовлетворился таким слишком пессимистическим для его темперамента разрешением проблемы жизни. Сначала отречение явилось у него в своей чисто отрицательной форме как стремление к смерти: Вотан и Брунгильда, Тристан и Изольда отреклись и умерли. Король Марк отрекся и не умер, но сердце его разбито и, кажется, лишено всякой земной надежды. Однако еще во время сочинения “Тристана” Вагнер, кажется, уже предвидел, что на отречение можно смотреть также как на положительный идеал. В первоначальном плане драмы он предполагал противопоставить Тристану, герою страсти, — Парсифаля, героя отречения. Именно в 3 акте, в тот момент, когда Тристан у ног Изольды жаждет смерти и не может умереть, является в виде странника Парсифаль; он хочет смягчить страдание обоих влюбленных, потерявших голову в отчаянии, — словами утешения успокоить скорбь Тристана, напрасно ищущего смысла жизни среди мук неутолимой страсти. Вагнер отказался от такой развязки, решив, что личность Парсифаля, показывающаяся таким образом без всякой подготовки в конце этой пылающей страстью драмы, оказалась бы трупной для восприятия и понимания. Поэтому мы не знаем наверное, в каком духе он истолковывал этот эпизод и тем самым в какой степени он уклонялся уже в 1855 г. от чистого пессимизма; но нам кажется весьма вероятным, что он воплотил в Парсифале положительный идеал жалости и любви (милосердия) и тем самым показал, что отрицание воли не есть только принцип смерти, но может быть также и принципом жизни. К этой-то мысли все более и более и склонялся Вагнер. Вместо того, чтобы изображать нам побежденных, находящих себе убежище в добровольно принимаемой смерти, он даст нам потом триумфаторов, которые, заглушив в себе всякое эгоистическое желание, сумеют привести человечество к идеалу. После Вотана и Марка он сейчас же создает Ганса Закса, после Тристана — Парсифаля.
Глава III: VII. “Мейстерзингеры”
Сочинение “Мейстерзингеров”. — Самопроизвольный гений: Вальтер Штольцинг. — Традиция: Бекмесер и мастера. — Ганс Закс примиряет гений с традицией. — Литературная сатира в “Мейстерзингерах”. — Любовь Ганса Закса к Еве. — Отречение у Ганса Закса. — Характер Ганса Закса.
Первая мысль о “Мейстерзингерах” появляется у Вагнера уже в 1845 г., когда, рассорившись с публикой оперных любителей и с официальной дрезденской критикой, он задумал написать род комического contre-partie к “Тангейзеру”, где был бы выведен на сцене самопроизвольный и оригинальный творческий гений в схватке, на поэтическом турнире, с педантизмом и рутиной профессионалов искусства. Чтение гофмановского “Бочара из Нюрнберга” давно обратило его внимание на почтенную корпорацию мейстерзингеров и на столь оригинальную, чисто немецкую буржуазную и народную жизнь этого старого, живописного Нюрнберга, “открытую” Тиком и романтиками в начале нашего столетия. Он прочитал также и старинную нюрнбергскую хронику Вагензейля, вдохновившего еще Гофмана; изучил поэтическое творение поэта-сапожника Ганса Закса, отмеченного самим Гете за бессмертный тип наивного народного гения. Он вдохновился, наконец, двумя, в настоящее время совершенно забытыми, театральными пьесами — четырехактной драмой Дейнгардштейна “Ганс Закс” (1827 г.) и переделанной из той же драмы Лорцингом и Регером комической оперой (1840); и та и другая представляют Ганса Закса влюбленным в дочь одного нюрнбергского золотых дел мастера; он не хочет уступить своей возлюбленной противному и смешному жениху и в конце концов побеждает своего соперника.
Комбинируя эти различные элементы, Вагнер, за время пребывания в Мариенбаде в 1845 г., написал драматический эскиз, в котором, за исключением некоторых мелочей, уже можно было узнать всю интригу “Мейстерзингеров” в их настоящем виде. Однако вскоре же Вагнер отказался от проекта. Теперь он думал взяться за комическую оперу только с утилитарной целью, в надежде легким трудом, написанным в “легком жанре”, добыть себе блестящий театральный успех, который бы внушил публике уважение к его имени и открыл ему доступ в немецкие театры скорее, чем какая-нибудь “серьезная” большая опера. Однако художественный инстинкт побуждал его к драме и в конце концов взял верх над соображениями практического характера и советами его друзей. Сюжет “Лоэнгрина”, который он задумал во время пребывания своего в Мариенбаде тогда же, когда набросал и план “Мейстерзингеров”, всецело захватил его, отняв у него всякое желание писать комическую оперу. В 1851 году он даже напечатал эскиз “Мейстерзингеров” в своем “Сообщении моим друзьям”, а это похоже было на то, что он решительно и навсегда отказывался привести его в исполнение. Десять лет прошло, прежде чем он решил снова взяться за свой проект, и вернулся он к нему только в 1861 г., т. е. в год возвращения своего из ссылки. В продолжение зимы с 1861 по 1862 г. он написал либретто “Мейстерзингеров” и сейчас же выпустил его отдельной брошюрой.
С первого взгляда, между “Тристаном” и “Мейстерзингерами” представляется полный контраст одинаково как с точки зрения содержания, так и формы. Первая из этих драм есть самое мрачное и самое отчаянное из всех вышедших из-под пера Вагнера произведений; любовь является в ней могучей силой смерти; жизнь представляется как долгая агония, как скорбная иллюзия; внешнее действие сводится к строгому минимуму: до крайности упрощенная интрига разыгрывается очень ограниченным числом действующих лиц; пьеса почти вся состоит из диалогов или даже монологов. В “Мейстерзингерах” — наоборот, поток жизни и веселья; здесь развертывается широкая картина немецкой буржуазной жизни вместе с ее смешными сторонами и странностями, а в особенности с ее простым и здоровым весельем; интрига сравнительно сложная и запутанная при очень большом числе действующих лиц; внешнее действие проносится в каком-то чрезвычайно быстром, по временам почти головокружительном движении, как, например, в дивном финале второго акта; ансамбли и хоры более часты, чем во всех других партитурах Вагнера. Словом, с первого взгляда кажется, что “Мейстерзингеры”, — это какая-то в одно и то же время поэтическая и смешная, вроде шекспировской фантазии, интермедия, которая прерывает собою натуральную серию “серьезных” драм Вагнера. Ничего подобного — в действительности. Изучение внутреннего действия “Мейстерзингеров”, напротив, покажет нам тесную родственную связь, соединяющую эту драму с “Тристаном” — с одной стороны, и с “Парсифалем” — с другой.
Идея, которая с самого начала отделяется в эскизе 1848 г., — так же, как и в окончательном либретто “Мейстерзингеров”, это — естественный и неизбежный антагонизм между истинным и наивным гением и педантами-художниками, у которых строгое преклонение пред уставом соединяется с полным отсутствием всякого поэтического темперамента.
Вальтер Штольцинг представляет собою самопроизвольный природный гений. Он — поэт, никогда не слушавший уроков ни одного мастера, никогда ни в какой школе не обучавшийся правилам своего искусства. Он по происхождению благородной крови и проводил жизнь вдали от городского шума в своем уединенном замке. Зимой, когда снежный саван покрывал поля и замок, он читал в старинной, завещанной ему дедами книге стихи Вальтера Фогельвейде, где воспевалось великолепие возрождающейся весны. Потом, когда наступало лето, когда снова зеленеющий лес наполнялся шумом и голосами птиц, он задумчиво бродил в тени больших деревьев, прислушиваясь к этой праздничной мелодии природы, к этому нежному и столь могучему голосу, и там вновь обретал свежими и живыми те звуки, которые очаровывали его в длинные зимние вечера в поэмах старого певца любви. Прислушиваясь к шуму леса, к пению синичек и зябликов, Вальтер стал поэтом. Он, как Зигфрид, — дитя природы и проводит жизнь, руководясь своими инстинктами и не заботясь о человеческих условностях. Едва он показывается в Нюрнберге, как уже влюбляется в Еву и смело открывает ей свою страсть, вопреки всем “обычаям”, в церкви, полной народа; а когда она уходит от его признания в любви, то он тотчас же решается добыть ее силой. Он хочет сначала принять участие в поэтическом турнире, наградой за победу в котором будет ее рука; оспаривать ее у мейстерзингеров, которые будут добиваться ее руки своим пением в присутствии всего народа. Когда он видит себя отвергнутым ими и исключенным из конкурса, то он, ни минуты не откладывая, решается похитить ее; если он не может добыть Еву при помощи своего искусства, то надеется на насильственные меры; он в нетерпении хватается за рукоять меча ради своей милой, даже не вовремя, — против безобидного ночного сторожа, рожок которого он принял за вызов на поединок.
И все же этот пылкий герой, который с надменной смелостью держит высоко голову при всем собрании школы озлобленных против него мейстерзингеров, без сопротивления подчиняется весьма кроткому и в то же время весьма сильному авторитету Ганса Закса и позволяет руководить собою этому другу, инстинктивно угадывая в нем мудрость более высокую, чем его.
По отношению к Вальтеру, представляющему собой инстинкт, мейстерзингеры — почтенные, но ограниченные защитники правил, условий, традиций. Они по большей части славные, добродетельные, почтенные и посредственные буржуа. Порою их глупость доходит до злости.
Городской писарь Сикст Бекмесер не только самый отъявленный педант в Нюрнберге, но и, сверх того, низкий и бесчестный интриган. Этот с большими претензиями глупый старый холостяк является влиятельным лицом: он имеет собственный дом, пролез в Совет, занимает завидный, высокий пост меркера в корпорации мейстерзингеров, т. е. критика, на обязанности которого лежит отмечать мелом на черной доске те преступления против неприкосновенных правил “табулатуры”, которые проскальзывают у певцов. Тем не менее он — плоский плут, побуждаемый всегда самыми низменными, самыми вульгарными чувствами. Несмотря на свои 50 лет, он добивается руки Евы, зарится на ее крупное приданое, и так как менее уверен в своей способности очарования, чем в своем мейстерзингерском таланте, то и сетует на то, что Погнер предоставил своей дочери право отказать победителю на поэтическом конкурсе, если он не понравится ей, и хотел бы убедить его воспользоваться своей властью для того, чтобы принудить бедняжку во что бы то ни стало выйти замуж за победителя. Он питает самую низкую ненависть к тем, в которых он видит возможных соискателей руки Евы, особенно к Гансу Заксу и Вальтеру. Для достижения своих целей все средства кажутся ему хорошими; он не стесняется даже украсть со стола у Ганса Закса только что написанные последним стихи, которые писарь принял за стихи, сочиненные поэтом-сапожником для того, чтобы на конкурсе добиваться руки Евы. “Я еще не встречал человека более негодного”, — говорит о нем Ганс Закс. И действительно, Бекмесер был бы совсем гнусен и возмутителен, если бы не был животным еще более смешным, чем злым, и если бы, видя и слыша его, сейчас же не догадывались, что его самодовольство и глупость, в конце концов, помешают ему иметь успех в его грубых намерениях. Но Бекмесер является каким-то исключением среди мейстерзингеров. Почти все они — люди вполне почтенные, немного пристрастные к себе, любящие свою покойную жизнь, враждебные ко всякому выбивающему их из круга привычек новшеству; ничего не смысля в поэзии, являющейся для них таким же ремеслом, как и всякое другое, они с какой-то почти трогательной, но и крайне смешной искренностью считают себя призванными на земле представителями ее. Во главе их блещет золотых дел мастер Погнер, бравый, достойный человек, по-видимому, весьма искренно преданный своему искусству, так как он добровольно предлагает свою дочь вместе с богатым приданым лучшему из мейстерзингеров; немного, быть может, пустоватый, потому что если он и назначил поэтический турнир, то делал это больше из-за мелочного тщеславия, — чтобы показать, что не все буржуа — копеечники, что и они умеют поспорить в щедрости с большими господами; впрочем, — превосходный отец, потому что, в конце концов, он ничего так не желает, как только счастья своей дочери, и был бы в отчаянии, если бы по его вине бедной Еве пришлось выйти замуж за ненавистного ей искателя ее руки или остаться в девушках. В сущности, сам по себе, Погнер не очень полагается на свою великую идею, когда видит Вальтера Штольцинга.
Сверх того, истинно мудр, по мнению Вагнера, не юный революционер Вальтер, а сапожник-поэт Ганс Закс, самый великий среди мейстерзингеров, “последний представитель творческого, художественного народного духа”, который мечтает соединить гений с правилом, инстинкт традицией. В Нюрнберге он является любимцем народа и пользуется его доверием любовью. Со своей стороны, имеет веру в народ. то время, как мастера, пропитанные своим педантским знанием правил, презирают простой народ, желают сделать из искусства книжную забаву надменно провозглашают: “Там, где говорит я держу уста закрытыми”, — напротив, благоговейно уважая правила традиции, хотел бы, чтобы народ время от времени был допускаем к суду над произведениями мастеров: “Поймите же меня, им, согласитесь тем, что хорошо знаю много лет направлял свои заботы на то, корпорация хранила уважение уставу. Но раз году, мне, казалось бы благоразумным подвергнуть испытанию самые правила, хотя для увидеть, погибли ли старой колее привычки их сила жизнь; если вы еще пути природы, один тот может сказать вам правду, кто совсем знаком табулатурой”.
Он находил справедливым турнире должна решиться участь Евы, присуждал награду “Дайте народу, — говорит он, — высказать суждение; выбор его будет наверное согласен с выбором дитя”. И так как он верит в инстинктивную мудрость простых сердец, то с первого же раза и угадывает гений Вальтера. Он почти один защищает его против Бекмесера и мейстерзингеров, которые, придя в негодование от смелости и новизны его поэзии, не хотят дать ему докончить его пробное пение. Он знает, в самом деле, что традиция не есть все и что нельзя судить блестящую импровизацию юного рыцаря по тесным правилам табулатуры: “Ни одно правило не соблюдено, — говорит он, — и все же в этих стихах нет никакой ошибки. То была старая и в то же время столь новая песня, как пение птиц в сладком месяце мае. Кто внимал ему и в своем безумии захотел петь, как птица, встретил лишь улыбки и насмешки. Нежный закон весны и любви вдохновил его сердце: он пел так, как будто сама необходимость управляла им!.. Той птице, которая сегодня пела, природа дала благозвучный голос; если он и напугал мастеров, то при этом очень понравился Гансу Заксу”.
Сапожник-поэт чтит в Вальтере блестящее проявление поэтического инстинкта, того инстинкта, который смутно дремлет в глубине темной души и простых сердец и с какой-то стихийной силой прорывается у некоторых избранных натур. При всем том он знает, что сам гений не может обойтись без правила. “Прощайте, мастера, навсегда!” — восклицает Вальтер, покидая школу, из которой его изгоняет ограниченный ум педантичных блюстителей устава. Ганс Закс не так понимает это. Одного поэтического инстинкта недостаточно для того, чтобы сделаться великим поэтом. Конечно, весна и любовь внушают гению за прекрасные годы юности бессмертные напевы; но он должен с ранних лет научиться также сознательному и обдуманному искусству мастеров, для того чтобы, когда придут зрелые годы вместе с их житейскими заботами, когда весна и страсть уже не станут петь за него, то он все же, с помощью правил, сохранил бы на всякое время и во всякую пору тот божественный дар певцов, который дан ему от природы.
И вот Вальтер послушно подчиняется влиянию Ганса Закса. Он соглашается приучить свое свободное вдохновение к требованиям устава и диктует сапожнику-поэту конкурсную песню, в которой традиционные формы искусства мастеров являются почти соблюденными. Однако в последний раз гордость его воспламеняется в конце, когда Погнер, после конкурса, из которого Вальтер вышел победителем, предлагает ему место в рядах мейстерзингеров. Первым его побуждением было отказаться от того нового достоинства, которое хотели ему поднести, и наградить мастеров презрением за презрение. На этот раз вмешательство Ганса Закса приводит его к более справедливым чувствам: Ганс Закс указывает ему на опасности, которые угрожают немецкой стране, знати, отделяющей себя от народа, забывающей свой родной язык, ослепленной итальянскими искусством и модами и соблазненной процветающей по другую сторону Рейна культурой. Против этого вторжения чужестранцев нет более верного оплота, как только истинно национальное искусство старых немецких мастеров.
Поэтому говорю вам: “Чтите немецких мастеров; привлекайте к себе плодовитых гениев, и если вы будете сочувствовать их делу, то хотя бы даже, как дым, исчезла Священная Римская империя, у нас все-таки останется священное немецкое искусство!” Ганс Закс мечтает соединить в гармоничном братстве гений с правилом, свободный творческий инстинкт поэта с благоговейным уважением к славной традиции искусства. Рассматриваемые в таком виде “Мейстерзингеры” представляются нам чем-то вроде литературно-эстетической сатиры; и чувство, которое господствует в пьесе, основанной на этих данных, есть ирония. Эта ирония затрагивает, по замечанию Вагнера, не заблуждения и самые пороки настоящего времени, а лишь отдельные, условные формы, под которыми обнаруживается порочный и развращенный дух настоящей эпохи.
С такой точки зрения “Мейстерзингеры” есть картинное, комическое описание буржуазных предрассудков, самодовольной и самоуверенной глупости в той частной форме, в которую они облекаются в Нюрнберге во времена Ганса Закса. Подобный сюжет, с первого взгляда, может показаться неподходящим для того, чтобы можно было трактовать о нем в форме музыкальной драмы, потому что музыка, как мы это видели, бессильна в описании всего того, что является случайным и условным; но нужно заметить, что она, по крайней мере, может описывать “то, что есть вечно человеческого в условном”, т. е. всеобщее и постоянное стремление человеческого ума формулировать законы — в искусстве ли, в морали или в политике — и воображать, что эти законы, значение которых эфемерно и кратковременно, есть нечто святое и божественное. В этом смысле смешные стороны моды и условия могут дать сюжет для музыкальной драмы.
Однако достоверно то, что такой сюжет, как “Мейстерзингеры”, если ограничиться только признанием в нем сатиры, направленной То, что побудило его снова взяться за свой проект, это — замеченная им возможность соединить литературную и социальную сатиру с человеческой драмой, которая разыгрывается в глубине сердца Ганса Закса. Эта драма является столь внутренней и сокровенной, что с трудом обнаруживается в самом тексте поэмы и открывается, так сказать, только с помощью музыки. Однако она имеет безусловно важное значение для понимания пьесы и придает последней совершенно новый философско-поэтический смысл. В пьесе, написанной в 1862 г. — только в этом она и отличается от эскиза 1845 г., — Ганс Закс уже не только представитель национального народного искусства, — тот мудрый, воздержанный ум, который работает над соединением гения с традицией; он в то же время становится тем мудрецом Шопенгауэра, который геройским усилием отречения достигает самого высокого совершенства, какого только может когда-либо достигнуть человек.
При рассмотрении пьесы с такой точки зрения “Мейстерзингеры” повествуют о том последнем испытании, которое должен преодолеть Ганс Закс, чтобы прийти к наивысшей мудрости и к внутренней, невидимой и молчаливой победе над самим собой. В сердце ремесленника-поэта есть зазноба. Никому не признаваясь в том, да и сам почти не сознавая того, он любит в Еве, с нежностью более трогательной, чем нежность отца или друга, девушку, готовую распуститься в роскошный цветок. Без сомнения, он отстраняет от себя мысль жениться на ней; ведь он если не старый, то по крайней мере пожилой уже вдовец; он вполне ясно говорит об этом Бекмесеру, который боится встретить в нем конкурента: “Ну нет, господин отметчик! Воздыхатель должен быть сделан из дерева, более зеленого, чем вы и я, если Ева должна будет пожаловать его наградой”. С первым появлением Вальтера на сцене он почувствовал любовь Евы и прекрасного рыцаря и хочет только одного, чтобы юная девушка могла выйти замуж за того, за кого будет говорить ее сердце. Однако на одно мгновение надежда, кажется, улыбнулась ему: он может считать себя любимым. Ева чувствует к Гансу Заксу глубокую, искреннюю детскую привязанность; если бы сердце ее было свободно, если бы небо, так сказать, не выбрало за нее, устроив ей встречу с Вальтером, то она великодушно отдала бы награду Гансу Заксу перед всеми мастерами в день конкурса. И вот она приходит в лавку к сапожнику-поэту для того, чтобы узнать от него, имел ли Вальтер успех в пробном пении и может ли он завтра конкурировать с мейстерзингерами в искательстве ее руки. Чтобы получить от него нужные ей сведения, она начинает кокетничать; она ласкает его с невинным лукавством; хочет заставить его поверить, что она не без удовольствия увидела бы его победителем на поэтическом конкурсе, который решит ее участь.
Ева. Не может ли иметь успех вдовец?
Закс. Дитя мое, он был бы слитком стар для тебя.
Ева. Ну, как слишком стар! Здесь должно побеждать одно только искусство; кто только смыслит в нем, тот и может добиться моей руки.
Закс. Ева, милая моя, ты говоришь мне басни.
Ева. Нет! Это вы мне говорите вздор. Сознайтесь же, что ваш нрав изменчив; Бог знает, кто сегодня занимает место в вашем сердце! А я уж сколько лет думала, что я хозяйничаю в нем.
Закс. Несомненно, потому что я с удовольствием носил тебя на руках.
Ева. Я вижу это хорошо; это было потому, что не было у вас детей.
Закс. Когда-то и я имел жену и детей.
Ева. Но ваша жена умерла, а я вон какая уж большая!
Закс. Да, красавица большая!
Ева. Вот потому-то я и думала, что вы возьмете меня в свой дом вместо жены и детей!
Закс. Тогда я имел бы все сразу: и дочь, и жену; конечно, это была бы весьма приятная радость! Да, да! Мысль твоя очень даже хороша!..
Как-никак, а башмачник-поэт взволновался. А что, если бы тайная мечта его души осуществилась! Но не открывая волнующих его чувств, не покидая шутливого тона, он искусно испытывает сердце Евы. И тотчас же истина обнаруживается: едва он рассказал о неудаче Вальтера и притворно стал на сторону мейстерзингеров против него, как девушка уже выдала своей досадой и негодованием весь секрет своего сердца. Тогда Ганс Закс решил так: отказавшись сейчас же, без единого жалобного слова, от всякого эгоистического желания, он станет стараться для счастья Евы. “Дитя мое, — говорит он потом девушке, — я знаю одну печальную историю о “Тристане и Изольде”.
Ганс Закс был мудр и не пожелал счастья короля Марка. Ремесленник-поэт отрекся, как король Марк, но отрекся вовремя, и не нужно было никакой катастрофы, чтобы озарить его. Он без всякого бесполезного возмущения, молчаливо и покорно преклоняется пред тем естественным законом, который хочет, чтобы юность соединялась с юностью. Он свободно отказался от всякого стремления к эгоистическому счастью, достигнув таким образом того состояния высшего освобождения, которого достигают Брунгильда после смерти Зигфрида, Вотан после падения его честолюбивых грез, Марк после катастрофы с гибелью единственных существ, привязывавших его к жизни. И покорность его делается еще более прекрасной и величественной, чем покорность других вагнеровских героев, — тем, что она не является ни отчаянной, ни скорбной, а улыбающейся и мужественной. Ганс Закс отрекается от счастья без жалоб, без отчаянных воплей, без трагических жестов.
Один только раз, когда две четы, которые были обязаны ему своим счастьем — Вальтер и Ева, Давид и Магдалена, — соединяют свои голоса, чтобы воспеть новое счастье, Ганс Закс, более одинокий, чем когда-либо, в этом разливе радости, испускает меланхолический вздох, который проходит незамеченным посреди веселья его любимцев: “Пред дитятей милым, благородным я охотно пропел бы; но я должен заглушить нежную печаль моего сердца; то была лишь вечерняя, прекрасная греза, о которой едва лишь смею я во сне мечтать!”
Вместо того, чтобы желать смерти или скорбеть о самом себе, он думает только о том, как бы сделать счастливыми окружающих. Он хорошо знает в своей высокой мудрости, что все здесь только иллюзия. “Глупость! Глупость! Все только глупость!” — восклицает он в знаменитом монологе 3-го акта. Но эту глупость, которая является в хрониках городов, в истории народов, эту глупость, которая только что охватила мирных граждан Нюрнберга и толкала их, неизвестно для чего, одних против других, — потому что хитрец Кобольд перебрался на старую сторону города, потому что какой-то светляк напрасно искал свою подругу, потому что бузина распускалась, потому что это был вечер на Иванов день, — эту глупость Ганс Закс вовсе не ненавидит, но со снисходительной улыбкой извиняет ее. И он понимает, что долг мудреца — искусно направить эту беспорядочную сарабанду так, чтобы она произвела удачный эффект, чтобы, в конце концов, она дала начало одному из тех высших созданий, которые могут родиться только с крупицей глупости... Чтобы утешить себя в гибели своей прекрасной мечты, он соединяет ту, которую любит, со своим юным, счастливым соперником, пристыжает злого Бекмесера и примиряет Вальтера с мейстерзингерами. Полная покорность, пессимистическое понимание вселенной становятся у Ганса Закса, как это будет с Парсифалем, мотивом действий, принципом новой, более высокой жизни.
Что дает “Мейстерзингерам” исключительное место в произведениях Вагнера, это — то, что все внутреннее действие, вся внутренняя драма, которая разыгрывается в глубине души Ганса Закса, остается почти незаметной в поэме; и только в музыке, и притом с полной ясностью и с весьма сознательным в своих эффектах искусством, Вагнер отметил различные фазы той чувственной эволюции, которая ведет ремесленника-поэта от вспыхнувшей надежды к скорбному отречению и под конец к ясной и торжествующей покорности. Может быть, такой оригинальный смелый прием, каким мог воспользоваться один лишь драматург-музыкант, еще более увеличивает сильную и трогательную красоту фигуры Ганса Закса. В словах своих он всегда применяется к понятиям окружающих его людей. И однако, с другой стороны, чувствуется, что он стоит бесконечно выше всех их, что он живет в той сфере, куда не проникает никто из них. Его высшая мудрость совершенно изолирует его от всех этих добрых нюрнбергских буржуа, волнующихся кругом него. Никто из них и не подозревает глубины души этого скромного простого ремесленника, который не является ни таким богачом, как Погнер, ни таким знатным, как Вальтер, и не занимает никакой видной должности. Он проходит одиноким и непонятым посреди занятых делами и рассеянных соотечественников. Только одна Ева угадывает кое-что из чувств, наполняющих это великое сердце; она инстинктивно чувствует, что жестоко поступает со своим другом; несколько мгновений она предчувствует скорбную тайну, которую Ганс Закс прячет от всех глаз; но она счастлива: в опьянении от своего счастья, она очень скоро закрывает глаза на ту тревожную глубину, в которую взор ее был погружен на один момент. И вот тайна Ганса Закса так и остается скрытой в глубине его сердца — неизвестная для всех актеров драмы, едва подозреваемая зрителем, внимание которого поглощается видимым, понятным действием, тем, что говорится и что видится на сцене, угадываемая только теми, кто при запутанности внешней интриги может уловить внутреннюю идею драмы и понимает ту чудную симфонию оркестра, которая дает столь живой и картинной пантомиме ее глубокий смысл.
Благодаря этой новой концепции характера и роли Ганса Закса “Мейстерзингеры”, в конце концов, становятся в весьма тесную связь со всеми произведениями Вагнера и отмечают собою важный переход во внутренней эволюции, которая ведет его от полного пессимизма снова к относительному оптимизму. Ганс Закс является таким же “отрицающим”, как Вотан или Марк, но он не побежден жизнью; испытание, которому он подпал, не сломило в нем жизненной силы; и пьеса оканчивается чем-то вроде апофеоза, когда Ганс Закс, приветствуемый единодушными кликами народа, является пред нами, так сказать, духовным главою своих сограждан. Таким образом, отступая от пессимизма “Тристана”, Вагнер провозглашает, что жизнь может иметь смысл даже для тех, которые совершенно отреклись от всякого эгоистического желания. Важно заметить, что эта перемена совершается в нем накануне неудачи, постигшей “Тангейзера” в Париже, следовательно, значительно раньше того момента, когда вступление на престол короля Людвига II дало ему средства и надежду добыть окончательный успех и победу идее музыкальной драмы в Германии. Таким образом, идеи Вагнера о возрождении, которые мы будем разбирать в следующей главе и которые находятся уже в зародыше в “Мейстерзингерах”, являются плодом самопроизвольной, внутренней эволюции, а не результатом счастливой перемены, которая происходит с 1864 г. во внешних условиях жизни Вагнера, как можно было бы легко подумать. Успех утвердил Вагнера в его оптимистическом настроении, а не вызвал его: уже в эпоху “Мейстерзингеров”, в тот момент, когда будущее было еще весьма мрачно для него, он достиг того состояния души, которое он передал с такой захватывающей поэзией в конце своей жизни — в “Парсифале”.
Глава IV: I. Сценическое исполнение драм Вагнера
Практическая деятельность Вагнера с 1859 до 1882 г. — Идеальный взгляд на театральное искусство. — Практический характер реформ Вагнера. — Происхождение байрейтской идеи. — Первоначальная форма байрейтской идеи. — Участие Людвига, короля Баварского. — Неудачи проектов Вагнера в Мюнхене. — Сооружение Байрейтского театра. — Художественная реформа, открытая в Байрейте. — Моральное и национальное значение байрейтского дела. — Основная идея Байрейта.
Художественная и умственная деятельность Вагнера не уменьшилась в последнем периоде его жизни. Без сомнения, в годы своего изгнания он окончил, набросал вчерне или по крайней мере обдумал почти все свои художественные произведения, но раз он возвратился в Германию, то ему оставалось приступить к исполнению своих замыслов, к окончанию начатых произведений, а эта работа потребовала от него целые годы труда. С 1861 по 1867 год Вагнер поставил на ноги “Мейстерзингеров”, набросанных им, как мы только что видели, уже в 1845 году; с 1863 по 1874 год окончил “Кольцо Нибелунга”, прерванное в 1857 году, наконец, с 1877 по 1882 год написал “Парсифаля”, первая мысль о котором появилась у него уже в 1857 году, во время сочинения “Тристана и Изольды”. Равным образом за последнее время изгнания Вагнер обладает уже большей частью своих эстетических и философских идей: при всем том его литературная и критическая деятельность не уменьшается. Не изменяя своих существенных взглядов на жизнь и на искусство, он, однако же, смягчает свой непримиримый пессимизм 1854 г. и мало-помалу приходит к учению о возрождении, в котором он примиряет свой оптимистический инстинкт со своими пессимистическими убеждениями. И в целом ряде теоретических произведений, из которых наиболее важные — “Государство и религия” (1864 г.), “Немецкое искусство и немецкая политика” (1865), “Бетховен” (1870), “Искусство и религия” (1880), он излагает свои окончательные мысли об искусстве и жизни и с новой точки зрения разбирает очень много политических и религиозных, эстетических и моральных вопросов.
Но в то время, как Вагнер в последний раз берется за художественный и философский труд, в нем обнаруживается удивительная практическая деятельность, направленная к тому, чтобы поставить на сцене те художественные произведения, которые он написал. По правде сказать, он ни на минуту не переставал интересоваться исполнением своих драм и их распространением на главных сценах Германии и за границей, — даже в те годы, когда изгнание держало его вдали от театрального мира. А с 1859 года, в особенности после окончания “Тристана”, сценическое исполнение его драм выступает на первый план среди всех его забот. С неутомимой энергией он ведет в это время ожесточенную борьбу с недоброжелательством директоров, небрежностью певцов, возрастающей враждебностью критики, с индифферентностью и застоем публики; с неукротимой настойчивостью; не зная отдыха, он борется за то, чтобы устроить удовлетворительные представления своих драм.
Победа долго не давалась. Он начал громким поражением в Париже, где в 1861 году он дал представление “Тангейзера”. После этого в течение трех лет начались бесполезные обращения к директорам всех немецких театров о постановке “Тристана”, поездки по Германии, России и Австрии, чтобы заработать немного денег и познакомить публику, по крайней мере на концертах, с некоторыми отрывками из его новых произведений. Затем в 1864 году, в тот момент, когда будущее казалось Вагнеру наиболее мрачным, наступил внезапный и решительный поворот, склонивший баланс в его пользу: только что вступивший на престол баварский король Людвиг пожаловал его своей дружбой, своей постоянной милостью, материальной и нравственной поддержкой и отдал в его распоряжение Мюнхенскую оперу с тем, чтобы он поставил там свои произведения; тогда же были устроены образцовые представления “Тристана” (1865), “Нюрнбергских мейстерзингеров” (1868), “Золота Рейна” (1869) и “Валькирии” (1870 г.). Потом наступил момент, когда Вагнер задумал создать специальный театр, в котором бы исполнялось, согласно его идеям, “Кольцо Нибелунга” тогда снова начались для него годы ожесточенной борьбы, упорного труда, забот и беспокойств всякого рода, за которые (с 1871 по 1876 г.) был создан — и ценою каких усилий! — на Байрейтском холме тот образцовый театр, о котором он мечтал.
И вот в 1876 году для Вагнера пробил столь давно желанный час триумфа: он устраивал те достопамятные представления, на которых первые артисты Германии оспаривали друг у друга честь разделить труд маэстро, и когда “Кольцо Нибелунга” было сыграно наконец сполна, с блестящим успехом, пред интернациональной публикой, собравшейся в Байрейт со всех концов Европы, чтобы присутствовать при окончательном торжестве вагнеровского искусства. Наконец, десять лет спустя, в 1882 году, лишь за несколько месяце Значение, какое Вагнер придавал театру, логически вытекало из его теорий о природе музыкальной драмы и миссии искусства. Если лирическая драма есть символическое выражение самого высокого идеала, какой только мог бы себе представить человек, — “живое представление религии”, то театр, очевидно, есть ничто иное, как храм этого идеала. Если драма должна быть совокупным произведением, в котором открываются душа и мысль народа, то драматические представления — далеко не пустое развлечение, не “забава” они должны, напротив, отвечать глубокой потребности народа, который должен желать их и вследствие этого охотно соглашаться на пожертвования, необходимые для того, чтобы сделать их, насколько возможно, прекрасными и совершенными. Таким образом, Вагнер мечтает о театральном искусстве, аналогичном искусству античной Греции, когда через длинные промежутки времени, в торжественные, праздничные дни наиболее одаренные, лучшие среди народа собирались представлять перед собранным народом трагедии, заставлявшие биться в унисон все сердца, и когда каждый находил художественное воплощение своих самых высоких стремлений. Поэтому Вагнер требует от публики действительного и деятельного сотрудничества в “сложном” деле искусства, от художников — глубокого понимания нужд и желаний народа; от исполнителей — бескорыстной любви к искусству и исключающей всякие эгоистические расчеты восторженной преданности общему делу.
Современная Европа, так как она еще не имеет музыкальной драмы, достойной этого названия, не имеет также и настоящего театрального искусства. Существующие лирические сцены являются натуральным планом, по которому строится наша обыкновенная опера — эта ненавистная Вагнеру художественная форма, в которой он видел жалкую карикатуру истинной драмы. Он особенно упрекает нынешние театры в том, что они — не художественные учреждения, а промышленные предприятия, что за высший закон они принимают не бескорыстное стремление к прекрасному, а погоню за верным успехом, преследуя материальные интересы. Равно как традиционная опера есть произведение “эгоистическое”, в котором поэзия, музыка и танец заключают на время союз, никогда внутренне не соединяясь так, чтобы дать происхождение истинной музыкальной драме, так и лирический театр прикрывает толпу лиц, которые вместо того, чтобы братски делить труд в общем деле, эгоистично тянут каждый в свою сторону.
Директор является простым промышленником, спекулирующим на той бесконечной жажде развлечений, которая томит жителей больших городов; он знает, что для того, чтобы наполнить свою кассу, нет более верного средства, как только угождать вкусу этой пресыщенной, переутомленной, изнуренной дневным трудом публики, которая приходит в театр, чтобы отдохнуть и повеселиться; поэтому он каждый вечер берет в свое распоряжение блестящий, роскошный зал, окруженный рядами лож, куда женщины приходят выставлять напоказ свои туалеты и иметь салон; среди этой пышной обстановки любители оперы продолжают светскую жизнь, к которой они привыкли, и присутствуют на спектакле, все равно как если бы они пришли в кафе или салон единственно за тем, чтобы найти там себе развлечение, которое позволит им приятно провести вечер и не потребует от них серьезного умственного напряжения. И в то время, как директор думает только о том, как бы сделать хороший сбор, артисты также думают только об одном, а именно: как можно больше обратить на себя внимание той публики, от благосклонности которой зависят и богатство, и слава; честолюбие каждого тенора, оперной певицы, танцовщицы, машиниста, костюмера, капельмейстера направлено к тому, чтобы сделаться заметным, прослыть за светило, хотя бы даже и в ущерб самой пьесе. Зато никто из всей оперной труппы не позаботится серьезно о том, чтобы сделать представления истинно художественными, старательно и сознательно поставить на сцене ценные произведения сообразно с замыслами их авторов. Такая труппа, очевидно, не способна играть музыкальную драму так, как понимает ее Вагнер. Дайте ей самый настоящий шедевр, и она поспешит обезобразить его эгоизмом и небрежностью, искалечить ленью и непониманием, разрушить в нем гармонию; одним словом, она из музыкальной драмы сделает простую оперу.
Против этой-то рутины театральной промышленности, против апатии публики и старался действовать Вагнер, и не только в ту эпоху, когда он создавал Байрейтский театр, но и во все периоды своего художественного поприща. Реформа театра есть, действительно, необходимое следствие реформы драмы так, как понимал ее Вагнер.
Заметим прежде всего, что в своих стараниях реформировать театральные нравы Вагнер не является ни непримиримым, ни утопистом. Вполне хорошо зная то, чего он хочет и к чему стремится, он отнюдь не начинает с изложения грандиозной программы необходимых реформ или с построения на бумаге проекта образцового театра. Совсем напротив, в своих задачах он всегда остается практиком и всегда и везде старается приспособляться к обстоятельствам, извлекать возможно наилучшую часть из того, что он находит вокруг себя. Он хочет, чтобы театр не был промышленным предприятием и чтобы играли в нем не из-за денег; но он не разумеет под этим разрушения всей организации существующих театров. Он замечает, например, в своем проекте реформы Дрезденской оперы в 1848 г., что денежное пособие, жалуемое опере королем, может быть сильным орудием для возрождения театра; тогда интендант, будучи избавлен от необходимости ставить все в зависимость от сборов, может взяться за эстетическое воспитание публики, вместо того чтобы покорно сгибаться пред ее требованиями; только нужно, чтобы он сделал из этого пособия правильное употребление и воспользовался им для поднятия художественного уровня представлений, а не бесполезно тратил его на внешнюю роскошь; стало быть, достаточно было бы немного доброй воли и художественного идеализма, и театральное искусство было бы освобождено от унизительной власти “презренного металла”.
С другой стороны, Вагнер хочет снять с представлений печать банальности, которую они носят в больших городах, и в то же время поднять уровень их художественного совершенства. С этой целью он предлагает уменьшить число театральных вечеров: тогда артисты, уже не приневоливаемые к подавляющей работе, будут иметь время лучше поработать над своими ролями и сохранят энергию, необходимую для уверенной и теплой игры. Такие нововведения, восхваляемые им в его мемуарах 1848 г. о Дрезденской опере или же в этюде 1863 г. о Венской королевской опере, еще не составляли никакой революции, но просто — реформу, которую можно было бы испытать без особенного финансового риска и ничем не компрометируя положение тех же оперных театров. Наконец, не следует также воображать, что Вагнер для осуществления своих драматических идей требовал экстраординарных материальных расходов. Он, в случае надобности, очень хорошо умел сообразоваться с тем, что имелось у него под руками. “Лоэнгрин” был дан в маленьком Веймарском театре и при весьма ограниченных средствах, если сравнить их, например, со средствами Дрезденской оперы: и тем не менее художественный результат, полученный без чрезмерных затрат благодаря хлопотам Листа, был весьма значительный и доставил Вагнеру большое удовольствие. Равным образом Вагнер сумел воспользоваться частью весьма ограниченных средств Цюрихского театра так, чтобы устроить хорошие представления “Моряка-скитальца”.
Итак, в своей реформе театра Вагнер отнюдь не поступает, как непримиримый и химерический утопист, который хочет во что бы то ни стало осуществить мысль, так сказать, a priori и целиком вылившуюся в его мозгу. Идет ли дело об установлении формы музыкальной драмы или об организации образцовых представлений его произведений, везде руководит его силами опыт, а не теория. А Вагнер обладал глубоким знанием всего театрального дела, потому что большая часть его жизни протекла среди художников и актеров. В речи, произнесенной в 1856 г. в Сент-Галлене, он возводит в принцип то, что “лучше совсем без театра, чем плохой театр”, весьма энергично утверждая этим необходимость во что бы то ни стало поднять уровень театральных представлений. Но на практике он прекрасно сговаривается и избегает делать исполнение своих произведений невозможным благодаря чересчур безусловным требованиям; он с глубокой справедливостью определяет ту степень идеализма, какой действительно можно добиться от многочисленного персонала, принимающего участие в представлении музыкальной драмы, и умеет делать духу времени уступки, необходимые для того, чтобы не погубить свое предприятие. Одним словом, его непримиримость как художника и теоретика всегда умеряется весьма ясным и правильным пониманием настоящего и его нужд; он в одно и то же время и убежденный идеалист, и чуткий реалист, который умеет с верным тактом выбрать средства, могущие привести его к успеху.
Но вот в сентябре 1850 г., после представления “Лоэнгрина” в Веймаре, в тот момент, когда Вагнер обдумывал план драмы о юном Зигфриде, в первый раз в письмах его появляется мысль построить специальный театр, для того чтобы поставить в нем свои произведения. Если бы ему пришлось располагать суммой около 10.000 талеров, пишет он своему другу Улиху, то он построил бы на поляне, в окрестностях Цюриха, из досок и бревен театр; организовал бы местный хор и оркестр, по большей части из любителей; привлек бы отовсюду певцов, наиболее способных создать крупные роли его драмы. Он пригласил бы, через журналы, на это драматическое торжество всех любителей немецкой музыки; созвал бы также всю цюрихскую молодежь, студентов, хоровые общества и т. д.; для всех вход был бы бесплатный. Когда все было бы готово, он поставил бы три раза в продолжение одной недели “Зигфрида”, после чего театр был бы сломан, и партитура сожжена. “Тем, которым эта вещь понравилась бы, я сказал бы тогда: ну, хорошо! сделайте то же. А если бы они захотели услышать от меня новое произведение, я сказал бы им: соберите сперва потребное количество денег!”
Когда Вагнер строил в своем воображении этот большой план, то в то же время он был первый, который отдавал себе отчет во всем том, что было химерического в подобной идее. Несмотря на презрение, которое он питал к оперным театрам, он является в то время весьма озабоченным тем, как бы упрочить за своими драмами, насколько возможно, широкое и быстрое распространение на лирических сценах Германии. Он горячо желает, чтобы его произведения игрались, и это — не только из-за денежного заработка, но также и в интересах его славы; это желание является даже настолько сильным, что, как мы видели, ему приходится допустить поистине несовершенные представления своих произведений. Проект завести специальный театр для своих драм на сюжет легенды о Нибелунгах остается для него в положении неопределенной надежды; но эта надежда дорога ему и дает ему мужество продолжать свое дело. У него является мысль принести в жертву своим материальным нуждам “Тангейзера” и “Лоэнгрина”, продать их миру Альбериха, обществу капиталистов. “Кольцо Нибелунга” не должно подвергнуться той же участи: ни за какую цену оно никогда не будет предметом торговли.
Лишь только Вагнер задумал в 1851 г. общий план тетралогии, как уже отказался от всякой мысли о том, чтобы представить это исполинское произведение на какой-нибудь лирической сцене Германии. Решено не допускать исполнения “Кольца” по частям, пока он сам не устроит торжественный праздник, на котором четыре драмы будут исполнены подряд. И вот он непосредственно пишет к Листу, которому сам же обещал “Юного Зигфрида” для Веймарского театра, — с тем, чтобы взять назад это обещание. Он хочет три года своей жизни посвятить на окончание тетралогии, потом построить на берегу Рейна театр и после года подготовительных занятий торжественно представить в нем свое произведение. “Как ни безумен этот план, — пишет он Листу, — однако же ему одному я и посвящаю мою жизнь и мое искусство. Если я осуществлю его, я заживу роскошной жизнью; если же я сяду на мель, то я умру за прекрасной работой”. Два года спустя план его еще расширяется; так, он думает устроить в своем специальном театре цикл образцовых представлений всех своих драм, включая в то число и “Кольцо”. И в течение еще четырех лет он работает над великим произведением, поддерживаемый сомнительной надеждой, решившись рисковать всем ради того, чтобы осуществить его; если он умрет прежде, чем будет поставлено “Кольцо”, он завещает партитуру Листу с тем, чтобы последний сжег ее, если ему уже не достичь исполнения ее в желаемом духе. Но в 1857 году он, наконец, утомляется: после отказа издателя Гертеля заплатить ему авансом за партитуру “Кольца” им овладевает уныние, несмотря на увещания Листа, который ручается ему за то, что “Кольцо” будет представлено, по большей мере, через какой-нибудь год после его окончания. Непреодолимое желание снова охватывает его увидеть и услышать свою драму на какой-нибудь лирической сцене Франции или Германии. Он прерывает свою работу над тетралогией с тем, чтобы быстро написать “Тристана”, и, отложив в сторону свой грандиозный проект образцового театра, снова пытает счастье на существующих лирических сценах. Впрочем, ему приходится плохо, потому что “Тангейзер” освистан в Париже; а все его старания устроить представление “Тристана” в Страсбурге или Париже, в Карлсруэ или Вене плачевно рушатся.
Обескураженный более, чем когда-либо, не ожидая ничего от будущего, почти готовый на то, чтобы оставить “Кольцо” неоконченным, Вагнер решается в 1862 году, по крайней мере, напечатать поэму своей тетралогии. Во вступлении, насквозь проникнутом глубокой меланхолией, он еще раз излагает тот грандиозный проект образцового театра, который так долго занимал его воображение и идея которого была опубликована уже одиннадцатью годами раньше в “Сообщении моим друзьям”. Убеждения его не изменились: он все так же желает специального театра, который бы был построен не в крупном центре, а в деревне или в каком-нибудь маленьком городке; оркестр, помещенный совсем внизу так, чтобы музыканты и капельмейстер были скрыты от зрителей; торжественные представления, даваемые через большие промежутки перед собранием приглашенных слушателей и артистов, а не перед платной, скептической и притупленной публикой больших городов.
Только в одном пункте Вагнер несколько изменил свои desiderata: образцовый театр должен быть уже не эфемерным строением, предназначенным к уничтожению после представлений “Кольца”, а постоянным учреждением; он должен стать прочным храмом возрожденного, нового искусства, совершенно отличного от традиционной оперы, искусства идеалистического, чисто немецкого, торжество которого было бы бесценным благодеянием для всей нации. Два пути, говорил он, открываются для него в осуществлении этой программы; нужно или чтобы товарищество богатых любителей искусства предоставило в его распоряжение фонды, необходимые для успешного ведения этого обширного предприятия; или чтобы какой-нибудь государь, убежденный в том бесподобном морализующем влиянии, какое может оказывать этот образцовый театр, решился пожертвовать на устройство великих художественных празднеств суммы, бесполезно расходуемые в настоящее время на пособие оперным театрам. И Вагнер тоскливо заключает, предлагая такой вопрос: “Найдется ли такой государь?”
Как известно, воззвание его было услышано. Едва лишь вступил на баварский престол король Людвиг II, как он призвал к себе великого композитора, желая снабдить его средствами, чтобы довести его художественное дело до конца. После первой аудиенции у короля Вагнер 4 мая 1864 г. так писал к своим рузьям тяжелых дней, Вилле, в Мариафельд: “Сегодня я был представлен королю. Он, к своему несчастью, так великолепно одарен, что я боюсь, что его жизнь протечь быстро, как божественное видение, в этом низменном и пошлом мире. Он любит меня с ревностью и огнем первой любви; он принимает участие во всем, что касается меня, и понимает меня, как моя собственная душа. Он хочет, чтобы я навсегда остался при нем, чтобы я работал, отдыхал, чтобы я ставил свои произведения; он дает мне все, что мне нужно: я должен окончить “Кольцо”, и он устроит представление его так, как я хочу”.
С этого времени грандиозный проект образцового театра вступил в новую фазу. Чтобы подготовить почву для тех нововведений, которые он замышлял, Вагнер начал с устройства торжественных представлений, пользуясь средствами, которыми располагала Мюнхенская королевская опера; по его мнению, нужно было показать все силы своего искусства и начать эстетическое воспитание публики; с этой-то целью он и дает представление “Моряка-скитальца” и “Тангейзера” и особенно со всей тщательностью ставит на сцене “Тристана”. В то же время для того, чтобы сформировать музыкантов и актеров, в которых он нуждался для представления своих драм, и чтобы развить среди немецких артистов чувство стиля и понимания великого искусства, он предполагал устроить в Мюнхене музыкальную школу, главную идею и пользу которой он излагает в докладе, адресованном 31 марта 1865 г. к королю и в следующем месяце представленном на рассмотрение комиссии. Наконец план знаменитого образцового театра, в котором должны даваться грандиозные представления, устроенные и подготовленные будущей музыкальной школой, был предложен на рассмотрение архитектору Готфриду Семперу, который в январе 1865 г. приезжает в Мюнхен для переговоров по этому делу с королем и Вагнером. Таким образом, великая идея Вагнера вполне осуществлялась, — за исключением того, что образцовый театр должен был находиться не в деревне, а в столице Баварии; едва ли можно ставить в упрек артисту эту уступку, притом же второстепенную, которую он сделал своему державному покровителю.
Отъезд Вагнера в декабре 1865 г. — отъезд, как известно, происшедший по настоянию ополчившегося на него общественного мнения, которому в конце концов должен был уступить сам король — остановил выполнение этого грандиозного плана. Устройство музыкальной школы по идее Вагнера провалилось; Готфрид Семпер удачно окончил проект его театра, модель которого была выставлена в Цюрихе в конце 1866 г. и в первых днях 1867 года представлена на рассмотрение короля Людвига, но дело этим и ограничилось; единственным художественным утешением, которого Вагнер мог добиться для себя, было представление “Мейстерзингеров” в 1868 г., в Мюнхенской королевской опере. В течение нескольких лет проект его был погребен или по крайней мере отложен на неопределенное время.
Наконец, в 1871 году Вагнер решил, что энтузиазм, внушенный национальному духу победами немецкой армии, должен будет благоприятно отозваться также и на успехе его великого художественного предприятия. И вот, после тщетных исканий материальной и нравственной поддержки у нового имперского правительства, он решил сделать воззвание к своим друзьям, сторонникам искусства будущего. В апреле 1871 г. он отправляется в первый раз в Байрейт, потом 12-го мая того же года выпускает прокламацию, возвещающую о торжественных представлениях “Кольца Нибелунга”, и открывает подписку на сооружение образцового театра в Байрейте. После пятнадцатилетнего труда дело было окончено и решительная победа одержана. Мы не станем подробно излагать историю этого великого предприятия, но рассмотрим только, как и в какой степени Вагнер достиг осуществления своей идеи.
Твердая воля Вагнера в начале предприятия отнимала у последнего всякий характер промышленности. Никто не должен извлекать материальную выгоду из байрейтских представлений. Ассоциация “патронов” снабжала предприятие фондами и свободно располагала потом всеми местами. По мнению Вагнера, никто не смел входить в образцовый театр за деньги; его представления являлись частными вечерами, которые зрители устраивали для себя, на свое иждивение и для своего удовольствия; таким образом, публика была призвана принимать активное участие в труде артистов. Таково было первое намерение, отступать от которого Вагнер сейчас же наотрез отказался. Когда в 1873 и 1874 гг. финансовое положение байрейтского дела казалось безнадежным, ему предлагали в Берлине значительные суммы, если бы он пожелал перенести свой образцовый театр в этот город и придать своему предприятию промышленный характер; подобные приглашения приходили к нему из Баден-Бадена, Дармштадта, Лондона и Чикаго. На все эти приглашения он отвечал отказом, предпочитая скорее видеть, как гибнет его дело, чем позволить обезобразить его такой тяжелой уступкой. Байрейтский театр, начатый с сумм, подписанных “патронами” дела, был окончен благодаря материальному содействию Людвига II, который в тот момент, когда Вагнер хотел было публично объявить, что дело проиграно и труды прерваны, выдал авансом фонды, необходимые для того, чтобы довести предприятие до благополучного конца; он должен был вмешаться еще и во второй раз, вскоре после празднеств 1876 г., которые дали значительный дефицит, чтобы спасти дело от угрожавшего банкротства.
Таким образом, два раза, в 1874 г. и в конце 1876 г., “патроны” Байрейта оказались не в силах поддержать предприятие, так что Вагнер должен был признаться, что в действительности у Байрейтского театра и “не было “патронов”, а были только зрители, весьма любезно оплачивающие свои места”. Второй покровительственный комитет, основанный в 1877 году, не проявил большей деятельности: он употребил пять лет на собирание средств, необходимых для постановки “Парсифаля”, но не нашел ни денег, нужных для основания школы пения и декламации, необходимой по мнению Вагнера для создания артистов, способных играть его произведения в должном стиле, ни даже средств, достаточных для обеспечения исполнения в Байрейте старых произведений маэстро. Только в этот момент Вагнер, окончательно убежденный в том, что он не может рассчитывать на “патронов” в обеспечении продолжения своего дела, решился, наконец, сделать воззвание уже не только к своим друзьям и приверженцам, но и ко всей платящей публике. В 1882 г., после двух устроенных по подписке представлений “Парсифаля”, было дано четырнадцать публичных платных представлений, успех которых позволил непосредственно основать фонд, необходимый для организации новой серии представлений. После этого Байрейт сделался таким же платным театром, как и все другие. Вагнер понял, что в этом пункте нужно было уступить, — из опасения того,как бы не увидеть гибель своего предприятия, с таким трудом доведенного до б Если мы взглянем теперь на байрейтское дело с художественной точки зрения, то заметим, что Вагнер все рассчитал к тому, чтобы сосредоточить внимание исполнителей и публики на представляемых драмах. Ангажированные на байрейтские представления артисты могут всецело посвящать себя своим ролям и углубляться в них на досуге, не заботясь в то же время, как в других театрах, о “репертуаре” и не подвергаясь необходимости один вечер играть, например, “Фаворитку”, а на другой — “Валькирию”.
С другой стороны, благодаря редкости этих представлений, у них нет и времени для того, чтобы утомиться от своих ролей, что почти неизбежно случается в больших городах, когда пьеса, пользующаяся успехом, долгое время не сходит с афиш. Потом, если артист помещается в исключительно благоприятные условия, позволяющие ему глубоко уйти в свою роль и играть ее вполне сознательно, то зато ему запрещается выкраивать себе в общем деле личный и эгоистический успех. Байрейтский театр создан для того, чтобы рельефно показать достоинство представляемых драматических произведений, а не для того, чтобы удивлять виртуозностью того или другого светила. Все отдельные эффекты должны быть строго подчинены общему эффекту. Певец-виртуоз, как и все исполнители, должен знать свое место; ему не позволяется блистать из личного расчета, приближаться к рампе, чтобы пропеть большую арию; он обязан мимировать и декламировать свою роль, заставить себя забыть о своей личности, как можно более отождествиться с тем действующим лицом, которое поручено ему вызвать к жизни на сцене; он не может ждать ни аплодисментов во время исполнения драмы, ни вызовов в конце акта или даже в конце пьесы. Он только — истолкователь той драмы, которую он играет; только в успехе этой драмы должен он видеть награду за свои труды. К драме же направляется беспрестанно и внимание зрителя. Желая отправиться в Байрейт, он должен прервать свою обыденную жизнь, бросить свои дела; в силу самых обстоятельств он не идет в театр, как публика больших городов, с тем, чтобы отдохнуть от трудов рабочего дня, а входит в зрительный зал со свежей головой, способной к умственному напряжению, чтобы наслаждаться представляемым произведением. И во время представления нет ничего, что бы отвлекало его. Нет бесполезной роскоши в зале, нет больше лож и галерей, громоздящихся друг над другом к сильному ущербу в акустическом отношении; а просто — места, расположенные ступенями, с рядом лож совсем внизу, несколько возвышающихся над последним рядом кресел. Из такого театра невозможно сделать место светских собраний и продолжать там салонную жизнь: так как спектакль — на сцене, а не в зале, то последний, лишь только начинается представление, погружается во мрак. Изолированный в безмолвной темноте зала зритель не развлекается окружающей его средой, которую он с трудом различает. Он не видит уже оркестра, смягченные звуки которого поднимаются из “таинственной бездны”, скрывающей его от взоров. Таким образом, он, так сказать, поневоле должен сосредоточивать свое внимание на действии, которое развертывается на сцене, без сопротивления отдаваться театральной иллюзии и покорно следовать за великим магом, по воле которого зрелище переносится в какие угодно ему воображаемые страны.
Но реформа, примененная в Байрейте, согласно духу Вагнера не является только художественной; она также — моральная и вместе с тем национальная. В самом деле, корень мирового зла, ïî мнению Вагнера, есть отсутствие любви, Lieblosigkeit, или, употребляя шопенгауэровский термин, эгоистическая Воля к жизни, которая отделяет каждый индивидуум от остального мира, мешает ему сострадать чужим скорбям, побуждает его в каждом обстоятельстве отыскивать свой личный интерес и увеличивает таким образом в мире сумму страданий. Этот-то дух эгоизма и стал причиной падения современного общества и нынешнего искусства: он устроил повсюду торжество власти капиталистов, он вызвал разрыв отдельных искусств, некогда братски соединявшихся в греческой драме; он вдохновляет виртуозов и артистов, когда последние отодвигают попечение об искусстве на второй план после своих мелких расчетов личного тщеславия и честолюбия; он, наконец, делает массу публики индифферентной к великому искусству, неспособной страстно отдаться общему делу, заботящейся только о своих удовольствиях и удобствах. Поэтому Байрейтский театр должен быть протестом против этого универсального эгоизма, школой отречения, любви, школой объективности.
Здесь драмы, предлагаемые на суд публики, должны являться результатом гармоничного соединения всех отдельных искусств; здесь артисты должны научиться сознательно и самоотверженно разделять труд в общем деле, не имея возможности рассчитывать ни на крупную материальную выгоду, ибо они весьма мало получают, ни даже на большой лестный для самолюбия успех вследствие запрещения аплодисментов и вызовов; здесь, наконец, зрители должны были учиться забывать на время, в присутствии художественною произведения, о своих частных делах, освобождаться от своей личности и тоже чувствовать себя солидарными с артистами и композитором — по известному выражению Вагнера, — “желать художественного произведения”. А на таком основании Байрейтский театр является, по Вагнеру, также делом существенно немецким. Что действительно характеризует, по его мнению, немецкий гений, так это — объективность и идеализм: в то время, как француз во всех своих делах управляется любовью к славе и заботой о чужом мнении; в то время, как еврей смотрит на каждую вещь только с точки зрения материальной выгоды, которую он может из нее извлечь, — немец, когда он подчиняется глубоким инстинктам своей природы, любит рассматривать людей и внешние предметы так, как они есть, постигать их и любить их для них самих, посвящать себя человеку, делу, идеалу, отвлекаясь от всякого эгоистического интереса. Этот немецкий гений, по мнению Вагнера, обнаруживается с несравненным блеском в благородной и трогательной фигуре великого Себастьяна Баха; он с Лессингом, Винкельманом, Гете раскрыл и показал миру античное искусство, смешно пародированное французами в XVII столетии; он понял Шекспира больше, чем сами англичане; он, еще с Бетховеном, открыл пред музыкой громадную область. Он, наконец, должен вдохновлять музыкальную драму, полное художественное произведение, гармоничный синтез всех отдельных искусств. Следовательно, Ба Конечно, француз попробует сделать некоторые оговорки, прежде чем присоединиться к байрейтской идее так, как мы ее определили. Без сомнения, он найдет, что Вагнер, может быть, слишком много уделяет германизму и, кажется, немного несправедлив по отношению к латинским племенам. Мы увидим дальше, при рассмотрении учения о возрождении, каково верное понимание вагнеровской теории о немецком духе и о французском. Отметим, однако, теперь, что байрейтское дело никоим образом не есть специально и исключительно немецкое предприятие, но оно — прежде человеческое, чем национальное. Вагнер призывал безразлично всех людей отречься от эгоистической воли к жизни, принять участие в великом деле человеческого возрождения. Он как можно более далек от той мысли, чтобы объективный ум и художественное беспристрастие были исключительным достоянием одной нации или одной расы. “Кичливый” француз и “интересант” еврей могут достичь этого вполне так же хорошо, как и немец, и при одних и тех же с ним условиях: достаточно, чтобы тот и другой отказались от своего индивидуального и от национального эгоизма. В Байрейте нет ни немцев, ни французов, ни евреев, а только — человеческие существа, все равные в служении идеалу. Вот верное выражение мысли Вагнера, и понимаемая таким образом, она может, как нам кажется, быть одобрена всеми.
Я знаю, у байрейтского дела часто оспаривали тот характер художественного идеализма и бескорыстия, который, по моему мнению, делает его прекрасным и великим; в образцовом театре хотели видеть доказательство чрезмерной гордости его творца, нечто вроде алтаря, который он воздвиг своему божескому достоинству. По-моему, нет ничего несправедливее этой оценки. С полнейшей искренностью будем убеждены в этом — Вагнер, вполне сознавая свое исключительное достоинство, возвещает, что объективная и безличная любовь к красоте и истине должна быть общей верой всех людей. В конце курса, прочитанного в Иенском университете Фихте, последний сказал слушателям: “Я не благодарю вас за то одобрение, которое вы выказали мне своим усердным посещением. Я не хочу быть одобренным, я ничего не хочу для себя. Наряду с теми чувствами, которые всецело наполняют меня, что такое я! Но если в этих стенах вы были расшевелены, растроганы, побуждены принять добрые намерения, то я благодарю вас от имени человечества за эти намерения”. Подобные чувства наполняли душу Вагнера в Байрейте. Равно как Фихте смотрел на себя, так сказать, как на истолкователя нравственного закона, так Вагнер отождествлял свое дело с делом искусства и требовал от байрейтских пилигримов не преклонения пред его гением, а соединения с ним в поклонении красоте. Вот, наверное, особенно надменное притязание! Но, может быть, подумают, что гений того, кто формулировал его, придал ему законную силу в широкой мере. И если мы не допускаем того, что на художественный идеализм можно смотреть как на монополию одной нации, как на привилегию байрейтского дела, то мы охотно признаем в вагнеровском театре один из самых оригинальных и достойных удивления храмов, воздвигнутых в конце этого века бескорыстному культу искусства.
Глава IV: II. Учение о возрождении
Абсолютный пессимизм. — Вагнер освобождается от абсолютного пессимизма. — Возможность возрождения.
По учению Шопенгауэра, страдание — самая сущность жизни. То, что действительно составляет центр, сущность каждой вещи, как неорганических тел и растений, так животных и людей, это — порыв, желание, которое ничем нельзя заглушить, которое не может насытиться никаким удовлетворением, которое само собой брошено в бесконечность и никогда не стремится к какому-нибудь последнему концу. Останавливается ли оно какой-нибудь преградой, вставшей между ним и его временной целью: это — страдание; достигает ли оно этой цели: это — удовлетворение, но удовлетворение непрочное, ибо оно есть только исходный пункт для нового желания. А если, с другой стороны, воле не достает объекта или если слишком быстрое удовлетворение отнимает у нее всякий мотив желания, то это — ужасная пустота, это — скука. “Жизнь, — говорит Шопенгауэр, — качается, как маятник, справа налево, от страдания к скуке; вот два элемента, из которых, в сущности, она состоит”. Следовательно, в этом учении нет места для какой-нибудь надежды на прогресс, для какого-нибудь возможного облегчения положения человека. Все твари осуждены на страдание и страдают тем больше, чем выше поднимаются по лестнице существ; по мере того, как все больше проясняется сознание, ничтожество существования идет также все возрастая; человек страдает больше, чем животное; высший индивидуум, гений, страдает больше, чем обыкновенный человек. Но рассматриваемый в своей последней сущности, взятый в целом мир не меняется; он не меняется ни в хорошую сторону, ни в дурную: это всегда одно и то же неизменное, тождественное с самим собой бытие, которое сегодня делает то, что делало вчера и что будет делать до скончания веков. — Желать, т. е. жить, это значит страдать, поэтому нет другого пути спасения для человека, как проникнуться сознанием всеобщего страдания и заглушить в себе Волю к жизни. Мир, успокоение, блаженство царствуют только там, где нет ни пространства, ни времени.
Из такого понимания вселенной исходит Вагнер. Для него также сущность мира — воля, т. е. темное желание, слепой, таинственный импульс, единая, неисчислимо могущественная сила, которая становится сознательной в той мере, в какой это полезно для того, чтобы удовлетворить самым непосредственным ее нуждам. И, подобно Шопенгауэру, он смотрит на “способность сознательно страдать” как на привилегию человеческого рода и полагает, что высшая мудрость состоит для человека в сознании того, что он тождественен со всем, что страдает в целом мире, и состоит, следовательно, в проникновении жалостью ко всем скорбям, которые он видит вокруг себя. Только вместо того, чтобы, подобно Шопенгауэру, прийти к тому заключению, что всякая жизнь неизбежно плоха, он находит средство избавиться от абсолютного пессимизма новым путем. Оптимист в 1848 году, пессимист в 1854 году, он кончает в своей славной старости примирением, в одной оригинальной формуле, оптимизма с пессимизмом, основывая на сознании всеобщего страдания надежду на будущее искупление человечества.
Действительно, по его мнению, путь, на который Шопенгауэр — согласуясь в этом пункте с двумя великими религиями белой расы, браманизмом и христианством — указал человечеству, как выйти из того чрезмерного ничтожества, в котором оно бьется, приводит не к уничтожению, а к спасению, к свету, к упованию. Философия великого пессимиста не есть учение отчаяния и смерти, или, лучше сказать, она является таковым только для тех, кто желал бы надеяться на счастье, не основав его на высшей нравственности, на сознании коренной тождественности всех существ, на любви каждого ко всем. Когда Шопенгауэр абсолютно осудил жизнь, то он постарался нарисовать жизнь так, как она представлялась ему в истории, — мир таким, каким он открывался ему из наблюдения; а в такой жизни, в таком мире, действительно, все есть только зло и страдание. Погруженный в это дело отрицания, он предоставил другим заботу открывать крутой путь, приводящий к Искуплению.
Этот-то путь Вагнер и хочет открыть.
Что, по его мнению, характеризует волю так, как она действительно является нам в мире, так это то, что она существенно эгоистична. Всегда и везде, во всех индивидуумах, во всех своих формах она стремится к усилению своего могущества. Каждое существо под давлением этой воли силится развернуть все свои силы и делает это, подчиняя себе или поглощая собой другие существа. В школе скорби человек мало-помалу научается понимать тождество всех существ: он мало-помалу приходит к ясному сознанию того, что он вместе — и воля, которая сознает себя через страдание, ощущаемое при столкновении с препятствиями, и также самое препятствие, которое задерживает эту волю и мешает ей удовлетвориться; таким образом, он поймет, что эта эгоистическая воля в своем ненасытном желании могущества постоянно умерщвляет себя, что она, следовательно, в действительности есть отрицание. Когда это чувство всецело заполнит его, то он логически придет к отрицанию этой эгоистической воли, к отрицанию этого отрицания. А что такое отрицание отрицания, как не утверждение. И действительно, самый акт, которым воля отрицает себя, далеко не есть самоубийство, уничтожение воли, а напротив, самый сильный акт воли, какой только можно себе представить. Энергия воли у святого еще сильнее, чем у самого героя. По постоянному обычаю христианской церкви вполне здоровые и нормальные индивидуумы были допускаемы до произнесения обета абсолютного отречения от мира, тогда как этот обет был запрещен всем тем, у кого физическая сила была ослаблена телесными пороками или увечьем. В этом обычае — глубокая мудрость. Не ослаблением воли, а возбуждением ее человек может прийти к отрицанию воли. Существование святого не есть предвосхищение смерти, а скорее высшее состояние жизни, которого можно достичь разве только посредством сверхчеловеческого действия воли. Таким образом, у Вагнера, собственно говоря, не отрицание, а лишь обращение (Umkehr) воли. В самом деле, в настоящем мире эгоистическая и ожесточенная страданиями воля реально отрицает самое себя; в святой же жизни воля, отрекаясь от эгоизма, напротив, поистине утверждает себя.
Итак, мир не является неизменно и неисправимо плохим, как того хочет Шопенгауэр, но, напротив, он может совершать эволюцию и изменяться в добрую или дурную сторону. Правда, современный мир решительно плох, с какой бы точки зрения его ни рассматривали. Ни государство капиталистов и солдат, ни церковь, ставшая также светской силой, ни утилитарная мораль, ни материалистическая наука, ни промышленное искусство — не находят себе милости в глазах Вагнера; во всей нашей цивилизации, столь кичливой своим величием, он видит печальное, проклятое, обреченное на смерть дело эгоистической воли. Но зло, по крайней мере, не без лукавства; оно не присуще самой сущности жизни; оно есть продукт исторической эволюции, фазы и причины которой нужно знать и определять. Эта эволюция, по мнению Вагнера, не совершается в смысле непрерывного прогресса; он питает только чувство презрения и почти ненависти к тем поверхностным умам, которые во всякой перемене видят перемену к лучшему, которые считают, например, увеличение человеческого знания и усовершенствования в технике за настоящий прогресс и закрывают глаза на постоянно возрастающее развращение человеческого общества. С другой стороны, всеобщая эволюция не есть также непрерывное и неизбежное падение, подобное естественному падению, к которому ведет старость и которое неизбежно кончается разрушением и смертью. Правда, Вагнер усматривает в истории людей признаки, позволяющие предполагать, что наша раса под давлением внешних, непреодолимо сильных причин подвержена глубокому вырождению, действие которого обнаруживается из века в век все яснее и яснее. Но эта гипотеза только одна и могла бы, по его мнению, осветить лучом надежды наше настоящее бедственное положение. Если человек изначально добр и если мы приходим к знанию тех причин, которые ведут его к падению, мы можем, в самом деле, надеяться на тот день, когда он снова восстанет. Падший, совращенный с пути человек становится добычей все возрастающих страданий: но в суровой школе скорби он сам решит мировую загадку и поймет, что значит его падение. И тогда сознательным усилием он может оказать противодействие причинам этого падения и после некоторого неведения, заблуждения и ничтожества — найти в обращении своей воли спасение и блаженство. Такова, в главных чертах, вера, апостолом которой сделался Вагнер. “Мы признаем, — говорит он, — причину исторического падения человечества так же, как и необходимость возрождения; мы верим в возможность этого возрождения и посвящаем себя осуществлению этой надежды во всех сторонах жизни”.
Это падение и возрождение касаются человеческого существа во всей его полноте. И в самом деле, все пребывает в природе: физическое здоровье, нравственность, наука, социальный строй, религия — находятся в тесном соотношении друг с другом. Всякое изменение одного из этих факторов влечет за собою соответствующее изменение других факторов, причем с некоторой уверенностью можно указать вообще, какое явление предшествовало другому или было причиной другого. На эволюцию человечества можно смотреть как на дело физиологическое или моральное, интеллектуальное, социальное или религиозное. Оно разом — все; например, физиологический прогресс необходимо приведет к прогрессу моральному или религиозному; но этот физиологический прогресс, в свою очередь, делается возможным, если только он сопровождается прогрессом моральным или соответствующим религиозным. Итак, человек в целом изменяется к добру или ко злу — в то время, как это существенное изменение выражается рядом частных и параллельных перемен. На практике мы поневоле должны рассматривать человеческую эволюцию под каждым из ее частных видов, последовательно изучать ее — то как явление физиологическое, то как социальное, интеллектуальное, религиозное и художественное. Но, поступая таким образом, не нужно упускать из виду того, что эти различные частные исследования относились к одному и тому же явлению.
Физическое вырождение человека. — Возрождение при помощи растительной пищи. — Смешение рас. — Нашествие евреев на Германию. — Искупление человечества кровью Христа. — Невероятность вегетарианских теорий Вагнера. — Мнение Вагнера о евреях. — Мнение Вагнера о французах.
Если мы взглянем на человеческую эволюцию как на физиологическое явление, то найдем, по Вагнеру, что две причины привели к дегенерации белой расы: дурное питание, сделавшее плодоядного вначале человека плотоядным, и смешение рас, глубоко испортившее первобытный характер и наследственные качества древних арийцев. Эти две причины имели следствием порчу самой крови у современных народов и, в частности, у германского народа, — порчу, на которую нужно смотреть как на главную вину в том глубоком разрушении, которое отчетливо замечается теперь среди европейских народов.
Естественный человек, невинный и счастливый, идеальный образ которого Вагнер нарисовал когда-то в юном Зигфриде, теперь уже не представляется ему с чертами красивого и сильного германца, всегда готового к войне и к приключениям, воинственного ради удовольствия помериться силами со своими соперниками и недоступного страху. Теперь очаровывает его воображение индус первобытных времен — индус, смягченный умиротворяющей религией: “Плодородная и щедрая природа сама предлагала им то, что было нужно им для удовлетворения их жизненных нужд; созерцательная жизнь, серьезное размышление могли привести этих людей, свободных от всякой заботы о пище, к глубокой мысли об этом мире, где, как показал им их долгий опыт, царствуют нужда, забота, жестокая необходимость труда, а также распря и борьба за обладание материальными благами. Брамину, исполненному того чувства, что он, так сказать, был возвращен к новой жизни, воин представлялся необходимым как охранитель внешней безопасности и вследствие этого также — достойным жалости; зато охотник внушал ему глубокий ужас, а истязатель домашних животных казался ему совсем непонятным”. Эти люди с такими кроткими нравами умели, однако, при случае доказать несравненную силу своего духа: никакая пытка, никакое обещание никогда не могли заставить их отречься от их религиозных убеждений, и Вагнер с удивлением приводит историю трех миллионов индусов, позволивших себе во время голода, устроенного англичанами-спекулянтами, скорее умереть голодной смертью, чем дотронуться до своих домашних животных.
Но первобытный человек, кроткий вегетарианец, отказавшийся пролить кровь своих ближних и своих меньших братьев-животных, мало-помалу, под давлением внешних условий, вырождается. Занесенный во время своих переселений в менее щедрый климат, он, во избежание голода, становится охотником и плотоядным; он привыкает питаться мясом домашних животных. Так, с первых времен истории мы видим, как он превращается в хищное, кровожадное животное и, в конце концов, находит удовольствие в умерщвлении не только ради удовлетворения голода, но ради самого удовольствия умерщвления. Это хищное животное завоевывает обширные пространства земли, порабощает плодоядные племена, рядом войн основывает большие государства, диктует законы и создает цивилизации — для того, чтобы спокойно пользоваться своей добычей. Теперь оно более опасно и более кровожадно, чем когда-либо; оно ужасным образом усовершенствовало снаряды истребления, истощает себя на бесполезные вооружения и живет в состоянии “вооруженного мира”, периодически прерываемого страшными кровопролитиями. Потом рядом с хищным человеком-воином, с веками, развивается хищный человек-спекулянт, столь же страшный и такой же убийца, хотя менее храбрый, чем первый, и опустошительное действие его беспрестанно совершается среди народной массы, которую он обрекает на нищету и разрушение. Но так как хищный человек владеет миром так, как в лесу свирепствует лютый зверь, то он и вырождается, как последний. “Равно как хищный зверь не процветает, — говорит Вагнер, — так, видим мы, и хищный человек-победитель медленно чахнет. Вследствие употребления противоестественной пищи он становится жертвою болезней, обнаруживающихся только у него, и никогда уже не достигает нормального конца своих дней и сладкой смерти: под тяжестью только ему одному известных страданий и пыток, которые терзают как тело его, так и душу, он спешит через жизнь тщетных волнений к всегда ужасному концу”.
Но как первобытный человек, помещенный в неблагоприятные условия, вынужден был переменить растительную пищу на мясную, так, когда он осознает свое жалкое положение и научится признавать все страдания людей и животных за свои страдания, он может усилием воли возвратиться к исключительно растительной пище. Только при таком условии он может надеяться на возрождение. Но он не должен позволять себе опускать руки при какой бы то ни было трудности практического характера в этом предприятии. Вагнер считает экспериментально доказанной истиной то, что человек может приспособляться к вегетарианскому режиму под всеми широтами, хотя, не колеблясь, заявляет, что если бы явилась необходимость в употреблении мясной пищи в северных странах, то высшие племена должны бы были систематически переселяться в страны, более одаренные солнцем. Отныне он смотрит на вегетарианские лиги, на общества покровительства животным и на общества трезвости, которые стремятся освободить человека от гнусной тирании алкоголя, как на спасительные учреждения. Когда эти слабые, презираемые и несколько смешные в настоящее время общества больше проникнутся сознанием той цели, которую они преследуют, и покажут себя публике уже не скромными проповедниками посредственной, утилитарной мысли, но миссионерами учения о возрождении, они могут сделаться сильным орудием искупления нынешнего мира.
Вторая крупная физиологическая причина настоящего вырождения человека — смешение рас. Вагнер на самом деле допускает, сообразно с идеями, изложенными графом Гобино в его “Опыте о неравенстве человеческих рас”, что человечество состоит из известного числа совершенно неравных рас: более высокие расы могут господствовать над низшими; только, смешиваясь с последними, они не поднимают на свой уровень низшие расы, а, напротив, дряхлеют и, соединяясь с ними, теряют свое благородство. Нет ничего химеричнее, следовательно, как этот мнимый закон прогресса, столь любимый проповедниками науки и новейших идей. Естественное и нормальное явление, которое открывает нам всеобщая история, на самом деле есть вырождение высших рас. Белая раса, великие дела которой наполняют историю мира, не избавилась от этого общего закона. Смешавшись с желтыми и черными расами, она сообщила им некоторые из своих доблестей и ввела их в историю; но благодаря этому прогрессивно испортившему ее первоначальную чистоту смешению она потеряла больше, чем приобрели через соприкосновение с ней низшие расы.
Одна чужестранная раса, в особенности, представляет опасность исключительной важности для белой расы: это — раса еврейская. “Еврейская опасность”, указанная Вагнером в 1850 г. в его известной брошюре “Иудаизм в музыке”, до последних дней его жизни не переставала тревожить его ум. Постараемся совершенно объективно и без предубеждений относительно ценности исповедуемых Вагнером теорий лучше понять, что он думает о положении евреев в современной цивилизации.
Ни одна раса, учит Вагнер, не сумела сохранить до такой степени неприкосновенными основные черты своего характера, как еврейская раса. Без отечества, без национального языка еврей остается евреем во всех странах, где бы он ни основал свое пребывание, и говорит на их языке. Самые различные скрещивания, — даже с наиболее чуждыми ему расами, — никогда не делают ему никакого вреда: потомки его воспроизводят всегда еврейский тип. Он не поддается влиянию ни одной из окружающих его религий, “ибо, в действительности, — говорит Вагнер, — у него нет религии, а есть только вера в известные обетования своего бога; эти обетования не имеют, как во всякой настоящей религии, своего исполнения во вневременной жизни, по ту сторону нашего земного существования, а относятся единственно к нашей земной, настоящей жизни: здесь, в самом деле, призывается еврей властвовать над всеми одушевленными тварями”. Закоснелый реалист, приученный долгой наследственностью довольствоваться всяким идеалом, еврей в борьбе за жизнь обнаруживает несравнимые качества. Непроизводительный сам по себе во всех областях, он превосходно умеет извлекать пользу из всех изобретений других, строит своекорыстные спекуляции на всех нуждах и на всех человеческих способностях, торгует даже самыми святыми вещами, как, напр., стремлением к идеалу и художественным творчеством. Он — прекрасный представитель эгоистической воли к жизни, тип расчетливого хищного зверя, в тысячу раз более опасного и жестокого, чем воинственный хищный зверь; он — воплощенный торжествующий демон человеческого вырождения.
Между семитской расой и расой арийской — полный контраст. Ариец по природе идеалист. В созданных им религиях — в браманизме, как и в христианстве, — всегда замечается основная черта: это — верование, что настоящая жизнь есть зло и что человек должен научиться отрекаться от мира. Поэтому ариец чистой расы, в силу своих могущественнейших инстинктов, стремится к победоносной борьбе с падением, к отречению от эгоистической воли. Но он смешивается с окружающими его расами, и это скрещивание тяжело отзывается на его физическом и моральном состоянии. Из двух великих европейских цивилизаций — латинской и германской — одна, латинская, является на самом деле едва арийской. Раса, наложившая свой отпечаток на эту сложную цивилизацию, — раса семитская, к которой принадлежат также и евреи. Семитский дух глубоко и прочно изменил характер древних цивилизаций, — эллинской и римской; с точки зрения религий, — католическая церковь есть произведение латинской расы, в которой еврейский дух глубоко проник в истинную религию Христа. — Германская раса, особенно в Германии, остается сравнительно более чистой, чем латинские расы, и, может быть, теперь еще среди старинной немецкой знати найдутся подлинные экземпляры чистой, свободной от всякой примеси расы. Но и она также не могла вполне оградить себя от чужеземных влияний: такие катастрофы, как, напр., Тридцатилетняя война, истощили и глубоко испортили немецкую кровь; так что в настоящее время нельзя сказать, чтобы расовый инстинкт у германцев сохранился в той же мере, в какой этот инстинкт является у евреев. Равно как в былое время семитский дух проник в римский мир, так и теперь можно опасаться, как бы Европу все более и более не заполонил еврейский дух. Германцы же потеряли чувство того, что полезно и что вредно им: они не умеют защищаться от нашествия евреев. Во имя религиозной терпимости и равенства всех “исповеданий” пред законом они иудейскую религию, которая не есть религия, поставили на одну ногу с различными христианскими исповеданиями. Во имя какого-то отвлеченного принципа равенства они пожаловали евреям те же самые права гражданства, что и христианам, и не заметили тех громадных опасностей, которым подвергало их такое безумное поведение. Они не заметили, что уже с некоторых пор в современном обществе господствуют еврей и еврейский дух. Теперь идет дело об “эмансипации евреев” она давно уже готова! В настоящее время вопрос в том, сумеют ли христиане эмансипироваться от власти евреев.
Как можно еще, при таких условиях, сохранять надежду на возрождение? Для того, чтобы остановить вырождение человечества, нужно ли белой расе испытать последние силы и выбросить угрожающие ей чужеземные элементы? Проповедовать ли священную войну германизма с еврейским и семито-латинским миром? Не возможно ли искупление только для небольшого числа привилегированных, для избранной расы, гордо изолированной от остального низшего человечества, в котором царит эгоистическая воля? Наконец, возможно ли искупление даже и в этих тесных границах? Если высшая раса роковым образом разрушается при соприкосновении с низшими расами, то не кажется ли, что самою силой вещей человечество обречено на падение и уничтожение?
Вагнер избегает крайних выводов, которые можно было бы при желании извлечь из его учения, тем, что придумывает любопытную по своему мистицизму теорию о “крови Христовой”, пролитой на кресте ради спасения рода человеческого. Не святотатство ли, говорит Вагнер, исследовать: принадлежала ли эта кровь белой расе или совсем другой? Кровь Христа — кровь “Божия” но что мы разумеем под этим? Если белая раса имеет почетную привилегию — обладать в высокой степени той способностью, которая составляет самое единство человеческой породы, способностью сознательно страдать, то божественная кровь Спасителя будет “воплощением сознательного и вольного страдания”.
Если верить Шопенгауэру, то может случиться, что животная порода, под угрозой предстоящего разрушения, в борьбе с уничтожением удивительным усилием порождает не только высших индивидуумов, но и новую породу. Подобным же образом, по Вагнеру, нужно представлять себе происхождение Христа: все человечество, когда ему грозило вырождение даже в самой славной расе, в белой расе, отчаянным усилием породило единое и новое существо, божественное резюме всей человеческой породы. После него не было равного ему; кровь его изменилась, испорченная в человеческих последователях его учения и веры. А эта божественная кровь тем не менее пролилась ради спасения человечества. Христианство не есть, как браманизм, религия привилегированной расы, цвета человечества, а — универсальная религия для всех народов, для нищих духом и обездоленных. Божественная кровь Христа, которую еще сегодня верные допускаются вкушать, когда они принимают участие в Святой Вечере (по Вагнеру, единственно достоверное таинство), есть превосходное противоядие, благодаря которому весь род человеческий может избегнуть закона вырождения рас и очистить свою испорченную кровь.
Вагнер сознавал все, что было гипотетического в его физиологической теории о возрождении. Он хорошо отдавал себе отчет в том, что большинство его взглядов на прошлое и, в особенности, на будущее цивилизации не были истинами научного рода, а были просто прекрасными грезами, “утопиями”. И в самом деле, я сильно сомневаюсь, чтобы даже теперь, когда Вагнер так “в моде”, он насчитал себе очень много вполне убежденных сторонников своего учения в этом отдельном пункте. Во всяком случае, почти все его положения были оспариваемы, а некоторые из них даже с крайним пристрастием.
Вегетарианские теории, развиваемые Вагнером и заимствованные им вообще из произведений Глейцеса, любимого химерического апостола вегетарианства, жившего в первой половине нашего столетия, по большей части оставляют ученых людей большими скептиками. По крайней мере, весьма сомнительно, чтобы человек был создан для исключительно растительного режима, а также — чтобы, действительно, можно было привести его в подчинение этому режиму. Впрочем, даже допустив возможность обращения человечества к вегетарианским доктринам и решимости его к массовому переселению в более благоприятные страны, все же следует знать, что большая часть поддерживаемых Вагнером исторических положений, вероятно, ошибочны. Кажется, с самой глубокой древности человек был плотоядным; во всяком случае, в древнюю эпоху индусы (теперь они — вегетарианцы) отдавали предпочтение мясному питанию пред питанием растительным; равным образом едва ли можно Пифагора или Иисуса Христа делать апостолами вегетарианства, как это пытается сделать Вагнер. Следовательно, с научной точки зрения доктрины Вагнера о питании остаются по меньшей мере под сомнением.
Его теории о человеческих расах не только вызвали собой споры: они возбудили против него жестокую ненависть. “Иудаизм в музыке”, когда он был издан в 1869 г., дал место более чем 170 — подчас слишком сильным — возражениям; и сторонники Вагнера не без некоторого основания могут утверждать, что ожесточенная враждебность, встреченная Вагнером в прессе, объясняется, по крайней мере отчасти, тем фактом, что евреи, особенно в Германии, имеют преобладающее влияние на громадное число журналов и что они никогда не могли простить ему его колкие речи против их расы. — Разумеется, мы не станем ни оценивать теорию Вагнера об этом горячо оспариваемом предмете, ни решать: клеветал ли он на евреев или нет, и воображаемая ли та опасность, на которую он указывает, или нет. Мы не видим, какая могла бы быть польза, если бы мы захотели здесь в нескольких строках решать еврейский вопрос. Зато нам кажется необходимым показать, что вагнеровскую точку зрения совсем не должно смешивать с точкой зрения большинства антисемитов. В самом деле, для последних еврейский вопрос прежде всего — вопрос экономический: они видят в еврее опасного и мало добросовестного в борьбе за деньги конкурента и стремятся избавиться от него, указывая христианам на угрожающую им опасность. Напротив, Вагнер упрекает евреев вовсе не за то, что они лучше, чем христиане, применяют на практике жизненную конкуренцию, а за то, что они гораздо сильнее желают ее, чем другие народы: он обвиняет их — справедливо или нет — в обладании в превосходной степени инстинктом эгоистической борьбы за существование, тем инстинктом, который он считал пагубным и который он желал бы искоренить в человеческом сердце. Следовательно, он не нападает на евреев, как индивидуумов, но нападает на еврейский инстинкт — разумея под ним то, несомненно, вечно человеческое стремление, которое заставляет человека эгоистично желать для себя материальных благ не ради удовлетворения непосредственных нужд, а ради удовольствия обладать и быть сильным. — Вот почему он не приходит, как антисемит, к необходимости крестового похода против иудаизма. Он охотно призывает всех людей соединить свои силы для возрождения — как евреев, так и христиан. Только он утверждает, что у евреев самый расовый инстинкт противится “обращению” Воли, отречению от эгоистической Воли к жизни. Так, он взывает к ним: “Примите смело участие в деле искупления... и мы пойдем тогда рука об руку! Но подумайте о том, что только одна вещь может освободить вас от проклятия, которое висит над вами: искупление Агасфера — уничтожение!” Чтобы стать “человеком”, еврей должен уничтожить в себе “еврея” другими словами — нужно, чтобы он смог победить в себе главный инстинкт своей расы.
Равно как теории Вагнера об иудаизме возбудили против него злобу евреев, так и его теории о латинских расах — и в особенности его мнения о французах — до такой степени затронули наше патриотическое чувство, что на много лет исполнение вагнеровских произведений стало действительно невозможным во Франции. В самом деле, должно признаться, что его “психология народов” — довольно оскорбительна для нас. В глазах Вагнера латинская раса глубоко подчинилась влиянию семитской расы. У французов в особенности является врожденной склонность выставлять себя напоказ, желать всегда, чтобы любовались ими, делать дело только из-за славы. Если француз по природе комедиант и старается прежде всего “выказать себя”, германец, и между германцами особенно немец, напротив — бескорыстен и “объективен” он — истинный представитель арийской расы, он призван сыграть главную роль в деле возрождения. “Немецкий дух” — так, как он обнаруживается у великих мастеров немецкого искусства — ничто иное, как дух объективности, инстинктивной преданности идеалу. Этот-то дух объективности и создает величие немецкого народа во всех проявлениях его национальной жизни. Вагнер одно время доходил до того, что отождествлял тот “немецкий дух”, который является в произведениях великих германских художников, с тем другим “немецким духом”, который праздновал триумф при Садове и Седане, и победы прусской армии прославлял как триумф “немецкого духа”. — Что касается последнего пункта, то очевидно, что над взглядом Вагнера французу трудно будет смеяться. Да и в самой Германии поднимаются голоса протеста против подобного истолкования фактов: самый гениальный из учеников Вагнера, Ницше, постарался доказать, что война 1870 года вовсе не была победой “немецкой культуры” над “культурой французской” и что триумф немецкой армии удался совсем по другим причинам.
Впрочем, должно признаться, что и сам Вагнер значительно изменил убеждения за последние годы своей жизни и порою, не колеблясь, изрекал своим соотечественникам жестокие истины. Когда после войны 1870 г. он запутался в громадном байрейтском предприятии, то на опыте убедился, что художественный идеализм не имеет успеха в новой германской империи. Бросив в свет в 1865 г. свое определение немецкого духа, он несколько лет спустя не побоялся скомпрометировать свою популярность тем, что открыто заявил, что дух, который управлял судьбою имперской Германии, кажется ему весьма отличным от немецкого духа Баха, Бетховена и Гете, и что отныне он уже не берет на себя смелость называть то, что было “немецким” и что не было таковым. Мы будем подражать его скептицизму, и равно как мы не решили: есть ли еврей воплощение эгоистической Воли к жизни, или нет, — так мы отказываемся также знать, правда ли, что француз пуст, а немец — объективен. Нокак бы тони Наконец, не нужно забывать того, что физиологические и этнографические теории Вагнера, при ближайшем их рассмотрении, имеют лишь второстепенное значение в учении о возрождении. Вагнер не гигиенист и не антрополог, и его учение о возрождении не может иметь притязания на оригинальность. Пусть оно могло быть внушено ему в широкой мере личными впечатлениями, мы не оспариваем этого. Но тем не менее оно основано, по большей части, на наблюдениях двух авторов, которых Вагнер точно и неоднократно цитирует, считая их за научные гарантии своих теорий, — Глейцеса и Гобино. Главное учение о возрождении основано непосредственно на внутреннем опыте, на моральных, интеллектуальных и религиозных убеждениях; напротив, эмпирическая часть этого учения есть род следствия, которое Вагнер попытался извлечь из своих принципов: попытка, может быть неудачная и во всех отношениях спорная, — формулировать то, что соответствует в области материальных фактов известному состоянию души, совокупному действию всех чувств, которые он сам испытал и анализировал оригинальным способом. Его идеи о нормальном питании и о человеческих расах далеко не являются, на его взгляд, научными доводами его религии жалости и не приобретают в его глазах столь высокой степени уверенности, как его религиозные и моральные убеждения. Те верования, к разбору которых мы сейчас приступим, сохраняют весь свой интерес также и для тех, кто не принимает ни физиологической гипотезы, приведенной Вагнером для объяснения вырождения людей, ни практических средств, которые он предлагает для возрождения нашей расы.
Идеальный консерватизм Вагнера. — Вагнер остается верным своим главным идеям.
Если, разобрав учение о возрождении с его физиологической стороны, мы станем рассматривать его теперь с точки зрения социальной и политической, то прежде всего нас поразит одно обстоятельство: это — весьма заметный контраст между мнениями, которых держался Вагнер в старости, и мнениями, которые он излагал в годы, предшествовавшие и следовавшие за его участием в дрезденском восстании. Около 1848 г., в то время, когда он писал “Иисуса из Назарета” и набрасывал эскизы драм на сюжет легенды о Нибелунгах, он полагал, что введение режима законов и договоров развратило человечество, что в особенности учреждение собственности и капиталистического режима были причиной бесчисленных зол и что социальная революция, уничтожая тиранию условных законов и сокрушая унизительную власть “презренного металла”, необходимо должна была принести с собою блаженную эру для человеческого рода. — В 1864 г., когда он написал “Государство и религию”, и в 1881 году, в эпоху “Искусства и религии”, Вагнер из революционера, каким он был, явно сделался роялистом; вообще он уже не придает политическим и социальным вопросам такого решающего значения для благосостояния человечества, а главным образом у него значительно ослабла вера в искупительную силу “социальной революции”.
Государство, какова бы ни была его форма, по понятиям Вагнера в последний период его жизни, бессильно в том, чтобы упрочить человеческое благосостояние, и все потому, что оно — учреждение существенно эгоистическое.
И в самом деле, государство есть продукт страха. Индивидуум, боясь, как бы не сделаться невольником других более сильных, чем он, индивидуумов, мало-помалу приходит к мысли — ограничить тот индивидуальный эгоизм, который является верховным владыкой естественного человека. Каждый добровольно жертвует малой частью из своих неограниченных прав на мир, для того чтобы можно было спокойно пользоваться остальными. Задача государства состоит в таком ассоциировании эгоистических воль, чтобы получилось насколько возможно устойчивое равновесие, которое доставило бы всем вступающим в договор волям наибольшую возможную сумму эгоистического счастья. В такой ассоциации необходимо имеются довольные, которые требуют сохранения существующего положения вещей, и недовольные, которые желают перемены. Но для того, чтобы государство могло существовать, нужно, с другой стороны, чтобы его существование было желательно для всех партий без различия, следовательно, чтобы оно не управлялось в интересах одной партии, но так, чтобы наименее наделенная партия могла всегда надеяться на улучшение своей участи. То устойчивое положение, к которому всегда стремится государство, имеет высшим представителем монарха. Поставленный, по своему рождению и положению, выше всех спорящих партий, он имеет назначение — обеспечивать продолжительность ассоциации; его обязанность — поддерживать равновесие социальных сил и, следовательно, восстанавливать внепартийную и строгую справедливость, или, когда справедливость не может быть осуществлена, оказывать снисхождение. По сравнению с одиноким индивидуумом или с членом партии, всегда преследующей свой частный интерес, король — существо особенное, привилегированное: властвуя вне и выше нестройной распри эгоизмов, он воплощает в себе идеал высшей справедливости и человеколюбия.
Нет ничего более различного, по-видимому, как “идеальный консерватизм” Вагнера 1864 г. и “коммунистическая” вера Вагнера 1848 г. Однако не будем спешить с заключением, как это часто делали, будто Вагнер отложил в сторону свои революционные убеждения в тот день, когда сделался другом короля Людвига II. В действительности эволюция его мнений началась вслед за кризисом 1849 г. и шла параллельно интеллектуальной эволюции, которая привела его от оптимизма к пессимизму, потом — от пессимизма к вере в возрождение. И равно как его философская мысль изменилась более с виду, чем в действительности, так же точно и в деле политики он более изменил свою фразеологию, чем самые убеждения.
Как в 1848 году Вагнер осуждает режим закона и договоров, так в 1864 г. и позднее он признает, что современная цивилизация — глубоко безнравственна, лжива, лицемерна, холодно расчетлива, что она есть легальная организация убийства и грабежа. Этот мнимый “консерватор” внутри убежден, что нынешнее общество не может существовать и что из состояния равновесия всех эгоизмов в результате невозможно получить счастье человечества. С какой бы точки зрения он ни рассматривал политическую организацию современного мира, она является, на его взгляд, достойной осуждения. Если посмотреть на отношения различных государств друг к другу, то можно заметить, что они эгоистично спорят из-за могущества и рвут друг друга, точь-в-точь как побуждаемые Волей к жизни индивидуумы, и что они не более, чем последние, имеют сознание той высшей цели, ради которой они стремятся расширить свое могущество. Как и индивидуальные воли, коллективные воли находятся в состоянии беспрестанной войны друг с другом, и эти бесполезные столкновения влекут за собой бесчисленные бедствия. Если, с другой стороны, бросить взгляд на отношения, которые существуют в каждом государстве между различными классами общества, то можно сейчас же убедиться в том, что повсюду выдвигается тревожный и неразрешимый вопрос об индивидуальной собственности. Теперь главная обязанность государства заключается в охранении собственности. Но не все граждане являются собственниками; напротив, большинство из них не имеют абсолютно ничего. Государство, которое в силу самого своего определения должно было бы примирять противоположные интересы и пользоваться властью в общем интересе ассоциации, следовательно, на самом деле как гарантия собственности имеет главной своей обязанностью защиту имущих от неимущих и, следовательно, — применение своей силы в услуге меньшинству богачей против большинства бедняков. Вследствие того внутреннего противоречия, которое ни один политик, как бы он ни был искусен, не может устранить, государство почти необходимо идет к разложению. Основанное для охранения эгоистических интересов граждан, оно не может не гарантировать индивидуальной собственности, а гарантируя собственность, оно не может распределить ее так, чтобы все граждане имели действительный интерес к сохранению собственности и, через это, к существованию государства.
Значит ли это, что с социальной точки зрения нечего и пытаться ускорить возрождение? Вагнер не удовлетворяется чисто отрицательным решением социальной задачи. Конечно, он уже не верит, как в 1848 г., в то, что разрушение действующих социальных форм и отмена законов и собственности были бы достаточны для воцарения среди людей золотого века. Он знает теперь, что всякая политическая агитация — необходимо бесплодна, что истинный социальный строй должен иметь в основании своем не расчеты эгоистического интереса, как в современном государстве, а всеобщую любовь, и что всякая реформа, всякая революция совершенно напрасна, если она не сопровождается обращением воли. Теперь он с крайней строгостью осуждает завистливого и утилитарного демагога, защитника народных прав, который видит в уничтожении королевской власти универсальное лекарство. Теперь он сознает также, что его участие в дрезденском восстании в 1849 г. имело причиной недоразумение, смешение революции с возрождением. Если он остается революционером в том смысле, что абсолютно осуждает современную цивилизацию, то зато он обнаруживает демократический и равноправный дух, в котором можно заметить не подлинное и оригинальное проявление немецкого духа, но внесение французского и еврейского. Однако он не дошел до того, чтобы советовать полное отречение от участия в деле политики или чтобы полагать, что начало всякого прогресса должно исходить от короля и аристократии. На самом деле он признает, что рабочий, этот пария современной цивилизации, который производит все земные блага и не пользуется плодами своего труда, который предается притупляющей работе и принужден в алкоголе искать забвения своего жалкого положения, по меньшей мере столь же достоин жалости, как и животное, и точно так же, как последнее, должен находиться под покровительством. А потому общества покровительства рабочим могут сделаться орудием возрождения — точно так же, как вегетарианские общества, общества покровительства животным или общества трезвости, — если они громче заявят, что они не ограничатся принятием на себя защиты материальных и эгоистических интересов известного класса граждан, а будут трудиться ради искупления человечества. Социализм сделается благотворным постольку, поскольку он сумеет освободиться от всякого утилитарного и материального характера с тем, чтобы преисполниться религиозного и христианского духа.
Возрождение при помощи знания. — Ошибки науки. — Преступления науки. — Является ли Вагнер действительно врагом науки.
Если, изучив эволюцию человечества с физиологической и политической точек зрения, мы станем рассматривать ее теперь уже не как внешнее и материальное явление, но как явление внутреннее, то она предстанет перед нами прежде всего как интеллектуальное дело: человек с помощью разума получает представление о мире и определяет цель сознательной жизни. Мы уже в начале этой главы изложили, каковы в данном случае заключения, к которым приходит Вагнер, и как, основываясь на метафизике и моральной доктрине Шопенгауэра, он толкует, с одной стороны, о глубокой испорченности нынешнего мира, в котором царствует эгоистическая Воля к жизни; с другой стороны, о возможности возродения человека обращением воли. Итак, мы не будем уже возвращаться к этому пункту; но, показав, каковы положительные убеждения Вагнера относительно философии, нам остается посмотреть, каковы его убеждения отрицательные и на каких соображениях он их основывает. Эти отрицательные убеждения представляют свой интерес. В самом деле, на некоторые философские и научные гипотезы, пользующиеся в настоящее время громадным успехом, он смотрит как на заблуждения: он так же сильно протестовал против учений материалистов и эволюционистов, как и против пользующихся ныне славой научных методов, против притязаний новейшей науки управлять всею человеческой жизнью. Должно ли, вследствие этого, причислять его к хулителям науки, — к тем, которые провозглашают ее бессилие в упрочении человеческого счастья и объявляют, что она ошиблась в своем назначении и в своих обещаниях?
Укажем сначала, что было бы грубой ошибкой воображать, будто Вагнер по отношению к положительной науке испытывал или гордое презрение, которое стараются выказать к ней многие из артистов, или же смутное недоверие, которое она внушает к себе многим религиозным душам. Он далеко не разделял подобные чувства; напротив, он полагал, что в области познания успехи естественных наук были единственным утешительным и ободряющим симптомом, который можно заметить в нынешней цивилизации. Итак, Вагнер удивлялся науке и совершенно искренно почитал ее. Только он безусловно отказывался допустить то, чтобы отвлеченная наука наших математиков или экспериментальная наука — так, как ее практикуют нынешние наши химики, физики и натуралисты — была единственной и законной формой познания. Подобно своему учителю Шопенгауэру, он полагал, что через интуицию, через самопроизвольное и непосредственное видение истины, которая иногда внезапно открывается в глубине сознания, человек достигает тех истин высшего порядка, которых все усилия разума не в состоянии ему открыть. А потому он всеми силами нападает на науку и на ученых всякий раз, когда последние выходят из границ отмежеванной им области и имеют притязание презирать права интуиции, метафизики и религии.
По мнению Вагнера, наука идет по ложному пути, если она стремится дать вселенной “рациональное”, т. е. материалистическое толкование; если она мировую загадку сводит к простой задаче по физике или химии; если она дает чрезмерное и произвольное развитие гипотезам, высказанным с мудрой осторожностью великим Дарвином, или если вместе с Бюхнером во всей вселенной видит только “силу и материю”. Поступая таким образом и упорствуя в стремлении разрешить одними собственными средствами те задачи, к которым человек может с успехом подойти только с помощью интуиции, религиозного чувства, она приводит к бесплодным и пустым теориям, явная наглость которых морочит невежд и может посеять смуту в умах или встревожить сознание простых, но суетность которых с давних пор была признана настоящими мыслителями, а в том числе и Шопенгауэром. Потом, ученый имеет прискорбную тенденцию отрицать все, что выходит за пределы той сферы, в которой он вращается. Он очень часто бывает склонен смотреть на философию и религию как на остатки далекого прошлого, — видеть в них нечто аналогичное тем зачаточным, совершенно бесполезным органам, которые можно наблюдать у некоторых животных или у человека и на которые можно смотреть, как на чисто декоративные воспоминания об органах, имеющих важное развитие и определенную роль у низших пород. Он везде хочет вычеркнуть “понятие самопроизвольности”, отрицает гений и грубо насмехается над метафизическими выражениями, подыскиваемыми для явлений, которые ускользают от всякого толкования при помощи физики. Он ни на минуту не подозревает, что истины высшего порядка, истины, которые оказывают реальное влияние на судьбы человечества, могут быть найдены только с помощью интуиции — если бы он пожелал воспользоваться ею, — с помощью того “чувства”, над которым он предпочитает издеваться.
Наука делается положительно вредной, когда, становясь на место религии, она надеется при помощи успехов физики и химии спасти мир и проповедует теорию “непрерывного прогресса”, который неизбежной эволюцией должен вести человека к счастью. На самом деле ученый совершенно бессилен в том, чтобы освободить человечество от его бедствий. Погруженный в свои книги или в лабораторные опыты, он потерял всякое соприкосновение с народом, который не понимает его нужд, и стремлений которого он не знает. Все, что он может, это — все искуснее подделывать пищу, которой мы питаемся, изобретать ужасный подбор машин, устройство и утилизация которых требуют обнищания и отупения всего неимущего, живущего насущной работой народа, снабжать сильных владетелей все более совершенными средствами для того, чтобы вести войну и уничтожать себе подобных. Но он не может положить конец тем реальным страданиям, которые порабощают человечество; он не знает способа решить социальный вопрос: как достигнуть того, чтобы помешать своим согражданам без труда умирать с голоду; он ничего не знает, ничего не может сделать и своими безумными притязаниями, своей смешной гордостью только замедляет пришествие истинно освобождающей мудрости, того сознания нашего возрождения, которое одно только может привести к обращению эгоистической воли и тем самым к искуплению падшего человечества.
Наука делается даже явно преступной, когда под предлогом усовершенствования в искусстве лечения она присваивает себе право убивать животных в медленных и ужасных муках. Вагнер, не боясь насмешек, присоединяется к противникам вивисекции. Впрочем, для изгнания ее он пользуется аргументами, весьма отличными от тех, которые по большей части выставляются ими. Они становятся вообще на утилитарную точку зрения и силятся доказать, что для преуспеяния науки вивисекция излишня; они протестуют против бесполезной жертвы животных, точнее, они допустили бы вивисекцию, сведенную к строгому минимуму и находящуюся под государственным надзором, если бы было доказано, что она необходима для успеха в медицине. Вагнер ясно отвергает такие утилитарные соображения: если он осуждает вивисекцию, так это потому, что она беззаконна, а следовательно, он безусловно осуждает ее. Мудрость, по его мнению, учит нас сострадать всякому страданию; страдание же животных кажется нам особенно жестоким, потому что оно лишено всякого смысла. Скорбь является для человека воспитательницей, которая может привести его к искуплению; для животных же она — только бесполезная пытка и остается без всякого результата. Следовательно, в присутствии их страданий мы должны в большей мере чувствовать ту инстинктивную, элементарную, деятельную, равнодушную ко всем утилитарным соображениям жалость, которая есть фундамент всякой морали и которая одна только может привести нас к спасению. Если мы не способны на этот самопроизвольный сердечный порыв в присутствии пыток, налагаемых на бессознательное животное, то можно держать пари, что мы не способны вообще на истинную жалость и что вид человеческого страдания, жалкого положения обездоленных в жизни оставит нас индифферентными или внушит нам неопределенное чувство недействительного и, в сущности, эгоистического соболезнования. Если деятельная жалость ко всему, что страдает, одна только может привести к возрождению, то наш настоятельный долг: во что бы то ни стало избавить животных от пыток вивисекции и смело заклеймить гнусное жестокосердие их мучителей, не позволяя обманывать себя филантропическими и гуманитарными теориями, приводимыми ими для оправдания своих жестоких обычаев.
Теперь мы видим, какое положение занимает Вагнер во взгляде на науку. Если наука предписывает человеку верить в то, что нет другой истины кроме той, которой мы достигаем отвлеченным рассуждением и опытом, что цель жизни состоит в устроении на земле общества, где каждый индивид находил бы максимум эгоистического наслаждения при минимуме страдания, и что человечество приближается к этому идеалу путем непрерывного прогресса, то Вагнер должен быть причислен к числу противников науки; ибо он учит, что человек поднимается до высших истин не рассуждением, а интуицией, любовью, религиозной верой; что даже самый совершенный эгоизм является разрушающим чувством; что под влиянием этого эгоизма человечество далеко не прогрессирует, а идет все дальше и дальше по пути к разрушению. И отвращение его к ученым материалистам и утилитаристам заходит так далеко, что он величает их “обезьянами, прыгающими на древе познания”. Однако много людей будут полагать, что вера в интуитивное познание и религиозные убеждения могут быть совместимы с весьма искренним удивлением перед положительной наукой. Если Вагнер не признавал того, что она в состоянии разрешить все те проблемы, которые человек вправе ставить пред собой; если он отказывается пользоваться ею как единственным проводником в жизни, то было бы, я полагаю, особенной нетерпимостью объявлять его, лишь на основании этого, врагом науки, рискуя смешать его с настоящими врагами свободного изыскания, — с теми обскурантами, которые действительно желают взять под опеку человеческий разум. Конечно, Вагнер скорее религиозная душа, чем научный ум, но, по-моему, было бы несправедливо — отрицать, что он с одинаковой искренностью и одинаковой твердостью хотел верить и знать.
Сущность религии. — Искажение христианской идеи. —Христианство Вагнера.
Теория возрождения прежде всего — и это, быть может, ее самое оригинальное свойство — есть религиозное убеждение. Это-то пламенное, страстное, инстинктивное убеждение, эта вера в идеал, которая обнаруживается у Вагнера во все эпохи его жизни, даже в то время, когда он считал себя оптимистом и атеистом — и есть самая душа всего учения Вагнера, а также и внутренняя пружина его личности.
Основанием всякой истинной религии, говорит он, является ясное сознание того, что мир плох, и испытываемое стремление освободить себя от уз, приковывающих нас к этому развращенному миру. Следовательно, конечная цель религии — та же самая, что и конечная цель морали и философии. Высшая истина, которую Шопенгауэр с помощью своих философских формул передал для сознательного разума и которую он сообщил в такой форме интеллектуальному цвету человечества, в сущности своей, тождественна той истине, которую Иисус сначала собственным своим примером, потом также с помощью столь глубоко трогательных и убедительных символов сделал непосредственно ощутимой для всех сердец, сделал непосредственно доступной толпе тех простых, “нищих духом”, которые простодушно следуют побуждениям собственного своего инстинкта и которым, при их равнодушии к ученым теориям метафизиков, чтобы убедить их, нужны конкретные образы и чувственные представления. Обращение эгоистической воли, являющееся для философа целью, которую ставит своей жизни достигший полного самосознания человек — столь же великое “чудо”, как то, о котором религиозный человек взывает во всех своих молитвах. Христианская религия — так, как принес ее миру и “жил” ею Иисус — из всех религий — самая простая и самая высокая. “Основатель ее не был мудрецом, но был богом; догмат ее был акт, добровольное приятие страдания: верить в него значило подражать ему; надеяться на искупление значило стремиться соединиться с ним. Нищие духом не нуждались в метафизическом объяснении мира; всеобщее страдание могло быть прочувствовано каждым: все, что божественный искупитель повелевал верующим, это — не закрывать сердца своего для этого чувства”.
Все христианство заключается в трех словах: Любовь, Вера и Надежда. Христианин должен чувствовать в себе огонь этой глубокой, животворящей и деятельной любви, вытекающей из жалости и уничтожающей в нас всякий след эгоизма. Он должен от всей души верить в то, что мир не есть пустая игра случая, но что он имеет “моральный смысл”, верной гарантией и неопровержимым доказательством чего служит самая жизнь Спасителя. Наконец, душа его должна быть постоянно озаряема надеждой, утешаема радостной уверенностью в том, что та вера, которая воодушевляет его, не может быть обманчива. Таким образом, религиозный человек сострадает и любит, как интуитивно проникшийся сознанием всеобщего страдания мудрец; но для достижения этой высшей мудрости ему не нужно познаний разума. В самом деле, религия не доказывается, но чувствуется; все философские формулы не могут дать никакого реального представления о том внутреннем видении верующего, о той блаженной уверенности, которыми он упоен. Такое состояние души может обнаруживаться в делах, а не в теориях. Вот почему жизнь добрых людей и святых бывает фундаментом религии; чтобы иметь блестящее доказательство искренности христианства, достаточно человеку поднять глаза свои к Искупителю, к живому воплощению воли, обращенной к добру и очищенной от всякого эгоизма, к Иисусу, божественная кровь которого пролилась на кресте ради искупления падшего человечества и беспредельная любовь которого указывает нам, где спасение, и обещает нам возрождение.
Но христианская религия не могла сохранить своей первоначальной чистоты: с одной стороны, вера в догму занимает место религиозной веры, а с другой стороны, церковь, испорченная страшной инфильтрацией еврейского духа, мало-помалу делается орудием власти, силой, соперничающей с государством.
Религия, как мы видели, по происхождению своему — дело внутреннее, божественное видение, блаженная тайна которого не может быть выражена никаким словом. Следовательно, чтобы сообщить нечто о своем видении профанам, той толпе людей, которая живет в “царстве дня”, под властью эгоистической Воли к жизни, религиозный человек видит себя вынужденным прибегнуть к аллегории. Он создал поэтические символы, имевшие назначение применять к понятиям народа неизреченную тайну божественного откровения. Так произошел догмат. Верующий человек, который знал по опыту, что такое — божественное видение, знал также, что догмат есть только поневоле несовершенный символ этого видения, обесцвеченное и неточное отражение этой внутренней грезы, и что единственный смысл его существования — в том, чтобы приготовить народ к столь трудной интуиции, как стяжание религиозной истины. Но мало-помалу эта идея затемнилась; все больше и больше приобретал значение самый догмат. И в конце концов наступил момент, когда церковь, вместо того чтобы стремиться вызывать в сердце верующего божественное видение, ограничилась строгим предписанием ему слепой веры в собрание символических рассказов, часто плохо понимаемых, измененных и искаженных преданием, которые он должен принимать буквально как философскую, моральную или историческую истину, вопреки протесту своего разума. Поэтому в современной цивилизации религиозная вера почти заглушена, и нынешнее христианство является не более, как бесполезной кучей пустых догматов, беспрестанно разбиваемых исторической и философской критикой; божественная же искра его совершенно скрыта.
Еще более тяжелым является то искажение, которому подверг христианскую религию еврейский дух. Еврей во все времена поклонялся своему национальному, воинственному и завистливому богу, который ненавидел всех чужеземных богов и обещал своему избранному народу владычество над другими народами. Спаситель же “нищих духом” родился в Галилее, в самом презренном уголке столь презираемой народами Востока Иудеи. Его первые апостолы не поняли всего того, что было высокого в этом низком происхождении: они уверовали в величие Иисуса, сделав из него потомка Давида, преемника пророков, сына еврея Иосифа. И таким образом еврейский дух захватил христианство: он глубоко извратил догму, он сделал из церкви политическую силу, иногда враждебную, чаще же всего союзную с государством. Теперь главная обязанность ее — служить помощницей государству в трудной задаче поддержания равновесия эгоизмов в споре одних с другими: христианская религия делается орудием светской власти. И бог нашей современной цивилизации, основанной на ненависти и войне, — бог, которому поклонялись пуритане во времена Кромвеля и к которому совсем еще недавно взывали пред сражениями военные проповедники, ничего не имеет общего с богом любви и жалости, с милосердым Иисусом: это — бог Моисея, Гедеона; это — завистливый бог евреев. Равно как арийская цивилизация испорчена семитским и еврейским вторжением, так и наша религия уже — не христианская, а еврейско-христианская.
Теперь мы можем ответить на один вопрос, часто обсуждаемый вагнеровской критикой: в какой степени есть основание говорить, что Вагнер в своей старости обратился к христианству? Прежде всего мне кажется трудным говорить об обращении Вагнера, потому что религиозное чувство является у него мало измененным после его юности и до его смерти. Внутренняя убежденность в том, что настоящая действительность плоха, вера в иной мир, страстное убеждение, что человек должен посвятить всего себя осуществлению идеала, победоносная уверенность в том, что он кончит успехом в этой работе возрождения — таковы основы вагнеровской “религии”, и от “Тангейзера” до “Парсифаля” они мало изменились. Вагнер мог изменять свои мысли относительно потустороннего мира: сначала он представлял его себе как какое-то таинственное и сверхземное “небесное царство”, потом как “общество будущего”, непосредственно осуществимое на земле, еще позднее — как буддийскую и шопенгауэровскую “нирвану” и, наконец, как славное и далекое пришествие возрожденного человечества.
Но все эти изменения относятся скорее к тому умственному представлению, которое он создавал себе о своих верованиях, чем к самой религиозной вере его. Эта вера остается всегда одна и та же, несколько более скорбная и беспокойная в юности и в эпоху пессимистического кризиса, более экзальтированная после 1849 года, более светлая и победоносная в его славной старости. Если стать на такую точку зрения, то невозможно допустить, чтобы у Вагнера был какой-нибудь момент внутреннего “обращения”. А с другой стороны, если эта твердая вера, устоявшая во всех испытаниях жизни, обильной превратностями всех родов, наверняка относит Вагнера к числу “религиозных душ”, то, я полагаю, законно — иметь основание сомневаться в том, чтобы она была достаточно определенной, достаточно положительной для того, чтобы только ею одной характеризовать его как “христианина” на самом деле не видно, что могло бы помешать какому-нибудь буддисту или свободному мыслителю дойти до подобного душевного состояния.
Если до некоторой степени можно сказать, что Вагнер склонился к христианству на закате дней своих, то, я думаю, это только потому, что Христос в религиозной жизни его занимает все более и более важное место. Впрочем, становясь на такую точку зрения, не следует преувеличивать ту эволюцию, которая совершалась в его мысли. Ни в какой момент жизни своей он не переставал чувствовать к Иисусу самое набожное благоговение; мы видим, что в самом разгаре оптимистического и революционного периода он набрасывает план “Иисуса из Назарета” и называет “Иисуса, пострадавшего за человечество” одним из самых высоких инициаторов за все времена. Все, что можно сказать, это — то, что фигура Спасителя незаметно растет в его воображении и, в конце концов, она доминирует над всеми другими.
В 1849 году Вагнер в своем обожании совмещает “Иисуса, пострадавшего за человечество” с “Аполлоном, даровавшим ему улыбающееся благородство”. В 1854 г. в своих письмах к Листу и Рекелю он еще ставит на одну и ту же доску христианство и браманизм и, кажется, смотрит на них, как на откровения одинакового достоинства. В 1880 году в “Искусстве и религии” он ясно ставит христианство выше браманизма, потому что последняя религия касается только цвета человечества, тогда как христианство принесло слово утешения “нищим духом”. С этих пор Иисус для него уже не просто один из великих инициаторов человечества, а Спаситель, единственный чудесный, божественный представитель воли, направленной к добру, посреди людей — там, где неограниченно властвует эгоистическая Воля к жизни. Поэтому христиане, как протестанты, так и католики, не впадая в парадокс, могут требовать обратно Вагнера как одного из своих. И так же, наоборот, нет ничего удивительного, если Ницше, соединяя под одну и ту же ненависть христианство, пессимизм и религию жалости, горько упрекал его за “обращение”, которое казалось ему интеллектуальным и моральным падением.
Не нужно только забывать, когда относят Вагнера к числу адептов христианства, что он не принадлежит ни к какой церкви и что его религия отнюдь не носит характера вероисповедания. Католицизм он упрекает за его внешнюю, бессмысленную помпу, за его догматическую узость, за его культ святых, за его искусную организацию, рассчитанную на приобретение материальной власти; протестантство он упрекает за его слепую веру в Библию, которую Лютер считал с начала до конца вдохновенной Богом, тогда как весь Ветхий Завет, в отдельности, является чисто еврейским и не заслуживает никакого вида благоговения. Он полон самого глубокого презрения к официальному христианству, к нашей “оскопленной церковной религии”, которую он считает столь же испорченной и ленивой, как все современное государство. Он, как Гете, в религии враждебен к религиям и с неумолимой строгостью критикует историческую эволюцию христианства, потому что хочет во что бы то ни стало сохранить чистым и неприкосновенным высокий образ Христа, который он носит глубоко запечатленным в своем сердце. Так что было бы во всех отношениях ошибочным представлять себе “обращение” Вагнера как действительное присоединение к одной из существующих церквей, как возвращение к традиционной вере, как подчинение какому-нибудь одному авторитету.
Историческое христианство с его явно материальными установлениями не только не внушает ему никакого благоговения, но оно даже противно ему. Его мысль остается автономной с начала до конца его жизни; она развивается по законам своей внутренней логики, никогда не поддаваясь в своей эволюции никаким внешним влияниям. Только с беспрестанно возрастающей ясностью он видел, что то зажженное пламя, которое пылало в нем, та деятельная сила, которая, как он чувствовал, толкала его во все эпохи его жизни и принимала у него много различных форм — бескорыстной любви к искусству, религии страдания, жалости к слабым и обездоленным в жизни, стремления проникнуть в иной мир — в сущности, была тождественна той многотысячной вере, которая была у браминов, наполняла душу Сакья Муни и которая, в особенности, с удивительной интенсивностью проявила себя в Иисусе Христе ради спасения человечества. В этом смысле, и только в этом, на Вагнера должно смотреть как на христианина.
Роль искусства в учении о возрождении. — Искусство и религия. — Артист и священник.
Наконец, искусство играет в учении о возрождении столь же важную роль, как и религиозное чувство. Оно также является избавительной силой. Артист в создаваемых им идеальных образах открывает человеку при помощи непосредственной интуиции цель, к которой он стремится во всех областях своей деятельности. Политик, напр., старается создать такое социальное положение, в котором уже не господствуют эгоизм и борьба за существование, в котором человеческое создание освобождается от нечестивых законов и от несправедливого порабощения, тяготеющих над ним в настоящее время; артист покажет нам в своих произведениях идеальное осуществление того состояния высшей свободы, к которому должно стремиться человечество; он заставит нас присутствовать, напр., в “Кольце Нибелунга”, при разрушении царства Золота и Закона так же, как и при наступлении царства Любви. Мудрец, ученый, философ стараются познать вселенную, с помощью своего разума стремятся создать себе правильное представление о мире и о физических и моральных законах его; артист, при помощи своих символов, передает интегральному человеку то, что мудрец постигает рационально и о чем он может сообщить только разумному человеку посредством научных или философских формул. Наконец, религиозный человек понимает обращение эгоистической воли как высший предел, к которому должны устремляться все силы человечества; поэт воспроизводит пред нашими глазами утешительное изображение наших будущих побед, лучезарное видение возрожденного человечества. На этом последнем виде миссии артиста больше всего Вагнер и настаивает в своих предсмертных произведениях. Рассмотрим же поближе, каковы его основные идеи об отношении искусства к религии.
“Искусство, — говорит Вагнер, — есть живое представление религии”. Религиозная истина, как мы только что видели, есть род мистического откровения, внутреннего видения, полную идею которого невозможно передать тому, кто сам не знаком с победоносной уверенностью веры. Но эту религиозную истину, о которой святой свидетельствует своими делами, всей своей жизнью и которую священник передает так же хорошо, как и плохо, в догмате, — художник, со своей стороны, старается передать в ее высшей красоте, в образах, предназначенных к тому, чтобы производить впечатление на самые чувства человека. Более искренний, чем священник, который почти во все времена старался навязать верующему свои религиозные аллегории как исторические истины, как абсолютные догматы, артист никогда не стремился выдавать свои произведения за что-либо иное, чем вымысел, чем символические представления чего-то такого, что ускользает от всякого непосредственного представления; так вот почему Вагнер провозглашает, что жрец искусства — “один, кто никогда не лжет”. Правда, искусство не больше избавилось от падения, чем религия. В то время, как религия в руках попов превращалась в сухую систему непостижимых и абсурдных догматов, — искусство, позабыв о своей божественной миссии, стало копировать грубую действительность и сделалось презренной забавой притупленной и развращенной публики.
Наша суеверная и атеистическая современная цивилизация видит в религии Христа не более, как бессмысленные догматические формулы и бесполезные пышные церемонии, или совсем отбрасывает вместе с этими формулами и церемониями священную и вечную религиозную истину, которая скрывается под обманчивой мишурой церковного христианства. А на такой бесплодной почве искусство не может развиваться; оно роковым образом осуждено на прозябание и вырождение. Но возрождение человечества — возможно, и искусство может быть одним из самых сильных факторов его. Без сомнения, оно не может занять место религии, и ничто так не чуждо мысли Вагнера, как желание основать — как это часто утверждали — какую-то новую художественную религию. Напротив, он весьма ясно заявляет, что искусство необходимо должно иметь основанием высшую нравственность, истинную религию, что оно может процветать только тогда, когда вновь расцветет ныне заглушенное подавляющим формализмом истинное христианство.
Итак, нет искусства без религии; но искусство — одно с религией: оно — самая живая, самая полная передача религиозного чувства. Долгое время артист, в союзе со священником, придавал христианской догме громадную убедительную силу, преображая эту догму при помощи чар искусства и предоставляя отгадывать в своем произведении истинный смысл аллегорий, предписанных священником верованию верных; только благодаря этому религиозная живопись, например, в Италии, могла осветить с изумительным блеском все то, что было прекрасного и вечно истинного в преподаваемых церковью аллегорических догматах. Но артист в действительности выше священника, как посредник между божественной истиной и человеком, как создатель религиозных символов. Музыка, христианское искусство по преимуществу, — в состоянии “открыть пред нами с бесподобной верностью внутреннюю сущность христианской
Итак, нынешний артист призывается принять наследие священника. Мы уже не нуждаемся в многосложном подборе догматов и церемоний для того, чтобы поддерживать у себя живой культ божественного. Теперь встает новое поколение, сознающее мировую трагедию; оно знает, что истинная история человечества не есть история человеческих деяний, но история его страданий; оно знает, что мы — дегенераты, и стремится к возрождению. Эта живая вера уже не находит себе удовлетворения в тех столь трогательных, но и столь несовершенных старых религиозных аллегориях, которые делаются лживыми, лишь только захотят выдавать их за исторические или философские истины. Зато она легко расцветает в произведениях искусства. В великих творениях Софокла, Шекспира или Бетховена, в особенности же в музыкальной драме, этой превышающей симфонию форме, мы находим теперь самое высокое выражение религиозного чувства, новую форму религиозного мифа. И артист так же, как в былое время священник, может поднимать души к божественному и так же, как он, утешать сердца, раздавленные суровой действительностью. Человек, даже возрожденный, никогда не расстанется со скорбью: “Как бы хорошо ни было когда-нибудь наше состояние вследствие возрождения человеческой породы и спокойствия нашей совести, однако всегда — в слепой силе стихий, в низших проявлениях природы, которые беспрестанно разражаются над нами или рядом с нами, в глубине морей или пустынь, кроме того, в виде насекомого, червя, которых мы давим, не замечая того — всегда будут факты, которые всегда будут вносить в наше сердце ужасную трагедию, разыгрывающуюся во вселенной, и мы каждый день должны будем поднимать глаза свои к распятому Спасителю, как к единому высшему утешителю”. Тем более мы находимся в таком положении теперь, среди развращенных и невыразимо жалких людей, с которыми нам суждено жить.
Вот здесь-то для нашего утешения и выступает артист. Когда наша душа готова упасть под бременем испытаний, когда суровость жизни окружает ее атмосферой печали, когда несчастье совсем близко и надежда, кажется, исчезает, тогда искусство воздвигает пред нашими глазами зараз идеальное и в то же время верное изображение универсальной трагедии; оно поднимает нас над печалями и безобразиями существования, совлекая с него его грубую реальность и превращая его в высокую и глубокую “игру”. Таким образом, учение о возрождении заканчивается апофеозом в честь искусства, в честь того избавителя, который, в неразрывном единении с религией, поддерживает и утешает нас на жизненном пути. В религиозной вере человек проникается сознанием того интенсивного желания искупления, которое одушевляет всю природу; в те торжественные минуты, когда это чувство преобладает в нем, он видит, что обманчивые миражи “царства дня” исчезают; он перестает печалиться плачевным зрелищем универсальной истории, жестоким неистовством эгоистической, ожесточенной своим собственным страданием Воли; он слышит только, как раздается вечная жалоба всей природы, которая тяжко вздыхает по последнем успокоении, по конце своих бесполезных и скорбных волнений; и эта жалоба уже не кажется ему воплем скорби, но чуть ли не гимном надежды, далеким обещанием искупления. Тогда искусство, на своем божественном языке, в своих глубоких символах, с удивительной интенсивностью эмоции выразит эту жалобу страждущего человечества, это таинственное и сладостное предчувствие будущего искупления. Рожденная в стенах церкви, музыка направила свой полет через весь мир; она несет всем людям добрую весть; наследница церкви, она утешает их в их действительных бедствиях, и звуки ее, которые находят себе доступ в самую глубь нашего существа, доносят до наших раздавленных сердец отдаленное эхо того царства мира и славы, куда зовет нас наш божественный Спаситель.
Глава IV: III. “Парсифаль”
Первая мысль о драме на сюжет легенды о Граале. — “Победители”. — Рыцари св. Грааля. — Клингзор и Замок Погибели. — Кундри. — Амфортас. — Зигфрид и Парсифаль. — Интуиция — главное свойство Парсифаля. — Откровение жалости. — Откровение греха. — Возвращение Парсифаля в Монсальват. — Парсифаль делается королем Грааля.
Драма “Парсифаль” для последней части жизни Вагнера есть то, что “Кольцо Нибелунга” для периода, следующего за революцией 1848 г. Равно как тетралогия есть поэтическое изложение мыслей Вагнера о судьбе мира и о проблеме искупления, так “Парсифаль” есть художественное выражение учения о возрождении. В 1851 г., как в 1882 г., мы видим, что Вагнер удивительным усилием всего своего существа, своих артистических и умственных способностей поднимается до полного понимания универсальной эволюции и создает в одно и то же время умственное представление о мире и художественную картину его. И равно как “Кольцо” заключает в себе целую философию, нисколько не являясь при этом аллегорией, искусственно рассчитанной на то, чтобы иллюстрировать философскую или религиозную систему, так же точно и “Парсифаль” есть результат художественной интуиции, а вовсе не драматический “пример”, вымышленный для того, чтобы в символической форме представить теорию возрождения. “Я — только артист, — писал в 1856 году Вагнер, — я могу высказываться только в художественных произведениях”, и мы имели возможность констатировать, что в тот момент, когда он писал “Кольцо”, интуиции художника, на самом деле, были в нем выше концепций философа. То же самое и в 1882 году; а если в это время и не находят уже, как тридцатью годами раньше, расхождения между интуициями Вагнера и его рациональными идеями, если существует полная гармония между “Парсифалем” и “Искусством и религией”, то при всем этом, полагаю я, должно допустить, что “Парсифаль”-то и есть самое верное, самое искреннее, самое полное и во всяком случае самое прекрасное выражение его философских и религиозных идей.
Первая мысль о драме на сюжет легенды о святом Граале и Парсифале должна была возникнуть в уме Вагнера весьма рано. В самом деле, он узнал об этой легенде по необходимости в то время, когда работал над “Лоэнгрином”, который, как упоминалось, по преданию, был сыном Парсифаля и рыцарем Грааля. В то время он старательно прочитал “Лоэнгрина” в издании Герреса, где и столкнулся с теориями относительно происхождения легенды о Граале и с этимологией имени Парсифаля, которые ударили по его воображению и о которых он вспомнил потом, много лет спустя, когда написал “Парсифаля”. Кроме того, так как самая простая форма легенды о Лоэнгрине встречается в “Парцивале” Вольфрама Эшенбаха, то вероятно, что тогда же ему пришлось прочитать и эту поэму, ставшую впоследствии главным источником его музыкальной драмы. Во всяком случае, несколько лет спустя, когда он начинает изучать легенду о Зигфриде и историю Фридриха Барбароссы, он вместе с филологом Гетлингом связывает легенду о Граале с легендой о Нибелунгах и понимает Грааль как спиритуализованный клад Нибелунгов.
В то же самое время у Вагнера явилась мысль представить на сцене историю Иисуса из Назарета, который приносит испорченному эгоизмом человечеству закон любви, освобождающий его от греха. Фигура же Парсифаля — так,как позднее обрисовал ее Вагнер — представляет неоспоримую аналогию с действующим лицом Богочеловека — так,как он постарался его представить в эскизе 1848 г. Это сходство становится особенно поразительным, если принять во внимание то, что Вагнер в плане своей драмы выводит на сцене кающуюся грешницу Марию Магдалину, которая рядом с Иисусом Христом играет роль довольно аналогичную той, которую играет Кундри по отношению к Парсифалю. Если доверять воспоминаниям г-жи Вилле, то у него было намерение показать нам Марию Магдалину воспламененной преступной любовью к Иисусу, как Кундри к Парсифалю. В том эскизе, который дошел до нас, этот мотив не является изложенным; зато в нем можно видеть другие черты, которые снова встречаются в действующем лице Кундри: Мария Магдалина, которую Вагнер отождествляет с библейской блудницей, глубоко раскаивается в своей прошлой жизни и умоляет мать Иисуса позволить ей быть в обществе Иисуса самой последней служанкой; она предана телом и душою Иисусу, которого она страстно любит и божественную миссию которого она почувствовала прежде всех учеников; в четвертом акте, который должен был напоминать собой Тайную Вечерю, она умащает главу Спасителя из флакона с драгоценной жидкостью и умывает ему ноги. Драма “Иисус из Назарета”, по-видимому, уже содержит в зачатке главные мотивы той чудной сцены третьего акта “Парсифаля”, где кающаяся Кундри усердно служит герою, отвергшему ее порочную любовь, и смиренно омывает ему ноги, тогда как Гурнеманц помазывает Парсифаля на царство Грааля.
Несколькими годами позже, в 1855 г., фигура Парсифаля рисуется в воображении Вагнера, на этот раз, ясно и определенно. С самого начала он видит в нем героя отречения, представителя чистой христианской религии. Но первое время он думает, как мы видели выше, вывести его в развязке “Тристана и Изольды” в противовес в этой драме герою страсти Тристану. Впрочем, он вскоре же отказывается от такого намерения: вместо того, чтобы выводить обоих героев в одной и той же драме, теперь он предполагает, показав в “Тристане”, как эгоистическая страсть, очищаясь под действием скорби, приводит к отрицанию Воли, представить в другой драме, как отречение и жалость могут стать началом уже не смерти, а жизни и привести человечество к победе и спасению. С этой целью он набрасывает одну буддийскую драму, под названием “Победители”, сюжетом которой является именно искупление через отречение. Героя Ананду страстно любит одна юная девушка, принадлежащая к презренной касте чандала, прекрасная Пракрити, которая и изнывает от пламенной любви к нему; но с помощью Будды он не поддается чувственной любви и произносит обет целомудрия. И Пракрити, в свою очередь, обращается к Будде; будучи дочерью брамина в прошлой жизни, она из кастовой гордости отвергла любовь сына одного царя чандала; чтобы искупить этот грех, она должна была снова родиться в образе юной чандалской девушки и осуждена была узнать пытки безнадежной любви после того, как она наложила их на другого: но в конце концов ее несчастная страсть к Ананде приводит ее к спасению: она также произносит обет целомудрия и вступает в общину Будды, где Ананда приветствует ее как свою сестру.
Легко узнать в этом эскизе тот же сюжет “Парсифаля” — только в индусском наряде. Поставьте на место буддийского догмата нирваны христианский догмат отречения, на место общины Будды — братство рыцарей Грааля, на место аскета Ананды — “чистого сердцем простеца” Парсифаля, на место страстно влюбленной Пракрити — Кундри, и вы получите почти во всех существенных чертах драму “Парсифаль”. — Эта замена совершилась в уме Вагнера весною 1857 г., когда он работал над “Тристаном” в маленьком поместье в окрестностях Цюриха, которое предоставили в его распоряжение его друзья Везендонки. В этом-то тихом и поэтичном уголке, в день Страстной пятницы, созерцая с высоты своей террасы праздничную природу, он внезапно был озарен интуицией тайны Креста: он услышал “тот вздох глубочайшей жалости, который некогда раздался с голгофского Креста и который на этот раз вырвался из его собственной груди” ему показалось,как потом рассказывал он об этом Вольцогену, что он слышал голоса ангелов, которые пели ему: “Не поднимай оружия в тот день, когда Спаситель умер на кресте ради спасения людей”. И, отложив на время партитуру “Тристана”, он написал те полные какой-то мистической нежности стихи, в которых Гурнеманц говорит Парсифалю о чарах Святой пятницы, 1877 года она появилась в книжных лавках. В то же время он начал писать музыку к произведению, которая потребовала от него не менее пяти лет. Оконченный 13-го января 1882 г. “Парсифаль” был представлен в первый раз с блестящим и на этот раз совершенно бесспорным успехом в Байрейте 26-го июля того же года.
Равно как “Кольцо Нибелунга” показывает нам столкновение между двумя враждебными мирами — Света и Тьмы, между богами Валгаллы и ордами жестокого Альбериха, так “Парсифаль” изображает пред нами решительную борьбу между двумя противоположными началами — Добра и Зла, между царством Грааля и проклятым замком волшебника Клингзора.
Святой Грааль в драме Вагнера, как в средневековой легенде, есть чудесная чаша, которая служила Христу и его ученикам на Тайной Вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал потом пролившуюся кровь Спасителя. Однажды, в то тревожное время, когда “коварство и сила жестоких врагов угрожали царству чистой веры”, ангелы принесли с неба эту святую реликвию благочестивому герою Титурелю, а также принесли и копье, которое прободало ребра Иисуса. Для защиты этого бесценного сокровища Титурель построил на высокой горе храм, которому дал название “Гора Спасения”, или Монсальват; и вкруг него, для поклонения святому Граалю и для защиты его, собрался орден благочестивых рыцарей. Они жили в блаженстве и в сердечном покое, в полном единении с Христом и Богом, в гармонии со всей природой. Своей чудесной силой Грааль давал им пищу, которая нужна была им для поддержания жизни; довольно было вида его, чтобы отогнать от них смерть; его присутствие защищало их, ибо никто не мог найти дороги в Монсальват, если он не был чист сердцем и если Бог не считал его достойным вступить в святое воинство. Однако рыцари Грааля не замыкались в созерцательной жизни. Воины Христовы на земле, они сражались за торжество справедливости, ради блага страждущего человечества подвергали себя опасностям и искушениям, так что вся жизнь их была лишь сплошной борьбой со злыми людьми и с грехом.
Рядом с горой в роскошной долине, среди язычников, поднимался замок Клингзора. Какие злодеяния он совершил там внизу? Никто об этом не знает. Но доступ в Монсальват был закрыт для него. Между тем однажды он захотел искупить свои грехи и вступить в основанный Титурелем рыцарский орден. “Не имея сил умертвить в себе грех, — рассказывает Гурнеманц, — он наложил на себя нечестивую руку”: гнусным увечьем он дерзнул избавиться закона любви, надеясь таким образом приобрести святость. Но он обманулся в своем ожидании: по-прежнему доступ к Граалю остался запрещен ему, ибо не иссяк в сердце его источник вожделений. “Ты ли целомудрен?” — спрашивает у него с жестокой иронией его жертва Кундри. На самом деле она знает, что этим вопросом она вызовет бессильную и в то же время самую жестокую ярость своего мучителя, так как Клингзор более чем когда-либо был далек в то время от той сердечной чистоты, которая составляет высшую привилегию избранных Грааля. В сердце его с ужасным жаром кипит отрава греха, неутолимого вожделения, которого он не может заглушить в себе, но которое он осудил на мертвое молчание; он далеко не приобрел себе тот внутренний мир, что у рыцарей Грааля, он страдает всеми муками ада: отринутый избранниками Бога, он ненавидит их всеми силами своей души и все свое могущество направляет на то, чтобы отомстить им за их презрение. Власть же его безгранична. Без сомнения, он совершенно бессилен против тех, сердце которых чисто. Но он, как Альберих, проклял любовь и так же держит в своей власти всех тех, кто поддается греху чувств, обманчивой привлекательности наслаждения. С помощью своего магического искусства он превратил в чудный сад пустыню, где поднимается Замок Погибели; в этом очаровательном саду цветут те пышные и эфемерные цветы, — те блещущие свежестью и юной грацией женщины, которые непреодолимым соблазном своей развращенной красоты зажигают в сердцах героев огонь вожделения и завлекают их в сети Клингзора. Таким образом, волшебник делается страшным врагом рыцарей Грааля, и могущество его растет со дня на день; он собирает вокруг себя все похотливые создания; он соблазняет даже товарищей Титуреля и делает их изменниками их обетам; он разжигает все дурные инстинкты, которые приводят человека к греху и скорби; он — гений зла, неутомимый виновник всеобщего страдания.
Особенно печальна участь тех созданий, которые, колеблясь между вожделением и отречением, не могут освободиться от ужасных действий власти Клингзора и в падении своем сохраняют ужас пред собственным своим грехом, мучительное сожаление о своей померкшей чистоте, горячее стремление к идеалу, к искуплению. Такова, в нашей драме, участь Кундри и Амфортаса.
Кундри — одна из самых оригинальных и самых сложных фигур вагнеровского театра, одно из самых характеристических созданий его гения, одинаково способного создавать личности, поражающие правдивостью и жизнью, и показывать в каждом отдельном типе общий закон, частным символом которого он является. В самом деле, с одной стороны, он умеет неизгладимо запечатлевать в воображении действующее лицо Кундри в ее последовательных воплощениях, показывает ли он в ней услужливую и преданную вестницу Грааля, молчаливую и загадочную, столь поражающую своим костюмом дикой колдуньи и своими таинственными выходками, изображает ли он в ней роскошную, страстную женщину, которая всю силу своей обольстительности употребляет на то, чтобы заманить в погибель Парсифаля, — наконец, представляет ли он ее нам в виде кающейся грешницы, когда она, желая искупить причиненное ею зло, делается покорной служанкой рыцарей Грааля, и — когда Парсифаль уже освободил ее от тяготевшего над ней проклятия — умирающей в сладком экстазе, погруженной в созерцание славного своего Спасителя; с другой стороны — на этой-то стороне личности Кундри мы и остановимся здесь более подробно, — она является пред нами не только как отдельная, индивидуальная женщина, но как символ Вечно женственного. Вагнер даже позаботился подчеркнуть этот символический характер Кундри больше, чем он это сделал по отношению к какому-либо другому из своих действующих лиц. Она — по его собственному выражению — “без имени, первобытная искусительница, роза ада” она всегда существовала под тысячью различных видов; когда-то она была той сладострастной Иродиадой, которая, воспылав любовью к святому Иоанну Предтече, захотела, как говорит легенда, покрыть поцелуями и слезами истекающую кровью главу оттолкнувшего ее святого; она жила во всех женщинах, которые толкали человека ко греху и сами страдали от причиняемого ими зла; она — первобытная Ева, поцелуй которой дает человеку познание жизни и полная любовь которой, если верить этому, дарует ему божественность.
Гнавшее ее проклятие началось с кощунства. В самом деле, некогда она оскорбила нечестивым смехом страдания Распятого; но вдруг взор Иисуса упал на нее, и с того дня “она блуждает из века в век, чтобы снова встретить взор Его” и получить прощение у того, кого она оскорбила по своему безумию. Она думает, что это прощение она получит через любовь. По печальному заблуждению, отчаянное стремление к искуплению соединяется у нее с преступным желанием, вечным источником всякого греха и всякого страдания. Эти два чувства сливаются у нее в один непреодолимый, скорбный инстинкт, который влечет ее, против воли, к человеку и принуждает ее завлекать последнего. Но в тот решительный момент, когда в глазах своего любовника она уже думает видеть луч того взора Христа, которого она тщетно ищет из века в век, иллюзия ее внезапно рассеивается: она вдруг чувствует, что в своих объятиях держит не искупителя, а грешника; внезапная любовь в ней уступает место презрению и ненависти, и она снова разражается ужасным смехом, тем прокляты понимает ее Вагнер в последний период своей жизни.
Теперь любовь, по его мнению, уже не то, чем она казалась ему в ту эпоху, когда он радостно брался за “Кольцо Нибелунга”, — не могучая избавительница, которая учит нас отрешаться от своего первобытного эгоизма и приводит нас к спасению; она есть высшая иллюзия, которая своими миражами влагает в сердце человека обманчивую надежду на искупление и пагубная сила которой навек продолжает на земле грех и скорбь. У женщины она является как беспокоящее, таинственное предопределение, закону которого она подчиняется, вопреки ее сопротивлению и тоске, и которое ведет ее от падения к падению, от страдания к страданию, все более ввергая ее в отчаяние. Она осуждена беспрестанно любить и в то же время чувствовать, что любовь неизбежно приведет ее к новым разочарованиям; прельщать человека и надеяться обрести искупление во взаимной любви; с ужасом убеждаться в вечной слабости человека и видеть крушение своих надежд; оплакивать те несчастья, причину которых она сознает в себе, и покорно обрекать себя на облегчение человеческих страданий; потом снова подчиняться закону желания и вечно оживать в том же самом круге бедствий, без возможности когда-либо достигнуть окончательного успокоения, беспробудного сна.
Амфортас является самым наглядным примером жертв Кундри. Приняв от своего престарелого отца царство Грааля и вооружившись святым Копьем, сын Титуреля пожелал пойти войной на владения Клингзора и положить конец пагубной власти обольстителя. Он стал жертвой своего безумия. Пленившись прелестями вечной искусительницы, которую напускает на него Клингзор, позабыв о законе Грааля, он уступает вожделению и тем самым становится добычей волшебника. Клингзор пользуется случаем овладеть Копьем, которое Амфортас, в упоении страстью, роняет из рук, и тотчас же обращает это священное оружие против короля; Амфортас успевает бежать и возвращается в Монсальват, оставив в руках врага священную реликвию: но в боку грешника-короля зияет от Копья истекающая кровью, неизлечимая рана — видимый символ той распаленной раны вожделения, которая постоянно мучит его сердце. И с этих пор жизнь Амфортаса ни больше ни меньше, как долгое мучение.
Единственный грешник в непорочном царстве, в силу того сана, которым он облечен и от которого никто, кроме самого Бога, не может освободить его, он должен быть хранителем, жрецом Грааля, совершать торжественные богослужебные обряды, являть рыцарям Грааля ту священную реликвию, лицезрение которой дает им сверхъестественные силы, приносит им бессмертие и наполняет их бесконечным блаженством. Это же лицезрение для Амфортаса является тягчайшей мукой: оно вновь открывает его рану, заставляет истекать его оскверненной кровью, с ужасной силой оживляет в нем сознание того греховного положения, в котором он находится. И равно как Кундри жаждет беспробудного сна, так и Амфортас жаждет смерти: он молит Бога снять с него бремя царского сана и даровать ему прощенье и вечный покой. Таким образом, страсть порождает у Амфортаса и у Кундри совершенно так же, как у Тристана и Изольды, скорбное стремление к небытию.
Однако надежда есть у Амфортаса. Однажды, когда, распростертый пред священной реликвией, он в горячей молитве взывал о знамении прощения, то увидел, что Грааль засветился каким-то таинственным светом, и вдруг на хрустальной чаше, в огненных буквах, появилась надпись, возвещавшая пришествие того освободителя, того “простеца с чистым сердцем”, который чрез жалость научится тайне всеобщего страдания:
durch Mitleid wissend
der reine Thor,
haire sein',
den ich erkor.
Равно как в “Кольце” Зигфрид и Брунгильда исправляют первую несправедливость, совершенную Вотаном, побеждают козни Альбериха и восстановляют нарушенный порядок в мире, возвращая ундинам Золото Рейна, так и Парсифаль берет обратно священное Копье у Клингзора, заглаживает грехи Амфортаса и Кундри, возвращает им душевный покой и, таким образом, является восстановителем мирового порядка, искупителем мира. Чтобы лучше понять, в чем состоит его роль освободителя, самое лучшее средство — проследить путем сравнения и отметить те сходства и различия, которые можно заметить между Зигфридом и Парсифалем.
Парсифаль, как показывает самое имя его, по принятой Вагнером этимологии, — “чистый сердцем простец” (der reine Thor). А в этом он нисколько не расходится с Зигфридом. Как Парсифаль был вскормлен матерью своей Герцелидой (скорбящей) в лесу, вдали от людского шума, так и Зигфрид вырос свободным детищем природы в уединенном убежище своего приемного отца Миме. Оба героя ничего не знают о жизни и о людях; ни тот ни другой не знает имени своего отца, ни даже своего собственного имени; у того и у другого сердце совершенно чисто от всякого дурного желания. Подобно Зигфриду, Парсифаль есть какой-то импульс, который живет всецело в настоящем моменте, без заботы о прошлом и будущем: когда он видит рыцарей, проезжающих через тот пустынный лес, в котором его вскормила мать, он уже ни о чем больше не думает, как только бы догнать их, и так отдается этому преследованию, что совершенно забывает о бедной Герцелиде; когда в области Грааля он видит парящего в высоте лебедя, то убивает его стрелой, потому что он “догоняет птицу всем тем, что может летать” когда, через минуту, Кундри возвещает ему о смерти его матери, он с той же простотой отдается первому своему побуждению: схватить за горло вестницу несчастья.
Так же, как Зигфрид, Парсифаль одарен сверхъестественной силой и неустрашимой отвагой. Во время своих блужданий по лесу он защищается с помощью лука от диких зверей и людей и “наводит страх на “злых”, на “разбойников и великанов”. Он без оружия идет на приступ к замку Клингзора; опрокидывает первого попавшегося рыцаря, отнимает у него меч и с этим единственным оружием обращает в бегство всех героев Замка Погибели. Во время своих странствований в поисках Грааля он подвергается “бесчисленным опасностям, сражениям и битвам”, в которых получает множество ран, ибо не желает пользоваться тем св. Копьем, которое он отнял у Клингзора, прежде своего помазания на царство Грааля.
Следовательно, Парсифаль отнюдь не аскет. Напротив, его физическая сила особенно интенсивна. Более того, самая любовь не является запрещенной ему законом Грааля: равно как Титурель имеет сына, Амфортаса, так и в Лоэнгрине принятая Вагнером легенда признает сына Парсифаля; поэтому вероятно, что, по мыслям Вагнера, такая жизнь “святого”, какую ведет Парсифаль, отнюдь не предписывает полного отречения от естественных и невинных радостей жизни, а лишь отречение от всякого нечистого желания. Следовательно, различие между Зигфридом и Парсифалем заключается не в том, что один соединяется по закону любви с Брунгильдой, тогда как другой остается недоступен желанию. Парсифаль может знать любовь: ему даже суждено когда-нибудь узнать ее; а с другой стороны, любовь Зигфрида и Брунгильды, по мысли Вагнера, не является внушенной эгоистическим желанием; напротив, это — акт существенно бескорыстный и, следовательно, по крайней мере до известной степени, “невинный”. Зигфрид полюбил почти так же, как мог бы полюбить Парсифаль. К тому же вспомним, что, по теории Вагнера, человек достигает отречения не ослаблением своей воли, а возбуждением ее, и мы не будем удивляться, если Вагнер сделал у Парсифаля естественные инстинкты столь же сильными и столь же полно развитыми, как у Зигфрида.
Самая значительная разница, которую можно отметить между обоими героями, состоит в том, что Парсифаль обладает в более высокой степени, чем Зигфрид, даром интуиции. Без сомнения, мы заметили, что Зигфрид не есть только гордое животное — человек, но что он одарен также глубокой интуитивной мудростью. Однако Парсифаль, с этой последней точки зрения, неоспоримо выше его; он поднимается до того полного сознания высшего мирового закона, до которого доходит в развязке “Сумерек богов” только одна Брунгильда. И эта характеристическая черта натуры Парсифаля имеет решительное влияние на самую структуру драмы и ясно отличает ее от “Кольца”. Подвиги Зигфрида — это дела, в которых он проявляет свою блестящую доблесть; он выковывает себе меч, убивает дракона, добывает Брунгильду и т.д., — и Вагнер показывает нам на сцене эти удивительные дела в двух последних днях тетралогии.
Но мы видели, что, по теории возрождения, ни одно дело, как бы оно доблестно и высоко ни было, не может улучшить фактически положение человечества и что только одно сознание всеобщего страдания может привести человечество к спасению. Следовательно, самые славные подвиги Парсифаля — не дела его, а те последовательные интуиции, через которые он постепенно поднимается до высшей мудрости. Вот на эти-то интуиции Вагнер и хочет обратить наше внимание. Таким образом, Парсифаль почти не действует в самой драме; его действий, в собственном смысле слова, мы не видим на сцене, и мы узнаем о них просто в нескольких словах. К тому же они имеют лишь второстепенное значение. Он не потому освободил Амфортаса и Кундри от висевшего над ними проклятия, что перерубил великанов и злых людей, обратил в бегство рыцарей Клингзора, прошел через тысячу опасностей в поисках Грааля, но потому, что стал “через жалость сознательным” (durch Mitleid wissend). Его действия имеют мало значения: они представляют интерес постольку, поскольку они суть проявления его интуиции. На что Вагнер хочет обратить наше внимание, так это — на те внутренние видения, на те внезапные откровения, которые мало-помалу озаряют светом душу Парсифаля и делают “простеца с чистым сердцем” искупителем страждущего человечества. — Проследим же за ним в тех последовательных состояниях, которые приводят его к святости.
Первый шаг, который делает Парсифаль на пути к высшей мудрости, это — постижение того, что человек должен иметь жалость к своим меньшим братьям, животным. Проникнув в тот тихий лес Грааля, где животные являются друзьями и близкими человеку, он без всякой причины, по чистой прихоти охотника убил стрелой прекрасного белого лебедя, который летал над озером. Тотчас же задержанный пажами Амфортаса, пришедшего в негодование от святотатственного убийства, он приводится к оруженосцу короля, Гурнеманцу. Видя, что простец нисколько не сознает совершенного им дурного поступка, старый оруженосец поднимает раненую птицу; он показывает Парсифалю кровавые пятна, которые выступают на белоснежных перьях умирающего лебедя; показывает ему его угасающий взор. И внезапно у Парсифаля, при виде жертвы, появляется интуиция той боли, которую, не зная того, он только что причинил такому же Божьему созданью,как сам он: ни слова не говоря, подчиняясь какому-то внезапному импульсу, он ломает свой лук и стрелы и далеко забрасывает их. В первый раз простец узнал жалость.
За жалостью к животным Парсифаль сейчас же узнает жалость к человеческим скорбям.
Предчувствуя, что этот странный юноша, нашедший путь к Монсальвату, легко может быть тем искупителем, который был обещан Амфортасу Богом, Гурнеманц ведет его в храм Грааля. Там, в обширном византийском зале, окруженном колоннадой, он видит распростертого на своем скорбном одре Амфортаса; слышит раздирающие сердце жалобы грешника-короля, мучимого неизлечимой раной; слышит голос старика Титуреля, приказывающий сыну исполнить свой священный долг и открыть Грааль; потом он видит в храме среди сгущающегося мрака вкруг распростертых рыцарей; видит, как Грааль, сначала освещенный ослепительным лучом, падающим сверху на святую чашу, обагряется каким-то кровавым светом, сияющим сверхъестественным блеском; он видит, как Амфортас в священном экстазе поднимает чашу и медленно помавает ею во все стороны в то время, как невидимый хор поет с высоты купола такую таинственную песнь: “Возьмите кровь мою во имя нашей любви! Возьмите тело мое в мое воспоминание!” он присутствует, наконец, при святой братской вечере рыцарей, восседающих за столами с тем хлебом и вином, которыми наделяет их таинственная сила Грааля. Затерявшийся в каком-то религиозном экстазе, он получает от этого зрелища неизгладимое впечатление.
Но созерцание его не делается интуицией; страдание Амфортаса остается для него тайной. В самом деле, как мог бы он понять его, когда он не имеет еще представления о зле; как мог бы он действительно разделить страдание грешника-короля, когда он еще не знает ужасной силы желания и тех распаленных ран, которые оно наносит душе; особенно — как мог бы простец, ничего не знающий о мировой трагедии, услышать перемешанную со слезами Амфортаса трогательную жалобу Спасителя, вера которого осквернена в людях безбожной профанацией, — жалобу Распятого, священные реликвии которого находятся в руках недостойных: Копье — во власти волшебника Клингзора. Чаша — под защитой грешника Амфортаса? Все, что видел и слышал Парсифаль, кажется ему каким-то тревожным и печальным сном, смысл которого он постигнет только тогда, когда сам испытает страсть. Выгнанный из Монсальвата Гурнеманцем, которого только раздражила такая простота его, он направляет свой путь через мир; и вот судьба приводит его к Замку Погибели, в царство Зла.
Во владениях Клингзора сначала он встречает на своем пути цветочных дев, — страстные, эфемерные создания, хрупких детей весны, которые распускаются утром с тем, чтобы к вечеру завянуть. Его взор с удовольствием останавливается на их свежей красоте, он с наслаждением вдыхает в себя исходящий от них сладкий аромат; он снисходительно улыбается на их детские шалости. Но несмотря ни на что, желание не задевает его сердце, и когда соблазнительная толпа их делается более тесной, он нетерпеливым жестом раздвигает ее.
Тогда внезапно посреди раскрывшегося цветущего кустарника показывается в роскошном наряде, полулежа на цветочном ложе, соблазнительница Кундри. С глубоким знанием человеческого сердца она начинает свое дело соблазна, призывая Парсифаля вспомнить о его матери Герцелиде, которую он позабыл ради скитания по свету и которая вскоре же умерла с отчаяния. Охваченный эмоцией, одолеваемый угрызениями совести и скорбью, Парсифаль падает к ногам Кундри; тогда чародейка с вкрадчивой и почти материнской нежностью слегка обнимает шею бедного мальчика: своими ласками она исцелит его страждущую душу; после того, как он узнал горечь слез, ему приятна будет сладость утешения; любовь, которой он обязан жизнью, любовь, которая торжествует над смертью и дает знание жизни, рассеет его угрызения совести, переменит его печаль на радость; и вот Кундри, склонившись над Парсифалем, запечатлевает на его устах долгий, страстный поцелуй.
Внезапно с жестом ужаса герой вырывается из ее объятий. Поцелуй Кундри сообщил ему внезапную и острую интуицию греха. Покров неведения, который мешал взору простеца проникнуть в смысл сцен, происшедших на его глазах в Монсальвате, сразу разорвался; каким-то внезапным озарением всего своего существа он осознал мировую трагедию (Welthellsiehtig). Он чувствует, как в сердце его пылает жгучее пламя желания; он сам страдает от раны, которую он видел истекающей кровью в боку Амфортаса; теперь он понимает то, что повелевал ему Господь в храме Монсальвата: “Спаси меня, — говорил ему жалобный голос, — освободи меня из рук греховных, вражьих!” Он ясно видит громадность вины своей пред Амфортасом, пред страждущим человечеством, пред самим Искупителем — вины, совершенной по безумному неведению.
Теперь он знает, что такое Кундри; он узнает в ней ту вечную соблазнительницу, которая завлекла в свои сети Амфортаса, которая чуть было не поймала также и его теми же хитростями, посредством которых она поймала когда-то грешника-короля. И он с невыразимым ужасом отталкивает ее от себя. Напрасно Кундри, переменив тактику, пытается возбудить в нем сострадание; она умоляет его иметь жалость к ней, положить конец тем страданиям, которые она терпит с того дня, когда она осмеяла Христа; дать ей в любви то последнее прощение, которого она так давно ждет. Парсифаль знает, что если он хоть на один час позабудет в объятиях Кундри о своей миссии, то это будет вечным проклятием и для него, и для нее; он знает, что из того зараженного источника, откуда текут все несчастья его, Кундри никогда не почерпнет питья, которое исцелило бы ее страдание; он знает, что, будучи жертвой общей иллюзии, она ищет для себя спасения там, где встретит только окончательную гибель. Итак, он спасет ее наперекор ей самой, борясь с собой до конца, повергая ее в отчаяние, даже возбуждая в ней своим непреклонным отказом слепую ярость женщины, потерявшей голову от любви. Парсифалю как победителю желания нечего бояться Клингзора, который спешит на крики Кундри и хочет поразить его своим Копьем. Священное Копье повисает в воздухе над головой героя, который схватывает его и острием делает в воздухе знаменье креста. Тотчас же лживый блеск дворца Клингзора исчезает; его волшебные сады превращаются в ужасную пустыню, цветочные девы устилают землю, подобно увядшим цветам. Иллюзия, которая прикрывает “царство дня” обманчивыми соблазнами, рассеивается, и действительность, которую скрывают обманчивые миражи страсти, внезапно открывается в своем немом и мрачном разрушении.
С этих пор Парсифаль обладает высшей мудростью; он увидел в желании источник греха и страдания и устоял против соблазнов вечной искусительницы; интуиция открыла ему смысл мира; он не может подняться выше того, что он сделал, когда одним знаком уничтожил проклятый сад Клингзора. Но Вагнер не хочет оставить нас под впечатлением одного отрицания. Парсифаль не только разрушитель проклятого мира, но, главным образом, он — основатель нового порядка вещей; он не только отрекается от мира, не только разрушает мир, но он — пророк великолепной и славной новой жизни. Отсюда тот чудный третий акт “Парсифаля”, в котором Вагнер описывает нам, некоторым образом, восхождение своего героя к свету, и чарами своего искусства заставляет нас присутствовать на заре нового дня, который будет светиться в далеком неизвестном будущем для возрожденного человечества. Еще в “Тристане” он выразил предчувствие этого “будущего”, спокойную и победоносную уверенность в том, что смерть желания есть только прелюдия к высшему существованию. В конце этой мрачной драмы, с начала до конца пылающей печальной и трагической страстью, Изольда встречает смерть не как мятежница или побежденная, а с таинственной радостью просветленного, сливающегося со своим Божеством человека; благодаря страданию она кончила полным отречением от всякого нечистого желания, и такое “обращение воли” делает из ее смерти апофеоз; во время своего земного странствования она все более погружается во мрак скорби, и вот в конце ее пути внезапно показывается пред ней лучезарное видение какой-то божественной жизни на лоне любви. Уже в гармонии “Вдохновенной песни” Изольды слышится иногда та же самая светлая, чистая и успокоительная тишина, которая составляет высшую прелесть третьего акта “Парсифаля”.
Но то тихое и блаженное видение, которое в “Тристане” блестит только одно мгновение, именно — в конце наиболее глубоко скорбной и тяжелой драмы, написанной Вагнером, — ясно очерчивается в “Парсифале”, развертываясь в ряд бесподобных по красоте картин: возвращение Парсифаля в Монсальват, крещение и помазание героя, чары Страстной пятницы, похороны Титуреля, наконец, исцеление Амфортаса. Драматического действия в этом заключении нет, чтобы не сказать больше. Конец драмы, в собственном смысле слова — акт Парсифаля — та внезапная интуиция, которая сделала его сознательным в высшем мировом законе — наступает в тот момент, когда герой отвергает Кундри и сокрушает власть Клингзора: в этот момент Парсифаль достигает наивысшей мудрости, святости; с этих пор он не может больше расти. Отброшенный на некоторое время проклятием Кундри от Монсальвата, осужденный скитаться по свету, чтобы искупить бессознательно совершенную им вину, преследуемый несчастьями, полный угрызений совести, Парсифаль приходит к концу своих испытаний не новым усилием воли или разума, но действием благодати, потому что час торжества пробил для него. И все тотчас же склоняется пред избранником Бога: Гурнеманц приветствует егокак своего повелителя; кающаяся Кундри принимает от него крещение и мирное целование; сама природа устраивает ему праздник, ибо Страстная Пятница, день печали и покаяния для человека, есть день радости для былинки и полевого цветка; окропленные слезами кающегося грешни греховного человека. В руках его сияет святая Чаша, заливая своим пурпуровым светом распростершихся верных, и в то время, как Амфортас и Гурнеманц стоят коленопреклоненные перед новым королем Грааля, а Кундри опускается бездыханной в сладком восторге, подобно тому, как умирает желание, когда оно нашло тот предмет, к которому стремилось, — в это время слышатся, как какой-то гармоничный шепот, поднимающиеся к небесам таинственные голоса такого гимна в честь дела благодати:
Hochsten Heiles Wunder:
Erlosung dem Erloser!
“Парсифаль” был венцом жизни Вагнера. Он дал в этом образцовом произведении окончательное выражение своим самым высоким религиозным и моральным концепциям. И как художественное произведение, так и материальная задача, которую он себе задал — создание образцового театра — были выполнены: маэстро увидел, что благодаря успеху платных представлений “Парсифаля” не только были покрыты долги, но были обеспечены еще и дальнейшие представления. Это был полный успех, окончательная победа. Десять месяцев спустя после этого триумфа, 13 февраля 1883 г., смерть унесла его в Венеции, где он думал отдохнуть после байрейтского сезона. Таким образом, он умер в полном апофеозе, в полной силе своего гения, не узнав печали неизбежного заката. Вся артистическая Европа приняла участие в похоронах и проводила смертные останки до его последнего жилища в Байрейте, в саду его виллы Wahnfried. Там он покоится в могиле, которая была заранее приготовлена им, под тяжелой мраморной глыбой серовато-белого цвета, гладкой, обрамленной очень простой резной работой, без эмблемы, без орнамента, — даже без надписи.
Глава V: Заключение
Инстинкт силы у Вагнера. — Религиозный инстинкт Вагнера. — Артистический гений Вагнера. — Популярный характер вагнеровских произведений. — Интегральное художественное произведение. — Вагнер — тип высшего дегенерата. — Критика интегрального художественного произведения. — Анализ гения Вагнера. — Критика антивагнерианской легенды. — Комедиант ли Вагнер? — Значение вагнеровского мистицизма. — Значение вагнеровских идей об искусстве. — Вагнеровская драма и эволюционистская доктрина. — Вагнеровская драма и аристократы искусства. — Вагнеровская драма и поклонники латинского искусства. — Историческое значение Вагнера.
После того как мы постарались насколько возможно объективнее описать, каковы были труды Рихарда Вагнера как драматического поэта и мыслителя, мы желали бы в заключении нашей работы попробовать вывести из суммы наших частных наблюдений общее суждение о значении этих трудов. Мы не скрываем от себя того, что суждение об артисте, только пятнадцать лет как умершем, который при жизни своей возбудил удивление и в то же время непримиримую ненависть к себе, поневоле сомнительно и преждевременно. Постараемся, по крайней мере, также и в этой части нашего исследования быть насколько возможно объективнее. Прежде всего мы примем за факт то различие суждений, которое неоспоримо существует относительно Вагнера, и постараемся описать этот факт насколько возможно точнее; дать краткий обзор существующих главных мнений о Вагнере; передать в общих чертах то, что можно было бы назвать “легендой о Вагнере” после чего мы попытаемся отобрать то, что существующие разные легенды могут дать истинного и “объективного”, или, что то же самое, в чем они имеют за собой шансы на прочность. Легенда о Вагнере имеет два ясно различимых главных варианта, из которых один был распространен друзьями байрейтского маэстро, а другой — его противниками. Еще теперь, когда непримиримость мнений о Вагнере значительно уменьшилась, обыкновенно легко различить с первого же взгляда, которой из этих двух легенд держится критика. По этой же самой причине довольно легко, так сказать, схематически резюмировать главные данные той и другой легенды.
Сначала займемся легендой, благоприятной для Вагнера, — так как она сложилась с более или менее значительными индивидуальными, но в главных данных почти неизменными вариантами в письмах его почитателей, в таких сочинениях, как сочинения Шамберлена или Глазенапа в Германии, Шуре, Жюльена, Эрнста, Кюферата, Геберта и многих других во Франции. Главные начала этой легенды, нам кажется, положены с большой силой и редкостной удачей выражения в известной брошюре Ницше, “Рихард Вагнер в Байрейте” (1876 г.); это одно из самых важных произведений во всей вагнеровской литературе, — произведение, по которому, наверное, можно составить себе самый прекрасный и самый сильный портрет маэстро. Оно послужит нам большим пособием в определении и формулировке главных данных нашей легенды.
Если рассматривать прежде всего в Вагнере черты совсем главные, устанавливающие его личность, то по легенде, созданной почитателями байрейтского маэстро, можно различить в нем две господствующие тенденции, которые мы назовем “инстинктом силы” и “религиозным инстинктом” и которые достигают у него замечательного развития.
Вагнер прежде всего кажется нам какой-то естественной силой, вполне инстинктивной и элементарной, необыкновенно энергичной и удивительно деятельной; будучи одарен неукротимой жизненностью, он имеет сильный, задорный, властный творческий темперамент. С невероятной интенсивностью воли и вопреки самым неблагоприятным условиям, он в течение своей жизни старается проявить свою силу в грандиозных творениях и вызвать также к этим творениям уважение и удивление среди людей. Его свободно можно было бы сравнить с потоком, внушительная масса которого течет с неудержимой стремительностью, то величественно и царственно, когда ничто не мешает его течению, то бурно и грозно, с ужасными водоворотами и глухими раскатами, когда он встречает препятствия, которые ему нужно обойти или сокрушить. Но этот поток производит впечатление еще большей силы, когда он катит свои воды по сравнительно тесному ложу. Другие гении одинакового с Вагнером размаха не сосредоточивали всей своей энергии на одной цели. Жизнь Гете, например, с его универсальной любознательностью, которую он приложил почти ко всем областям человеческого знания, конечно, представляет зрелище столь же грандиозное, как и жизнь Вагнера, но в то же время очень несходное: ее можно сравнить с широкой рекой, которая величественно расстилается громадной пеленой и оплодотворяет на ходу обширные пространства равнин, но также и теряет часть своих вод в песке. Вагнер более бережет свои силы, собирая их в один узел для того, чтобы воспользоваться ими зараз для одной цели. Ничто так не поражает, как грандиозное единство его существования: сколько ни было у него жизненных сил, все он посвятил созданию небольшого числа музыкальных драм и дал последним на сцене жизнь сообразно со своими замыслами.
Вот почему также в выполнении этой ясно определенной задачи он дает впечатление какой-то подавляющей, фатальной, почти тревожной силы, как сила того потока, который в неудержимом порыве мчится по тесной долине. И этот инстинкт силы, который беспрестанно побуждал его вступать в новую борьбу за осуществление своих намерений, за торжество своих идей, Вагнер одинаково воплотил в целом ряде действующих лиц своего театра. В Тангейзере, жаждущем отведать все человеческие наслаждения, особенно в Зигфриде, в этом свободном дитя природы, счастливом жизнью и полным обладанием сил, недоступном страху, безразличном к смерти, наконец, в простеце Парсифале, который также побуждается непреодолимым стремлением к геройской жизни и наводит ужас на злотворных чудовищ и злых людей, — Вагнер представил нам естественные, почти бессознательные силы, самопроизвольно развивающиеся под действием постоянной необходимости и подобные той силе, темное и страшное давление которой он чувствовал в себе.
Рядом с этим инстинктом силы мы находим у Вагнера другую тенденцию, совершенно отличную, даже почти противоположную, по крайней мере с первого взгляда, — тенденцию, которую можно отметить под именем “религиозного” инстинкта. Мы видели, что этот инстинкт обнаруживается у него во все эпохи его жизни в виде постоянного стремления к далекому идеалу чистоты, света, любви, к тому “за”, понимаемому как осуществимое на земле, чаще же всего как сверхземное существование. Это “за” представляется в “Моряке-скитальце” и “Тангейзере” как “царство Божие”, в “Кольце Нибелунга” и в революционных сочинениях в периоде между 1848 и 1851 гг. — как “царствие любви” и “общество будущего”, в “Тристане” и в литературных произведениях до 1854 г. — как “царство ночи”, как “нирвана”, в “Лоэнгрине” и “Парсифале”, — как “царство Грааля”, и в философских произведениях последнего периода — как “наступление человеческого возрождения”. В Сакья Муни и особенно в Иисусе Христе он почитает самых совершенных, самых “божественных” человеческих представителей того идеала чистоты, к которому он стремился; в то же время он старается также воплотить его в некоторых действующих лицах своих драм, как, например, в Сенте и Елизавете, в Брунгильде и Изольде, в Лоэнгрине и Парсифале. Елизавета, которая предстательствует перед Богом за кающегося грешника, легко может быть сравнена с Девой Марией, так же как Парсифаль, как мы видели это, является как бы рыцарским Иисусом Христом.
Вся внутренняя жизнь Вагнера есть история его усилий согласовать между собой эти два основных инстинкта: инстинкт силы и религиозный инстинкт. А задача была нелегка. Вагнер имел веру в свой инстинкт силы; следовательно, он был склонен думать, что естественная реальность, по самой сущности своей, добра или по крайней мере способна стать таковою; что человек должен достигать счастья, “искупления”, не заставляя молчать свой естественный инстинкт, а смело отдаваясь ему и даже возбуждая его в высшей степени. Но, с другой стороны, религиозный инстинкт заставлял его беспощадно осуждать реальный мир, который по сравнению с идеалом чистоты, носившимся в его воображении, казался ему в корне злым; а по этой причине стремление к фактической власти среди современного общества, к успеху, к мирскому счастью необходимо стало в глазах его грехом и страданием. Тангейзер преступен и несчастлив, пока он жаждет любви Венеры; Вотан несказанными скорбями искупает свою мечту о всемогуществе и вечности; Тристан и Изольда являются добычей тягчайших мук, пока они ждут счастья от любви в “царстве дня” Амфортас мучается от неизлечимой раны за то, что поддался чувственному наслаждению. Таким образом, инстинкт силы, который является законным у Зигфрида или Парсифаля, преступен у Вотана; также любовь, которая является искупительной силой у Сенты и Елизаветы — разрушительный яд для Амфортаса и Кундри.
Мы видели, как в разные периоды своей жизни Вагнер разрешал этот род моральной антиномии: колеблясь с давних пор между оптимистической точкой зрения и пессимистической, захватываемый то инстинктом силы, то религиозным инстинктом, в конце концов, в своей теории возрождения он приходит к гармоничному примирению этих двух враждебных друг другу инстинктов. Он считает действительный мир злым, но думает, что человечество знало прежде и узнает в будущем эру невинности и счастья; он считает волю к жизни эгоистической, желание, во всех его видах, преступным, но допускает, что жизненная энергия, возбуждаясь, в конце концов приходит к прекращению эгоистического бытия, и видит в отречении и в жалости не отрицание, но высшие формы инстинкта силы и любви. Следовательно, в конце концов, он не находит противоречия между стремлением к силе и стремлением к идеалу, между человеком “естественным” и человеком “религиозным” но он думает, что именно полным развитием естественных инстинктов человек и поднимается до того идеала чистоты, к которому влечет его религиозный инстинкт. В этом-то и состоит, по его мнению, Искупление.
Если, разобрав основные черты характера Вагнера, мы попытаемся теперь понять природу его артистического гения, то прежде всего обнаружится один факт. Вагнер, которого критика так долго выдавала за “ученого” музыканта, в действительности отнюдь не является аристократом, мандарином искусства: он далеко не обращается только к интеллектуальному цвету, к специальному классу дилетантов и знатоков, он хочет писать свои произведения для самой массы “народа”, для толпы тех простых, которые, будучи лишены специального художественного образования, просто-напросто одарены обыкновенными природными способностями нормального человека к восприятию. В нормальном состоянии мы входим в общение с внешним миром одновременно при помощи разных чувств, в особенности — чувств зрения и слуха, а также при помощи нашего разума, нашей сознательной мысли; мы зараз видим, слышим и мыслим, и наше осознание объекта или события является результатом суммы этих различных, естественно пополняющих друг друга впечатлений. Свойство же вагнеровского искусства и есть именно то, что оно действует на всего человека. Без сомнения, литератор найдет в драме Вагнера хорошо построенную, интересную пьесу; философ откроет в ней глубокие мысли, оригинальное миросозерцание; музыкант услышит в ней дивную симфонию; живописец увидит непрерывный ряд художественных картин. Но все эти специалисты, ум которых некоторым образом извращен аномальным развитием, сообщенным той или другой отдельной способности, будут именно склонны не признавать того, что дает цену и оригинальность этим произведениям; они будут судить о них каждый со своей узкой и исключительно специальной точки зрения, как об обыкновенных театральных пьесах, как о философских аллегориях или как о симфонических поэмах, и не заметят в них органического единства, гармоничной красоты. Человек из народа, у которого естественные инстинкты нормально развиты, более подготовлен понимать Вагнера, чем театральный любитель, чем человек “интеллектуальный” или музыкант.
Сочиняя для народа, Вагнер и сочиняет, как народ. Художественное произведение, самопроизвольно рождающееся в среде толпы, это — миф, который некогда в руках греческих артистов принял сам собою форму драмы. Но мы видели в Вагнере также творца драматических мифов: подобно великим трагикам античной Греции, он берет легенды, сложившиеся среди людей его расы или издавна принятые ими; он восстановил их первобытный смысл, затемненный длинным преданием, и поднес их толпе современников в их вечно человеческой правде, очищенными от всякой условной примеси. Он сумел счастливо выполнить эту задачу не потому, что он был, как почти все современные художники, специалистом, обладавшим в исключительной степени тем или другим отдельным талантом, а потому, что он был почти всемирным гением, главную способность которого трудно определить. Ницше предлагает видеть в нем руководимого чудесным гением актера, который, отчаявшись удовлетворить себя обыкновенными средствами, призвал к себе на помощь все искусства и употребил их в дело, чтобы благодаря их содействию организовать исключительное сценическое представление, где он мог бы вполне обнаружить свои замыслы и свой гений перед публикой.
Но Ницше прибавляет, что так же хорошо можно было бы видеть в Вагнере и гениального музыканта, который, в отчаянном усилии сообщить свои мысли также и профанам в музыке, кончил тем, что перескочил через пределы своего отдельного искусства и вторгнулся в область других искусств. Словом, гений Вагнера слишком обширен, слишком сложен, чтобы мы могли заключить его в рамки наших обычных классификаций. “Драматический гений, — писал Ницше, — достигший своего полного развития, своей полной зрелости, есть законченное целое без недостатков, без пробелов; он — истинно свободный артист, который не может иначе мыслить, как одновременно во всех отдельных отраслях искусства; он — посредник, который соединяет два по виду противоположных мира: мир поэзии и мир музыки; он восстанавливает единство, полноту нашей артистической способности, — то единство, которое не может быть обнаружено с помощью разума, не может быть выведено путем рассуждения, а желает проявиться в делах”. Поэтому произведение Вагнера, музыкальная драма, не является только одним из многих художественных произведений: оно имеет совершенно исключительное значение, несравненно большее, чем значение работ всех тех специалистов, которые выставляют напоказ перед современной публикой свои таланты.
Музыкальная драма — это сложное, высокохудожественное произведение, которое одно только может вполне удовлетворить эстетические стремления человечества. Сверх того, музыкальная драма кроме своего высокохудожественного значения имеет первостепенное социальное значение. В самом деле, все имеет связь между собой в истории цивилизации и невозможно серьезно и искренно реформировать театральное искусство, не вызвав в то же время капитальные нововведения в области морали, воспитания и политики. Братское сотрудничество всех искусств в одном и том же деле, восторженное, бескорыстное участие армии артистов и громадной публики зрителей в одном и том же предприятии совершенно немыслимы без могучего вдохновения любви, братства, религиозной веры. Художественное возрождение современного общества может идти только параллельно с моральным и религиозным возрождением. Вот почему осуществление байрейтской идеи является победой не только для искусства, но и для всей европейской цивилизации. Теперь еще мы не можем оценить всей ее важности; действие ее только начинает обнаруживаться в нашей художественной и моральной жизни. Задача будущих поколений — продолжать дело, так гениально начатое Вагнером, продолжать в духе его основателя и довести его до конца. Если они покажут себя на высоте своего призвания, если великое дело всеобщего возрождения пойдет вперед, то байрейтские представления будут славной и лучезарной зарею новой эры для человечества.
Перейдем теперь к рассмотрению “легенды”, сложенной и пущенной в ход врагами Вагнера всех оттенков и всех категорий. Мы найдем эту легенду — в самой радикальной и парадоксальной, но также и критической форме — в известных памфлетах, которые Нищие, сделавшись врагом Вагнера, написал на своего старого друга в последний год своей сознательной жизни, “Случай с Вагнером” и “Ницше против Вагнера”, или еще в любопытной книге Нордау “Вырождение”.
Враги Вагнера прежде всего отрицают то, что он был, как этого требуют его верные, какой-то природной, бесподобно могущественной силой. Если верить им, то байрейтский маэстро был только дегенерат, зараженный манией величия, и он дает иллюзию силы только тем, которые позволяют обманывать себя его ложью. Анализируя его поэтические и теоретические труды, Нордау обнаруживает в них множество болезненных симптомов, — как мегаломания, бред преследования, графомания, необузданная, доходящая до эротомании возбудимость, которые, по его мнению, до полной очевидности доказывают то, что Вагнер — больной, дегенерат. Религиозный инстинкт, который весь свет согласен признать у автора “Парсифаля”, по словам Нордау, также содержит в себе что-то болезненное: это был просто-напросто тот болезненный мистицизм, который у большинства истеричных идет рука об руку с эротизмом и происходит от слабости воли, ставшей неспособной посредством внимания обуздывать капризную и беспорядочную игру ассоциации идей. Точно так же пессимист-вагнерианец в разных видах будет только патологическим симптомом. Анархистские доктрины Вагнера, его пессимистические взгляды на современное общество, его глубокое, убийственное презрение к существующему положению вещей выдают состояние ума, свойственное дегенератам, незаконнорожденным и реформаторам-фанатикам, мученикам человеческого прогресса; в то время как реформатор возмущается против действительных зол и создает для искоренения их вполне логически связные и разумные проекты, — дегенерат восстает или против необходимых установлений общества, или, наоборот, против общественных дел, не имеющих никакого особенного значения; его гнев обрушивается на детские пустяки или устремляется в воздух: то же самое происходит и с Вагнером, когда он с одинаковой яростью восстает против власти Закона или Золота и против власти оперы или балета, и когда вместо ясно изложенных предложений, как положить конец вполне определенным злоупотреблениям, он предлагает только какой-то химерический, смешной проект всеобщего возрождения. Его пессимистическое понимание любви также чисто болезненно. Полный инстинктивного недоверия к жизни и к природе — недоверия, которое он разделяет почти со всеми дегенератами, — Вагнер мысленно подписывается под нигилизмом Шопенгауэра: он вполне логично смотрит на любовь как на постоянно действующее побуждение к сохранению вида и к продлению жизни — источника всякого зла, и видит в суровом сопротивлении этому побуждению — в девстве, в бесплодии, в отречении от желания продолжать род — высшую мудрость. Его инстинкты безумного эротомана, у которого любовь делается навязчивой, скорбной мечтой, с другой стороны, неудержимо влекут его к женщине.
Таким образом, происходит явное разногласие между его философскими убеждениями и его органическими склонностями; и драмы его кажутся нам попыткой разрешить или ослабить это внутреннее, порожденное болезненным состоянием противоречие. Любовь представляется у него под видами совершенно противными здоровому человеку, она является чем-то вроде яростного безумия, каким-то злополучным роком, которому подвергается человек, чаще всего не имея возможности оказать ему какое-либо сопротивление, и который естественно приводит его ко греху и смерти; таким образом, Вагнер расписывает нам смешанные со сладострастием страдания похотливых натур или, напротив, мистические экстазы совсем химерических и неестественных лиц, как Парсифаль или Елизавета, у которых самая исступленная любовь идет рука об руку с совершенной чистотой, с полным отречением от чувственной страсти, от свойственного женщине желания прельщать.
Ницше, исходя совсем из других оснований, рассуждает совершенно так же, как Нордау. Он также считает Вагнера не за здорового и сильного гения, а за выродившегося, за дегенерата тем более опасного, чем больше очарования он производит на современные умы. “Вагнер — невроз”, — говорит он в своем “Случае с Вагнером”. Он — законченный, величественный тип современного дегенерата — так, как понимает его Ницше, т. е. — пессимиста, адепта религии человеческого страдания, сострадающего униженным и простым, друга “народа”, врага философии и науки, мистика с католическими тенденциями, комедианта в душе, лишенного всякой интеллектуальной и моральной искренности, хорошо умеющего играть страстью, прикрываться величием, драпироваться лживым идеализмом, но на самом деле пустого и бессвязного. Это — в некотором роде тот же Калиостро, только высшего стиля, который благодаря своей удивительной ловкости привлекает души современников, очаровывает их своим искусством, обманывает их, давая им иллюзию силы, поддерживает в них веру в то, что он — великий гений и вдохновенный пророк, и в конце концов совращает их в свое пагубное учение, увеличивая таким образом в ужасных пропорциях опустошения, производимые современным декадансом.
Вагнер представляет для философа бесподобный предмет изучения: он исследовал лабиринт современной души во всех его самых потаенных закоулках; поэтому для мыслителя, который желает узнать эту душу до самых скрытых ее глубин, он является драгоценным проводником. Необходимо побывать вагнерианцем; но нужно также уметь освободиться от власти этого великого чародея; это — вопрос жизни или смерти. “Величайшим событием в моей жизни было выздоровление, — говорит Ницше в ту эпоху, когда он жестоко отрекся от бога, которому он поклонялся. — Вагнер был только одной из моих болезней”.
Как артист Вагнер находит не больше милости в глазах антивагнерианцев, чем как человек и мыслитель. Самая мысль, что Вагнер создает музыкальную драму и “интегрального” артиста, для Нордау кажется радикально ложной. В самом деле, по его мнению, то положение Вагнера, что естественное развитие каждого искусства необходимо приводит его к отречению от своей независимости и к соединению с другими искусствами, явно противоречит законам эволюции. Естественное развитие идет от единства к множеству, от первобытной однородности к состоянию все возрастающей дифференциации. Этот закон прогрессивной специализации находит свое оправдание в естественных и физических науках, как и в истории искусства. Это — в начале социальной жизни человека, в первые времена можно встретить “интегральное” художественное произведение, которое вместе — и танец, и поэзия, и музыка, и даже религиозный культ. Потом, мало-помалу, искусство заметно отделяется от религии; разные искусства, слитые вначале, дифференцируются потом, и на каждой из ветвей искусства образуются все более и более многочисленные разветвления. Поэтому музыкальная драма Вагнера является реакционной попыткой, поневоле бесплодным усилием — повернуть общее течение эволюции назад в сторону варваризма зачаточного искусства первобытных эпох. Его художественное произведение будущего, на самом деле, есть художественное произведение далекого прошлого.
Итак, остается признать Вагнера, как бы то ни было, современным артистом и посмотреть, не обладал ли он, следуя по ложному пути, по крайней мере, в превосходной степени той или другой специальной артистической способностью. Но антивагнерианцы и тут также отрицают гений маэстро. Они прежде всего отрицают в нем всякий специально поэтический талант и, сходясь в этом пункте с очень многими литераторами, обвиняют его в том, что он — как в стихах, так и в прозе — говорит варварским языком и называют его простым дилетантом в области немецкой поэзии. Они также не согласны видеть в Вагнере и крупного драматурга. Его особенная склонность к мифическим сюжетам кажется им реакционным инстинктом; они видят в нем “последний гриб, выросший на навозной куче романтизма”, наследника обнищавших Тиков, Ламот-Фуке, Фридрихов Киндов, какого-то бесплодного паразита, который, будучи не способен извлечь из собственных средств оригинальные произведения, грабит богатство старых литераторов и изготовляет — по временам небезыскусно, но всегда без искреннего вдохновения — пьесы заказного, искусственного архаизма, лишенные к тому же всякой психологической правды, всякого человеческого интереса. Правда, они признают в нем удивительное чутье живописца, выдающийся талант к “фресковой живописи”, необыкновенную способность воплощать действие в ряде грандиозных картин, и даже склонны видеть в нем живописца от природы, который, если бы был здоровым гением, то воспроизводил бы свою фантазию на холсте в красках, а не обращался бы к драме, к которой он не был предназначен. Зато музыкальный талант они безусловно отрицают в нем.
По мнению Ницше, Вагнер по преимуществу комедиант, захудалый актер, которого бешеная любовь к представлению, к театральному эффекту заставила обратиться к музыке. Совершенно не знакомый с основными законами чистой музыки, неспособный добиться музыкального “стиля” в собственном смысле, он унизил музыку до служанки драмы, сделав из нее что-то вроде театральной риторики, средства усиливать выражение, подчеркивать жест, пояснять живописную картину. Он с удивительной проницательностью сумел различить всю пользу, которую можно извлечь из музыки, сведенной к ее чисто чувственным элементам, — из музыки, которая является не больше как звуком, движением, колоритом. Поэтому не ищите у него прекрасной мелодии, последовательного, логического развития музыкальной мысли. Музыка его — это какой-то хаос, что-то “бесконечное, но только не мелодия” если станут разбирать ее с чисто музыкальной точки зрения, то это просто-напросто “дурная музыка”, может быть — самая дурная, какая когда-либо только писалась. Когда музыкант не умеет считать до трех, он становится драматургом, он делается вагнерианцем. Зато он удивительно умеет возбуждать, делать слушателям внушения тем более интенсивные, чем более они смутны: это — какой-то сильный гипнотизер, который отличается в искусстве приводить в движение усталые, больные нервы, возбуждать самые истощенные темпераменты, гальванизировать даже умирающих и порабощать скотской эмоцией самые сильные темпераменты. Он развратил музыку, сделал ее больной, заставил ее быть не более, как искусством без искренности, без правды, без стиля, — искусством странствующего комедианта, который всевозможными средствами добивается того, как бы только произвести эффект в толпе.
Короче сказать, Вагнер, по антивагнерианской легенде, не примитивный самородный гений стихийной мощи, бьющей через край плодовитости, а декадент самой чистой пробы, один из тех поздних пришельцев, которые на склоне дней высокой культуры с удивительным искусством умеют пользоваться всеми средствами, накопленными предшествующими веками, и выпускают произведения редкие, любопытные, ученые и сложные, сверкающие роскошными красками, как краски осеннего пейзажа или солнечного заката, но произведения скорее необычайные, чем истинно прекрасные, — произведения, которым недостает настоящего благородства, простого, всепобеждающего и уверенного в самом себе совершенства. По мнению Ницше, вагнеровская драма дает “сверкающий” стиль в музыке; она — полное художественное выражение нашей эпохи упадка. Его наиболее удачные произведения, как увертюра к “Мейстерзингерам”, специфическую красоту которой подробно разбирает Ницше, являются великолепным, громоздким, подавляющим, монументальным, мощным и столь же ученым, утонченным искусством, которое — чтобы вполне понять его — предполагает двухсотлетнее существование музыки, но искусством северным, германским, которому недостает светлой ясности, красот гармонии южных народов. “Это, — говорит он, — что-то немецкое, в наилучшем и чистом смысле этого слова; что-то сложное, бесформенное, по немецкому обычаю неисчерпаемое; это — какая-то чисто немецкая мощь, бьющая через края полнота души, которая не боится прятаться под утонченностью упадка и, может быть, действительно чувствует себя легко только здесь; это — верное, точное изображение немецкой души, вместе и юной, и староватой, перезрелой и слишком богатой будущим. Этот род музыки является самым верным выражением того, что я думаю о немцах: у них есть “третьего дня” и “послезавтра”, но у них нет еще “сегодня”.
Едва ли нужно говорить о том, которая из этих двух только что приведенных мною легенд кажется мне содержащей наиболее объективную истину. Если бы пожелали из моего исследования, вообще чисто описательного, извлечь критическое суждение, то действительно бросается в глаза то, что это суждение, в большинстве существенных пунктов, будет подтверждением легенды, благоприятной Вагнеру. Но, продолжая считать Вагнера за истинного гения, я слишком далек от того, чтобы допускать, как делают это часто вагнерианцы, что антивагнерианская легенда просто-напросто была плодом невежества и глупости, связанных с недобросовестностью и бессильной завистью. Что среди бесчисленных врагов Вагнера некоторые имели довольно мало возвышенных побуждений — это весьма вероятно a priori, но малоинтересно в детальном разборе; и я думаю, что особенно сегодня значение подобных врагов совершенно не заслуживает внимания. Настоящую причину антивагнерианской легенды должно искать в другом; по нашему мнению, она коренится в состоянии глубокого разделения современного общества, в котором имеют силу неустранимые различия в основных принципах социальной жизни и искусства. Вагнер является представителем некоторых из самых важных тенденций современного духа; тогда — что удивительного, если он подвергся нападкам со стороны врагов этих тенденций тем с большим ожесточением, что он, по своему гению и по силе своего очарования, являлся наиболее опасным противником.
Большая часть сегодняшних нападок на Вагнера меньше направляется против того, что в нем есть индивидуального, меньше против истинной ценности его трудов как поэта и мыслителя, чем против некоторых воплощенных в них общих идей; эти нападки содержат в себе социальные, моральные и эстетические теории их авторов, являющиеся отрицанием теорий Вагнера. Такой позитивист, как Нордау, такой индивидуалист, как Ницше, необходимо должны, если они убеждены и готовы постоять за себя, должны нападать на Вагнера в силу своих же убеждений и каково бы ни было при этом индивидуальное значение Вагнера, рассматриваемого “в себе”, независимо от тех общих мнений, выразителем которых он является. Рассмотрим же с этой точки зрения антивагнерианскую легенду и посмотрим, что она означает.
Прежде всего, говорят нам, Вагнер — “декадент” и хотят доказать это двумя главными аргументами: первый — это то, что он “комедиант”, пораженный манией величия и искусно умеющий вызывать болезненные эмоции; второй — что он “мистик”. Каково же значение этих аргументов?
Первый упрек кажется мне не особенно веским, хотя он весьма часто выставляется против Вагнера. Что хотят сказать, когда упрекают его в “комедиантстве”? Упрекают ли его в том, что он ставит на первый план среди своих забот не истину в себе, а то, чтобы произвести драматический эффект на публику? Но если так, то всякий артист — комедиант. Кто пытается выразить свои мысли или свои впечатления в художественной форме, тот pso facto, сознательно или бессознательно, надеется произвести впечатление на действительную или возможную публику, для которой предполагаемое произведение предназначается; впрочем, не видно, почему эта забота, от которой не может избавиться ни один артист, необходимо должна была мешать ему быть искренним. — Или же хотят сказать, что Вагнер не сливался воедино с действующими лицами своих драм, что он не вибрировал в унисон с их радостями и их скорбями, что его философия и религия являются только театральными позами, которым он не придавал особенной важности? Но это значит создавать неосновательную гипотезу, которую невозможно проверить и, более того, гипотезу весьма невероятную. Чтобы сделать ее заслуживающей принятия, следовало бы указать расхождение общественных проявлений мысли Вагнера с частными проявлениями ее; например, расхождение его драмы с его перепиской; или же следовало бы доказать, что жизнь Вагнера является опровержением его мысли.
Я безусловно сомневаюсь, чтобы подобный способ доказательства мог иметь успех; совсем напротив, мне думается, что я показал в этом исследовании грандиозную и некоторым образом фатальную логику развития Вагнера от его неровной юности до триумфальной старости. — Скажут ли, что Вагнер может быть искренен, но что в его искусстве есть что-то чрезмерное, болезненное, патологическое? Вот еще обвинение, которое постоянно выставляют против вагнеровского искусства; и я сознаю, что оно с первого взгляда имеет в себе нечто правдоподобное. В самом деле, известно, что Вагнер был одарен необыкновенной нервной впечатлительностью, и что эта постоянно возбужденная, вибрирующая, напряженная чувствительность обнаруживается в его художественных произведениях; слушание драм Вагнера не обходится слушателю без некоторого утомления, и, я думаю, трудно уйти с представления, например, “Тристана” или “Парсифаля”, не чувствуя настоящего нервного потрясения, независимо от всякого эстетического удовольствия. Но кто может решить, самая ли эта чувствительность Вагнера — болезненна, или то нервное потрясение, в которое впадают многие от его художественных произведений, есть нечто вредное для здоровья. Как, не впадая в полнейший произвол, точно установить тот пункт, где страсть становится “преувеличенной”, где эмоция делается патологической? — Каждый решит сообразно со своим личным темпераментом.
Все сильные, плодовитые гении были обвиняемы их современниками в преувеличении страсти. С таким упреком Сент-Эвремонд обращается к своим современникам, итальянским композиторам; не было пощады ни Глюку, ни Бетховену, ни Берлиозу; следовательно, совершенно в порядке, что то же случилось и с Вагнером. Но, в сущности, это ничего не означает. Я не вижу, кто мог бы решить, на чьей стороне действительно “декадентство”: на стороне ли Вагнера или же на стороне тех “умников”, которые, по бедности своего темперамента, критикуют его “экзальтацию”.
Другой аргумент, выставляемый противниками Вагнера, несравненно серьезней. Вагнер, говорят они, декадент, потому что он мистик. Здесь мы касаемся одного из самых тонких, самых трудных и наиболее горячо оспариваемых вопросов нашего времени, одной из проблем, наиболее глубоко и наиболее сильно волнующих сознание наших современников: каково значение религиозного инстинкта, который, вопреки тем жестоким нападкам, которым он подвергался, все еще живет среди нынешнего света то под старыми традиционными формами, то под формами новыми, придающими ему художественный или философский вид. Есть ли христианство и нынешние спутники его, религия жалости, пессимизм, вера в идеал — как того желает Ницше — признаки вырождения, болезненные уклонения, которые грозят человечеству бесповоротно скомпрометировать его будущее? Есть ли самопроизвольная, слепая вера в истину, возвышающуюся над всяким опытом, в тот мир, в идеал, недостижимый в настоящей жизни — как того хотят позитивисты, — остаток суеверия, который осужден в более или менее близком будущем на исчезновение по мере того, как будет возрастать свет разума и науки? Или же, напротив, это стремление к сверхземному идеалу есть вечный, не гибнущий инстинкт человечества. Сообразно с тем, за ту или за другую из этих гипотез будут стоять, — ясно, что и о Вагнере вынесут сильно отличающиеся друг от друга суждения.
В самом деле, Вагнер явно “религиозен” он не только громко провозглашал во все периоды своей жизни свою патетическую веру в идеал, свои стремления к превышающей настоящую жизнь цели, свое презрение к настоящей действительности, к утилитарной погоне за материальными благами, но и весьма откровенно признал, что его религия, несмотря на различия, отделявшие ее от всех положительных религий, при всем том, в сущности, идентична христианству. И если это положение располагает к нему религиозные души, если христиане всякого вероисповедания — протестанты или католики — могут рассматривать его вообще как одного из своих, то, напротив, для “нерелигиозных” всяких оттенков он является реакционным, неуравновешенным умом; смотря по тому, более или менее будет заносчив их характер и более или менее придется по вкусу им вагнеровское искусство, — они будут извинять “мистицизм” Вагнера со снисходительной улыбкой превосходства — такое отношение часто встречается среди людей науки или среди “позитивных” умов, — или же искренно возмутятся, как Ницше и Нордау, и увидят в Вагнере злодея или помешанного. Антипатия, встречаемая Вагнером среди “нерелигиозных” людей, есть естественный и нормальный противовес антипатии, питаемой им самим по отношению к тем, которых он называл “обезьянами, прыгающими на древе познания”.
Суждение, выносимое о Вагнере и о его трудах, зависит также в известной степени от того социального значения, которое признают за искусством. Для многих мыслителей, в особенности для всех писателей, находящихся в связи с романтическим движением, искусство является самой высокой формой человеческой деятельности. Глубочайший из философов романтизма, Фихте, видел в отдаленном будущем, за веками науки, когда разум и законы его будут постигнуты с полной ясностью, век искусства, когда человечество путем упражнения в совершенной свободе, которую оно осуществит в конце своей эволюции, оденет красотой истину и науку. Но если искусству отводить высокое место в развитии цивилизации; если “интуициям” артиста согласиться придавать значение равное или большее, чем значение ясных идей человека науки, то будет вполне естественно иметь величайшее удивление к Вагнеру, который всю свою жизнь проповедовал свой вдохновенный культ прекрасного, свою безусловную веру в высокое значение искусства, и всю свою жизнь посвятил с самой патетической серьезностью артистической задаче, на которую он смотрел не как на добывание куска хлеба, не как на пустую забаву, а как на славную просветительную миссию.
Но позитивизм равно как подверг сомнению значение веры, так заспорил и о значении искусства. Нордау предвидит, что в жизни будущих веков искусство и поэзия будут занимать лишь очень незначительное место. Он замечает, что естественное развитие человека идет от инстинкта к сознанию, от самопроизвольной эмоции к обдуманному суждению: поэтому художественная интуиция в глазах его является просто-напросто смутной мыслью и имеет значение явно низшее, чем значение рациональных идей; и он предсказывает, что научное наблюдение над действительностью все более будет побеждать фантазию, что культивированный человек все более будет посвящать себя исключительно науке, и что искусство и поэзию он предоставит наиболее эмоционной части человечества: женщинам, юношеству и детям. Если при оценке Вагнера стать на такую точку зрения, то станет ясно, что по своим убеждениям он явится отсталым человеком, придающим искусству то значение, которого оно уже не имеет в настоящее время, следовательно, чересчур преувеличивающим социальное значение своих трудов и предающимся своему ремеслу увеселителя публики с педантской важностью и с чересчур смелыми замашками пророка.
Теперь остается нам обсудить те возражения, которые делали антивагнерианцы против художественного произведения будущего — так, как понимал его Вагнер.
Устраним прежде всего, как малоубедительную, критику, которая часто направляется на вагнеровскую драму и которую Нордау, в особенности, применил в своей работе. Музыкальная драма, говорит он, будет формой сложного искусства, существование которой плохо оправдывается законами эволюции, по которым каждое искусство естественным развитием идет к большей специализации. “Большая опера, — говорит Шопенгауэр, — в сущности, не есть продукт истинного понимания искусства; она скорее вызвана чисто варварской склонностью усиливать эстетическое наслаждение разнообразными средствами, одновременностью совершенно разнородных впечатлений и усилением эффекта благодаря увеличению действующих лиц и сил, — тогда как, напротив, музыка, как самое могущественное из всех искусств, одна может наполнять открытую для нее душу. Для того, чтобы воспринимать ее совершеннейшие произведения и наслаждаться ими, необходимо нераздельное и сосредоточенное настроение, — тогда только можно вполне отдаться ей, погрузиться в нее, вполне понять ее столь искренний и сердечный язык. Сложная оперная музыка этого не допускает. Тут внимание раздваивается, так как она действует на зрение, ослепляя блеском декораций, фантастическими картинами и яркими световыми и цветовыми впечатлениями; кроме того, внимание развлекается еще и фабулой пьесы... Строго говоря, оперу можно было бы назвать немузыкальным изобретением, сделанным в угоду немузыкальным людям, для которых музыка должна быть введена контрабандой”.
С первого же взгляда видно, что эта критика, касающаяся непосредственно традиционной оперы, на которую Вагнер смотрел как на эгоистическое и антихудожественное произведение, ничего не доказывает против истинной музыкальной драмы. В музыкальной драме — так, как ее определяет Вагнер, — вовсе нет наложения эффектов; автор сильно остерегается выражать одну и ту же вещь с помощью различных способов выражения, которыми он пользуется; но делает так, чтобы они дополняли друг друга. Мы видели, что слова и музыка не являются двумя эквивалентными передачами одного и того же действия, но что драматург высказывает поэзией именно то, чего он не может выразить музыкально, и музыкой — то, чего не может высказать с помощью одних средств поэзии. Следовательно, музыкальная драма не есть произведение составное, это — живой организм, части которого находятся в теснейшей зависимости друг от друга, так что ничего из них нельзя выбросить, не причинив ущерба всему телу. При всем том, это художественный организм самый сложный, какой только можно себе представить, и потому он кажется нам последним пределом эволюции искусств.
В самом деле, общий закон эволюции есть то, что Герберт Спенсер называет интеграцией: во всех областях — в астрономии, как и в естественной истории, в биологии, как и в лингвистике, — прогресс получается от рождения все более и более сложных организмов. Если действительно, как того хочет Вагнер, музыкальная драма вышла путем интеграции из симфонии; если она не есть, как обыкновенная опера, театральная музыка, прилагаемая к драме или к феерии, а действительно — организм вроде живого существа со свойственным ему единством, то она бесспорно представляет собою, с точки зрения эволюционной теории, прогресс искусства. Правда, что антивагнерианцы всегда имеют средства спорить против того, что драмы Вагнера действительно организмы и специфически отличаются от других опер. И так как особенно трудно положительным образом установить, имеет или нет музыкальная драма органическое единство, то мне кажется сомнительным, в конце концов, чтобы можно было воспользоваться доктринами эволюционистов как решительным аргументом за или против произведений Вагнера.
“Специалисты” всегда найдут свои основания критиковать интегральное художественное произведение, а вагнерианцы всегда будут провозглашать право на отвержение критики этих специалистов.< С другой стороны, Вагнер хотел создать произведение “популярное”, доступное не только избранным знатокам, высшим умам, очищенным долгой культурой чувствам, но и нормальному, одаренному средними способностями человеку. Очевидно, можно исследовать, в какой мере Вагнер выполнил эту программу и до какой степени такие произведения, как “Тристан” и “Парсифаль”, доступны или когда-нибудь будут доступны для народа. Но как бы то ни было, несомненно то, что такое сложное и разнообразное зрелище, как вагнеровская драма, способно заинтересовать бесконечно более многочисленную и более разнородную публику, чем та публика, которая может наслаждаться симфонией Цезаря Франка или Сен-Санса. Я думаю, можно даже говорить как о положительном факте, что с чисто музыкальной точки зрения произведения Вагнера в настоящее время сделались легкими для понимания; во всяком случае, я вынес ясное впечатление того, что в классическом, концертном исполнении музыка Вагнера действует на большую массу публики быстрее и сильнее, чем всякая другая. Поэтому я вполне убежден, что Вагнер, как он сам того желал, в весьма широкой степени “популярен”.
Но этим он задевает “аристократические” тенденции, правда, немногочисленной, однако же важной по своему качеству части нынешней художественной публики. Есть и всегда были аристократы, которые думают, что истинная красота необходимо должна оставаться достоянием избранных, и которые далеко не требуют от артиста, чтобы он был понятен толпе, но требуют, чтобы он трудился только для удовлетворения самого себя и небольшого кружка знатоков, и ревниво охраняют его от жертв, приносимых практическим нуждам истинно народного успеха, хотя бы это согласовалось с его идеями. И вот среди этой публики, которая до настоящего времени всегда с жаром защищала дело Вагнера, там и сям начинают появляться сомнения относительно безусловного значения музыкальной драмы как художественного произведения. Как среди литераторов в журналах и статьях постоянно поднимается вопрос, не признать ли театр низшей формой искусства, так среди музыкантов замечаются колебания, не есть ли музыкальная драма менее высокая, менее благородная художественная форма, чем симфония.
Еще в периоде своего преклонения пред Вагнером Ницше отмечал, что Вагнер кажется ему “менее чистой” натурой, чем Бах или Бетховен; позднее он пошел бесконечно дальше по этой дороге и видел в байрейтском маэстро ни больше ни меньше, как гениального шарлатана. Конечно, общее мнение не пошло за ним в этой эволюции; но вера в безусловное превосходство художественного произведения будущего среди “аристократов” искусства поколебалась. Я знаю многих искренних поклонников вагнеровского искусства, которые приходят в негодование от неизбежных погрешностей исполнения, легко замечаемых на всех представлениях произведений Вагнера, не исключая байрейтских, и даже в Байрейте охотно закрыли бы глаза, чтобы избавиться от того грубого, порою неудовлетворительного видения, которое надоедливо навязывает себя их зрению и мешает им вполне свободно отдаваться внутренним грезам, вызываемым поэмой и музыкой; которые чувствуют, почти как страдание, необходимость разделять свое внимание между оркестром, декорациями, пением и мимикой актеров и весьма логично приходят к вопросу, не заключает ли в себе поневоле всякое сценическое представление в некотором роде ущерб и как бы профанацию искусства. Отсюда до сомнения в самой законности вагнеровской драмы как художественной формы один только шаг.
Скажу еще раз, тех, которые думают и чувствуют так, вероятно, немного; прибавлю, что Вагнер всегда выказывал себя достаточно враждебным по отношению к такой тенденции ума и считал этих прихотливых людей за плохих ценителей его произведений. Однако же на самом деле их суждения, тем не менее, имеют, быть может, довольн Главную причину враждебного отношения большинства антивагнерианцев к музыкальной драме нужно просто искать в их исключительном предпочтении к другому художественному идеалу. Они делаются непримиримыми борцами за известные принципы, в которые они верят; они противополагают вагнерову credo другое credo и нападают на Вагнера единственно потому, что его произведение является отрицанием дорогих для них убеждений. Вполне естественно, например, что убежденные поклонники итальянской оперы объявили Вагнеру ожесточенную войну; эти нападки явились неизбежным отражением тех не менее сильных нападений, которые направил Вагнер — без сомнения, с большим основанием, но также, наверное, несколько пристрастно — против итальянской оперы. Конечно, при таком положении есть доля нетерпимости: и с той, и с другой стороны каждый должен делать усилие, чтобы наслаждаться тем, что может быть прекрасного в вагнеровской драме и в новейшей итальянской опере. Но как редки те, которые имеют достаточно гибкий ум для того, чтобы без усилия и с одинаковой искренностью интересоваться столь радикально разнородными произведениями!
Подобный антагонизм можно наблюдать у сторонников Вагнера и защитников “классического” идеала. Если Ницше, например, сделался ожесточенным врагом Вагнера после того, как был близким его другом, то это, конечно, больше из-за своей любви к греческому искусству. Страстно увлекающийся всем, что является “прекрасной формой”, убежденный поклонник эллинизма. Возрождения, французской цивилизации XVII века, он мало-помалу осознал ту существенную разницу, которая существует между драмой Вагнера и греческой драмой. Он увидел, что по выбору сюжетов, по тому символическому характеру, который он придал им, по тому развитию, которое он дает внутреннему действию в ущерб внешнему действию, Вагнер является чисто германским гением и глубоко отличается от греческих, латинских или французских “классиков”, — мастеров ясной, светлой, пластической “прекрасной формы”. Но Ницше любит юг, “как великую школу душевного и физического здоровья, как лучезарную страну света, где в царстве солнца человек живет сильным, гордым и преисполненным веры в самого себя”. Ученому, сложному и нагроможденному вагнеровскому искусству он мысленно противопоставляет искусство в простых линиях, подобных линиям греческого храма, искусство более страстное, чем мечтательное, искусство, которое отражает в себе не туман севера, а ослепительный свет юга, — “музыку сверхнемецкую, звуки которой не потеряют своего блеска, не побледнеют, не поблекнут, — как это случается со всякой немецкой музыкой перед лицом страстно роскошного, синего моря, под лучами Средиземного моря”. “Кармен” Бизе кажется ему первым опытом того идеального искусства, которое он считает более чистым, более изящным, более легким и благородным в линиях, чем немецкое искусство. Словом, то, чего хочет Ницше, это — пришествия новой формы искусства, которой еще нет — ибо произведение Бизе для него есть только предчувствие этого нового искусства — и которая была бы полным выражением “латинского” гения, как произведение Вагнера есть выражение немецкого гения. А это желание, сформулированное Ницше, разделяется громадным большинством артистов и критиков, в особенности, как и надо было ожидать, во Франции.
Враждебное отношение, выказываемое вагнеровскому искусству, например, Сен-Сансом, происходит от боязни увидеть французских композиторов слишком увлекающимися подражанием вагнеровским приемам. Среди литературных критиков, в особенности за последнее время, замечается также довольно сильное реакционное движение против чужеземного искусства, против Толстого, Ибсена, Гауптмана и Зудермана. И я близок также к той мысли, что оппозиционное чувство, вызванное с разных сторон вторжением чужеземных литераторов, было во Франции, быть может, достаточно значительным фактором в деле удивительного успеха, приобретаемого за последнее время такой пестрой, чисто французской пьесой. Художественный антагонизм между “латинским” духом и духом “германским” не умер, и равно как Вагнер Следовательно, трудно в настоящий момент высказать окончательное суждение о трудах Вагнера, и все потому, что это суждение, по крайней мере отчасти, зависит от решения, даваемого некоторым из великих проблем, которые разделяют и, несомненно, еще долго будут разделять мыслящее человечество. Смотря по тому, какое место будут отводить на скале ценностей религиозной вере, искусству, разуму, положительной науке, будут склонны видеть в байрейтском маэстро реакционный ум или вдохновенного пророка, декадента или реформатора. Смотря по тому, будут ли склонны к аристократическому пониманию искусства или демократическому, — в музыкальной драме увидят ошибку художника или, напротив, самую высокую форму искусства. Смотря по тому, будут ли отдавать предпочтение “латинскому” художественному идеалу или идеалу германскому, — будут ценить более строго или более снисходительно философский символизм вагнеровской драмы, ее сложную, научную форму, то предпочтение, которое он дает эмоционному элементу пред элементом интеллектуальным, другими словами, — мечтанию пред действием.
Однако теперь, я думаю, можно, не боясь ошибиться, сказать, что Вагнер занимает одно из первых мест — вероятно даже самое первое — в истории немецкого искусства XIX столетия и, без сомнения, также в истории европейского искусства. Каково бы ни было на самом деле будущее суждение, каково бы ни было направление, по которому будет подниматься человечество, за Вагнером всегда останется слава того, что он сумел дать изящное и удивительно сильное выражение некоторым из тех великих идей, тех великих чувств, которые волновали людей нашего времени.
Новый историк немецкой цивилизации, Куно-Франк, смотрит на “коллективистический пантеизм” как на моральный идеал, к которому стремится Германия с конца XVIII века, и думает, что дело Вагнера есть “самая патетическая прокламация художественного идеала будущего, этого коллективистического пантеизма”. Как в высшей степени религиозный человек он кажется нам наследником этой романтической, вместе христианской и пантеистической веры, преемником Фихте, Шлейермахера, Новалиса, — тем верующим, который видит в религиозном инстинкте самое высокое свойство человека и в христианстве — самое благородное проявление этого религиозного инстинкта. Как сильный и проницательный моралист он является учеником Шопенгауэра, соревнователем Толстого, одним из глубоко вдохновеннейших представителей религии человеческого страдания, которая является одним из самых общепринятых верований в настоящее время. Как убежденный демократ он предпочитает “народ” аристократам ума; посвящает себя “коммунистическому” искусству, видит в уничтожении эгоистических привилегий правящих классов, в материальном, моральном и религиозном подъеме низших классов идеал, к которому должно стремиться современное общество. Как национальный поэт он довел до конца дело, начатое романтиками — дело, которое до него, особенно в области драмы, не приходило ни к какому окончательному результату: он воскресил германское прошлое, он дал мертвым старым легендам современную душу и новую жизнь. Как музыкант-поэт он нашел оригинальную форму для синтеза слова и музыки, которого множество поколений музыкантов искало до него и к которому стремились также, только другим путем, такие великие поэты, как Шиллер и, в особенности, Гете. Как человек дела и предприятия он создал единственное в мире художественное учреждение, влияние которого мало-помалу распространяется на большинство подобных учреждений. Наконец, как убежденный артист он верил в святое искусство и хотел, чтобы артист смотрел на себя как на служителя идеала. Под такими именами — каково бы ни было окончательное суждение о нем последующих поколений — он кажется нам вполне первоклассной социальной силой. Рихард Вагнер, после Гете, величайшее событие в немецком искусстве.
В.Э. Мейерхольд. К постановке "Тристана и Изольды" на Мариинском театре 30 октября 1909 года
I
Если отнять у оперы слово, представляя ее на сцене, мы получим, в сущности, вид пантомимы. В пантомиме же каждый эпизод, все движения этого эпизода (его пластические модуляции), как и жесты отдельных лиц, группировка ансамбля - точно предопределены музыкой - модификацией ее темпов, ее модуляцией, вообще - ее рисунком. В пантомиме ритмы движений, жестов и ритм группировок строго слиты с ритмом музыки; и только при достижении этой слитности ритма представляемого на сцене с ритмом музыки пантомима может считаться идеально выполненной на сцене.
Почему же оперные артисты в движениях своих и жестах не следуют с математической точностью темпу музыки - тоническоґму рисунку партитуры? Разве прибавленное пантомимным артистам пение меняет существующее в пантомиме взаимоотношение между музыкой и инсценировкой? Происходит же это, я думаю, оттого, что игру свою оперный артист создает преимущественно в плане материала, извлекаемого им не из партитуры, но из либретто.
Материал же этот в большинстве случаев настолько жизненен, что дает соблазн к приемам, уподобляющимся приемам игры бытового театра. И смотря по времени: если оперная сцена переживает вместе с драматическим театром тот период, когда царит жест условной красивости, напоминающий марионетку, которую двигают только для того, чтобы она казалась живой,- игра оперных артистов этого периода условна, как была условна игра французских актеров эпохи Расина и Корнеля; если же оперная сцена переживает с драматическим театром время увлечения натурализмом, игра актеров становится близкой к действительной жизни, и место условных "оперных жестов" заступает жест-автомат, очень реальный; это жест рефлекторной привычки, им сопровождаем мы в повседневной жизни наши разговоры.
В первом случае разлад между ритмом, диктуемым оркестром, и ритмом жестов и движений почти неощутим (хотя эти жесты неприятно сладки, пряно красивы, глупо марионеточны,- все же они соритмичны); разлад их лишь в том, что движению не придана осмысленность и строгая выразительность, как того требовал Вагнер, например. Зато во втором случае разлад этот невыносим: во-первых, потому, что музыка становится в дисгармонию с реальностью жеста-автомата, жеста повседневности, и оркестр, как в плохих пантомимах, превращается в аккомпаниатора, играющего ритурнели, рефрен; во-вторых, потому, что происходит роковая раздвоенность зрителя: чем лучше игра, тем наивнее самая сущность оперного искусства; в самом деле, уже одно то обстоятельство, что люди, ведущие себя на сцене как вызванные из жизни, вдруг начинают петь,- естественно, кажется нелепым. Недоумение Л. Н. Толстого при виде поющих людей [123] объясняется просто: пение оперной партии, сопровождаемое реальным исполнением роли, неминуемо вызовет у чуткого зрителя усмешку. В основе оперного искусства лежит условность - люди поют; нельзя поэтому вводить в игру элемент естественности, ибо условность, тотчас же становясь в дисгармонию с реальным, обнаруживает свою якобы несостоятельность, то есть падает основа искусства. Музыкальная драма должна исполняться так, чтобы у слушателя-зрителя ни одной секунды не возникало вопроса, почему эту драму актеры поют, а не говорят.
Образцом такой интерпретации ролей, когда у слушателя-зрителя не является вопроса: "почему актер поет, а не говорит",- может служить творчество Шаляпина. Он сумел удержаться как бы на гребне крыши с двумя уклонами, не падая ни в сторону уклона натурализма, ни в сторону уклона той оперной условности, которая пришла к нам из Италии XVI века, когда для певца важно было в совершенстве показать искусство производить рулады, когда отсутствовала всякая связь между либретто и музыкой. В игре Шаляпина всегда правда, но не жизненная, а театральная. Она всегда приподнята над жизнью - эта несколько разукрашенная правда искусства.
У Бенуа в "Книге о Новом театре" есть: "герой может погибнуть, но и в этой погибели важно, чтобы чувствовалась сладость улыбки божества" [124] . Эта улыбка чувствуется в развязках некоторых трагедий Шекспира ("Лир", например), у Ибсена в момент гибели Сольнеса Хильда слышит "арфы в воздухе", Изольда "тает в дыхании беспредельных миров". Эта же "сладость улыбки божества" чувствуется в смерти Бориса у Шаляпина. Да и один ли только момент гибели озаряется у Шаляпина "улыбкой божества"? Достаточно вспомнить сцену у собора ("Фауст"), где Мефистофель - Шаляпин является отнюдь не торжествующим духом зла, но пастором-обличителем, как бы скорбящим духовником Маргариты,- голосом совести. Таким образом, недостойное, уродливое, низкое (в шиллеровском смысле) чрез шаляпинское преображение являются предметом эстетического наслаждения.
Далее, Шаляпин - один из немногих художников оперной сцены, который, точно следуя за указаниями нотной графики композитора, дает своим движениям рисунок. И этот пластический рисунок всегда гармонически слит с тоническим рисунком партитуры.
В качестве иллюстрирующего примера синтеза пластической ритмики и ритмики музыкальной может служить интерпретация Шаляпиным шабаша на Брокене (опера Бойто), где ритмичны не только движения и жесты Мефистофеля - вождя хоровода, но даже в напряженной неподвижности (словно окаменелости) исступления слушатель-зритель угадывает ритм, диктуемый оркестровым движением.
Синтез искусств, положенный Вагнером в основу его реформы музыкальной драмы, будет эволюировать - великий архитектор, живописец, дирижер и режиссер, составляющие звенья его, будут вливать в Театр Будущего все новые и новые творческие инициативы свои, но, разумеется, синтез этот не может быть осуществленным без прихода нового актера.
Такое явление, как Шаляпин, впервые предуказало актеру музыкальной драмы единственный путь к величественному зданию, воздвигнутому Вагнером. Но большинство проглядело в Шаляпине то именно, что должно считаться идеалом оперного артиста; театральная правда шаляпинского творчества понята была как жизненная правда,- показалось, что это - натурализм. Произошло же это вот почему: выступление Шаляпина на сцене (в частной опере Мамонтова) совпало с господством Московского Художественного театра первого периода (мейнингенство).
Свет такого значительного явления, как Московский Художественный театр, был настолько силен, что под лучами его мейнингенской манеры творчество Шаляпина было истолковано как натуралистический прием, введенный в оперу. Режиссер и актеры оперного театра думали, что они идут по стопам Шаляпина, когда в "Фаусте" Маргарита в песенке о Фульском короле на фоне оркестра, где так кстати звучит прялка, поливала клумбу цветов из садовой лейки...
Для актера музыкальной драмы творчество Шаляпина такой же родник, как жертвенник Диониса для трагедии. Но актер музыкальной драмы лишь тогда станет великим звеном вагнеровского синтеза, когда он творчество Шаляпина поймет не под лучами Московского Художественного театра, где игра актеров основана на законах подобия, но под лучами всемогущего ритма. Переходя далее к движению актеров музыкальной драмы в связи с ее характеристикой, замечу попутно, что в мои намерения не входил подробный анализ манеры игры Шаляпина, о котором я упомянул лишь для того, чтобы легче было понять, о каком искусстве оперного актера идет речь.
Начинаю же с движений и жестов актеров потому, что инсценировка музыкальной драмы должна быть создаваема не сама по себе, а в связи с этими движениями, как эти последние должны быть расположены в зависимости от партитуры. В методе инсценировки мало различать две крупные разновидности. Приняв Глюка праотцом музыкальной драмы, мы имеем два разветвления, две линии: одна - Глюк-Вебер - Вагнер; другая - Глюк - Моцарт - Бизе.
Считаю долгом оговориться, что инсценировке, подобной той, о которой речь ниже, поддаются музыкальные драмы типа Вагнера, то есть те, в которых либретто и музыка созданы без взаимного порабощения. Драматическая концепция музыкальных драм, чтобы начать жить, не может миновать сферы музыкальной, тем самым она во власти таинственного мира наших чувствований; ибо мир нашей Души в силах проявить себя лишь через музыку, и, наоборот, одна только музыка в силах во всей полноте выявить мир Души. Черпая свое творчество из недр музыки, конкретный образ этого творчества автор музыкальной драмы оживляет в слове и тоне, и так возникает партитура - словесно-музыкальный текст. Аппиа ("Die Musik und die Inszenierung") не видит возможности прийти к драматической концепции иначе, как сначала повергнув себя в мир эмоций,- в музыкальную сферу.
Правый ход Аппиа не считает возможным; драматическая концепция, созданная без хода через музыку, дает негодное либретто. И еще, как наглядно Аппиа определяет взаимоотношения элементов оперного театра: Музыка, определяющая время всему происходящему на сцене, дает ритм, не имеющий ничего общего с повседневностью. Жизнь музыки - не жизнь повседневной действительности. "Жизнь не такая, как она есть, не такая, какой должна быть, а как она представляется в мечтах" (Чехов) .
Сценический ритм, вся сущность его - антипод сущности действительной, повседневной жизни. Поэтому весь сценический облик актера должен явиться художественной выдумкой, иногда, быть может, и опирающейся на реалистическую почву, но в конечном счете представшей в образе, далеко не идентичном тому, что видим в жизни. Движения и жесты актера должны быть в соответствии к условному разговору-пению.
Мастерство актера натуралистической драмы - в наблюдении жизни и в перенесении элементов наблюдения в свое творчество; мастерство актера музыкальной драмы не может подчинить себя одному лишь опыту жизни. Мастерство актера натуралистической драмы находится в большинстве случаев в подчинении произволу его темперамента. Партитура, предписывающая определенный метр, освобождает актера музыкальной драмы от подчинения произволу личного темперамента.
Актер музыкальной драмы должен постичь сущность партитуры и перевести все тонкости оркестрового рисунка на язык пластического рисунка. И вот актеру музыкальной драмы предстоит добиться мастерства в телесной гибкости. Тело человеческое - гибкое, подвижное, став в ряды "выразителей" вместе с оркестром и обстановкой, начинает принимать активное участие в сценическом движении.
Человек вместе с согармонической обстановкой и соритмичной музыкой являет собой уже произведение искусства. В чем же тело человеческое, гибкое для служения сцене, гибкое в своей выразительности, достигает высшего своего развития? В танце.
Ибо танец и есть движение человеческого тела в ритмической сфере. Танец для нашего тела то же, что музыка для нашего чувства: искусственно созданная, не обращавшаяся к содействию познания форма.
Музыкальную драму Рихард Вагнер определил как "симфонию, которая становится видимой, которая уясняется в видимости и понятном действии" ("ersichtlichgewordene Thaten der Musik"). Симфония же для Вагнера ценна заключенной в ней танцевальной основой. "Гармонизированный танец - основание современной симфонии",- замечает Вагнер. Седьмую (A-dur) симфонию Бетховена он называет "апофеозом танца".
Итак, "видимое и понятное действие" - а его выявляет актер - есть действие танца. Раз корнем жестов для музыкальной драмы является танец, то оперные артисты должны учиться жесту не у актера бытового театра, но у балетмейстера.
"Музыкальное и поэтическое искусства становятся понятными... лишь через танцевальное искусство" (Вагнер). Там, где слово теряет силу выразительности, начинается язык танца. В старояпонском театре на так называемой "Но"-сцене, где разыгрывались пьесы наподобие наших опер, актер обязательно был вместе с тем и танцовщиком.
Помимо гибкости, делающей оперного певца в своих движениях танцовщиком, еще одна особенность отличает актера музыкальной драмы от актера драмы словесной. Актер последней, желая показать, что воспоминание причинило ему боль, мимирует так, чтобы показать зрителю свою боль. В музыкальной драме об этой боли может рассказать публике музыка. Таким образом оперный артист должен принять принцип экономии жеста, ибо жестом ему надо лишь дополнять пробелы партитуры или дорисовывать начатое и брошенное оркестром.
В музыкальной драме актер не единственный элемент, образующий звено между поэтом и публикой. Здесь он лишь одно из выразительных средств, не более и не менее важное, чем все другие средства выражения, а потому ему и надлежит встать в ряды своих собратьев-выразителей. Но, конечно, прежде всего через актера музыка переводит меру времени в пространство. До инсценирования музыка создавала картину иллюзорно лишь во времени, в инсценировке музыкой побеждено пространґство. Иллюзорное стало реальным через мимику и движения актера, подчиненные музыкальному рисунку; овеществлено в пространстве то, что витало лишь во времени.
II
Говоря о "театре будущей эпохи", театре, который должен явиться "союзом всех искусств", Вагнер называет Шекспира (того периода, когда он не выходил еще из "товарищества") "Фесписом трагедии будущего" ("как тележка Фесписа относится к театру Эсхила и Софокла, так будет относиться и театр Шекспира к театру будущей эпохи"); о Бетховене же говорит - вот кто нашел язык будущего художника. И вот Вагнер видит Театр Будущего там, где эти поэты протянут друг другу руки. И еще, Вагнер особенно четко занес на листы своих письмен грезу: "поэт найдет свое искупление" там, где "мраморные творения Фидия оденутся в плоть и кровь".
В шекспировском театре дорого Вагнеру, во-первых, то, что труппа составляла то идеальное товарищество, которое являло собой сообщество в платоновском смысле ("eine besondere Art von ethiseher Gemeinsehaftsform" - особый вид этической общности , по выражению Лессинга). Во-вторых, в шекспировском театре Вагнер видел приближение к образцу всенародного искусства: "Драма Шекспира является столь верным изображением мира, что в артистическом воспроизведении идей невозможно различить в них субъективной стороны поэта". В творчесте Шекспира, по мнению Вагнера, звучала душа народа.
Так как я поставил основой своей темы план технический, то в указании Вагнером (при его влюбленности в античный мир) на Шекспира, как на образец, достойный подражания, я отмечу следующее.
В простоте архитектоники шекспировской сцены Вагнеру нравилось то, что актеры театра Шекспира играли на сцене, со всех сторон окруженные зрителями. Вагнер называет (очень метко и остроумно) передний план сцены староанглийского театра "der gebarende Mutterschofi der Handlung" - лоном, где рождается действие. Но ведь не авансцену же ренессансного театра, которой так широко пользовались итальянские певцы, мог считать Вагнер повторением любопытной формы староанглийской сцены?!
Конечно, нет. Во-первых, Вагнер преклонялся перед формой античного театра, где тот план, который мог бы напомнить нашу авансцену (оркестра), занят у Вагнера скрытым оркестром; а, во-вторых, предлагая возвести человека в культ и мечтая о пластическом преображении его на сцене, Вагнер, конечно, не мог считать авансцену наших театров удобным местом для группировок, основанных на принципе пластического преображения, и вот как представляет себе Вагнер это преображение:
"Когда человек... даст прекрасное развитие своему телу, тогда объектом искусства должен, несомненно, стать живой, совершенный человек. Но желанным искусством последнего является драма. Поэтому искуплением пластики будет волшебное превращение камня в мясо и кровь человека, превращение неподвижного - в оживленное, монументального - в современное. Лишь когда творческие стремления перейдут в душу танцора, мима, певца и драматического артиста, можно надеяться на удовлетворение этих стремлений. Настоящая пластика будет существовать тогда, когда скульптура прекратится и претворится в архитектуру, когда ужасное одиночество этого одного человека, высеченного из камня, сменится бесконечным множеством живых действительных людей,- когда мы будем вспоминать о дорогой мертвой скульптуре в вечно обновляющемся одухотворенном мясе и крови, а не в мертвой меди или мраморе, когда мы соорудим из камня театральные подмостки для живого произведения искусства и уже не будем стараться выразить в этом камне живого человека" (Вагнер).
Вагнер отвергает не только скульптуру, но и портретную живопись: "ей нечего будет делать там, где прекрасный человек в свободных художественных рамках, без кисти и полотна, явится объектом искусства". И вот Вагнер взывает к архитектуре. Пусть архитектор поставит себе задачей построить здание театра так, чтобы человек был "объектом искусства для самого себя". Как только живой образ человека превращается в единицу пластическую, так тотчас же всплывает проблема новой сцены (в смысле ее архитектуры).
На протяжении всего XIX века проблема эта по временам всплывает, особенно в Германии. Вот что говорит глава романтической школы Людвиг Тик в письме своем к Раумеру (передаю содержание, не цитируя): я уж не раз говорил с вами о том, что считаю возможным найти средства для переустройства сцены так, чтобы приблизить ее по своей архитектонике к староанглийской сцене. Но для этого наши сцены должны бы быть, по крайней мере, в два раза шире тех, к которым мы привыкли. Давно следовало бы оставить глубину сцены, так как она делает подмостки антихудожественными и анґтидраматическими.
Для "выходов" и "уходов" следовало бы использовать не глубину сцены, а боковые кулисы - иными словами, следовало бы повернуть сцену другою стороною к публике,- поставить в профиль все то, что нам представляется лицом. "Театры глубоки и высоки, вместо того, чтобы быть широкими и неглубокими, наподобие барельефа". Тик полагал, что стаґроанглийская сцена имела некоторое сходство с греческой. Ему нравилось в ней то, что, во-первых, она обо всем лишь намекала; во-вторых, то, что сцена (в тесном смысле слова) была впереди; все то, что можно бы было назвать нашими кулисами, представляло зрителю действие в непосредственной близости; и фигуры актеров, находившихся на подмостках, ни на секунду не терялись у зрителей из виду, как фигуры на цирковой арене.
Вопрос о том, как бы поместить живопись и фигуры человеческие в разные планы, очевидно, усиленно занимает знаменитого архитектора-классика Шинкеля (1781-1841), так как и он предлагает образцы новой сцены, которые совпадают с мечтой Вагнера видеть "ландшафтную живопись", как отдаленный задний план, подобно тому, как в древнегреческом театре эллинский пейзаж был отдаленным фоном. "Природа была для грека лишь рамками для человека - и боги, олицетворявшие, по греческому представлению, силы природы, были именно человеческими богами. Всякое явление природы грек стремился облечь в человеческий вид, и природа имела для него бесконечную привлекательность лишь в образе человека..."
"Ландшафтная живопись должна стать душою архитектуры; она научит нас устроить сцену для драмы будущего, в которой сама она представит живые рамки природы для живого, а не скопированного человека".
"То, что скульптор и исторический живописец старались созидать на камне и на полотне, актер создаст теперь на себе, на своей фигуре, на членах своего тела, отпечатлеет на чертах своего лица для сознательной художественной жизни. Те же мотивы, которые руководили скульптором, передававшим формы человека, руководят теперь актером - его мимикой. Глаз, помогавший историческому живописцу находить самое лучшее, привлекательное и характерное в рисунке, красках, одеждах и распланировке групп, регулирует теперь распланировку живых людей" (Вагнер).
Из того, что высказал Вагнер по поводу места живописи на сцене - о переднем плане в руках архитектора, о художнике, которого он зовет в театр не для одной живописи (она имеет место лишь как Hintergrund), но и для режиссуры; из того, что в других местах Вагнер пишет о настроении во всем, что касается освещения, линий, красок, о крайней необходимости хорошо видеть чеканку движений и жестов актера, его мимики, об акустических условиях, выгодных для декламации актера, из всего этого ясно, что байрейтская сцена не могла удовлетворить подобного рода требованиям Вагнера, ибо она еще не окончательно порвала связь с традициями ренессансной сцены, а главное, режиссеры, инсценировавшие Вагнера, не считали нужным принимать во внимание основной взгляд этого реформатора на сцену как на пьедестал для скульптуры.
III
Осуществить мечту Тика, Иммермана, Шинкеля, Вагнера - мечту возрождения характерных особенностей античной и староґанглийской сцен - взял на себя Георг Фукс в Мюнхене ("Ktinst-lertheater") Особенность этой сцены та, что передний план рассчитан лишь на рельефы. Под рельефами подразумеваются пратикабли в широком смысле (дословный перевод французского "praticable" и немецкого "praktikabel" - годный к употреблению); следовательно, это не только те части живописи, написанные отдельно от "проспекта", которые служат исключительно целям живописным - усилить эффект перспективы или усилить свет на проспекте (в каковом случае за пратикаблями ставятся электрические "бережки"); термин "рельеф" называют здесь и не в том узком значении, какое придал ему Московский Художественный театр, где "рельефами" называют лепные части, прибавленные к писаной декорации для усиления иллюзии настоящего.
Пратикабли-рельефы - это те части материала, дополнительного к декорациям, которые не иллюзорны для глаз зрителя, но овеществлены; они дают актеру возможность прикасаться к ним - служат как бы пьедесталом для скульптуры. Таким образом, первый план, превращенный в "рельеф-сцену" и сильно отдаленный от живописи, поставленной во втором плане, дает возможность избежать той обычной неприятности для эстетического вкуса зрителя, когда тело человеческое (три измерения) стоит рядом с живописью (два измерения),- неприятности, которая еще возрастает, когда противоречие между фиктивной сущностью декораций и тем "настоящим", что вносит на сцену своим телом актер, стараются смягчить введением рельефа в самую картину, то есть в тех случаях, когда живопись, являясь не только как Hintergrund, но находясь и на переднем плане, попадает в одну плоскость с рельефами. "Вводить рельеф в картину, вводить музыку в чтение, живопись в скульптуру - все это такие промахи против "хорошего вкуса", которые коробят эстетическое чувство" (Бенуа).
Для того чтобы выявить этот принцип "рельеф-сцены", Георгу Фуксу пришлось заново выстроить театр. Вынужденные работать на сцене типа ренессансного театра и желая испробовать столь подходящий для инсценировки вагнеровских драм метод деления сцены на два плана ("сцена-рельеф" - первый, "живопись" - второй), мы сразу сталкиваемся с одним громадным препятствием, которое заставляет всеми силами души ненавидеть конструкцию ренессансной сцены.
Авансцена, которая в доброе старое время служила для выхода артистов с их ариями ближе к публике (будто концертная эстрада для исполнения певцом романса, ничем не связанного ни с предыдущими, ни с последующими номерами концерта),- эта авансцена, которая сделалась лишним местом после исчезновения певцов-кастратов и певиц, проделывавших гимнастические рулады (да простят мне колоратурные сопрано, что я не считаю их в кругу того театра музыкальной драмы будущего, о котором идет речь),- авансцена, которую покинул современный оперный актер, так как либретто, уже не стоящее отдельно, как в старых итальянских операх, обязывает его плести сеть сценического действия вместе со своими партнерами,- авансцена эта, так сильна выдвинутая вперед, к сожалению, не может быть использована как "сцена-рельеф", так как она вынесена перед занавесом, и это обстоятельство не позволяет воспользоваться ею как планировочным местом.
Эта неприятность принудила нас создать "сцену-рельеф" не на авансцене, а на первом плане и, таким образом, "сцена-рельеф" не находится в той желанной близости к публике, чтобы мимическая игра и пластические движения актеров были заметнее. Сцена ренессансного театра - коробка с вырезанным в одной стенке "окном", обращенным к зрителю (низ коробки - пол сцены, боковые части коробки - боковые части сцены, скрытые кулисами, крышка коробки - верх сцены, невидимый зрителю). Нет достаточной ширины (боковые стенки коробки не отнесены далеко от краев окна ее), чтобы не надо было закрывать ее боковых стенок от взоров публики, развешивая по бокам тряпки (кулисы); нет достаточной высоты, чтоб обойтись без портальных сукон и "падуг".
Актеры, находящиеся на этой сцене-коробке с развешанными (по бокам и сверху) размалеванными тряпками и расставленными по полу сцены размалеванными пратикаблями, теряются в ней, "как миниатюры в огромной раме" (Э.-Т.-А. Гофман). Если на авансцену, находящуюся вне занавеса, положить ковер, придав ему значение колоритного пятна, созвучного с боковыми сукнами, если прилегающий к авансцене план превратить в пьедестал для группировок, построив на этом плане "сцену-рельеф", если, наконец, задний проспект, помещенный в глубине, подчинить исключительно живописной задаче, создав из него выгодный фон для человеческих тел и их движений,- то недостатки ренессансной сцены будут в достаточной мере смягчены.
Построение просцениума в Байрейте, значительно уступавшее тому, которое осуществлено Фуксом (Kunstlertheater), все же было отмечено Вагнером в том смысле, что фигуры на этом просцениуме представляются в увеличенном виде. Именно это обстоятельство - что фигуры вырастают - делает привлекательной "сцену-рельеф" для вагнеровских драм, и не потому, конечно, что мы хотим видеть перед собою гигантов, но потому, что пластическими становятся изломы тела отдельного лица и группировка ансамбля. Конструкция "сцены-рельефа" не самоцель, а лишь средство; целью является драматическое действие; оно возникает в воображении зрителя, которое обостряется благодаря ритмическим волнам телесных движений; волны же эти должны распространяться на пространстве, которое могло бы способствовать зрителю воспринимать линии движений, жестов, поз...
Раз сцена должна оберегать принцип движения тела в пространстве, она должна быть конструирована так, чтобы линии ритмических выявлений выступали отчетливо. Отсюда - все то, что служит пьедесталом актеру, все то, на что он облокачивается, с чем соприкасается - все скульптурно, а расплывчатость живописи отдана фону. Самая большая неприятность - сценический пол, его ровная плоскость. Как скульптор мнет глину, пусть так будет измят пол сцены и из широко раскинутого поля превратится в компактно собранный ряд плоскостей различных высот.
Изломаны линии.
Люди группируются изысканной волной и теснее.
Красиво легли светотени и сконцентрировались звуки.
Действие сведено на сцене к некоторому единству. Зрителю легче сочетать всех и все на сцене в красивую гармонию. Слушатель-зритель не разбрасывается в зрительном и слуховом впечатлениях. Такой прием, и только он, дает возможность подчеркнуть творческую особенность Вагнера, создавшего образы крупными штрихами, экспрессивно, с упрощенными контурами. Недаром Лиштанберже сравнивает фигуры Вагнера с фресками Пювиса де Шаванна.
Актер, фигура которого не расплылась в декоративных полотнах, теперь отодвинутых на задний план (Hintergrund), становится объектом внимания, как произведение искусства. И каждый жест актера, при задаче, чтобы он не отрывал публики от внимания, сосредоточенного на музыкальном рисунке, чтобы он всегда был полон значительности, становится экстрактнее; он прост, отчетлив, рельефен, ритмичен.
Работа художников при сценических постановках исчерпывается обыкновенно писанием проспектов и пратикаблей. А между тем важно создать гармонию между плоскостью, на которой движутся фигуры актеров, и их фигурами, а также между фигурами и тем, что написано на холстах. Художника занимает искание красок и линий в части целого (в декорациях), целое (весь антураж сцены) он предоставляет режиссеру. Но это непосильная задача для нехудожника, то есть режиссера без специальных знаний рисунка (приобретенных ли в классах живописи или добытых интуитивно). В режиссере должны творить скульптор и архитектор.
Считаю ценными строки Мориса Дени: "Я наблюдал, как он (речь идет о скульпторе Майоле) поочередно, почти систематически меняя круглые и цилиндрические формы, старался выполнить завет Энгра: "красивые формы - это плоскости с округлениями".
Режиссеру дана плоскость (пол сцены), в его распоряжение дано дерево, из которого надо, как это делает архитектор, создать необходимый запас "пратикаблей", дано тело человеческое (актер) и вот задача: скомбинировать все эти данные так, чтобы получилось гармонически цельное произведение искусства - сценическая картина. В методе работы режиссера большое приближение к архитектору, в методе актера полное совпадение со скульптором, ибо каждый жест актера, каждый поворот головы, каждое движение - суть формы и линии скульптурного портрета. Если бы архитекторы пригласили Майоля к сотрудничеству - разукрасить Дворцы Будущего статуями, никто не сумел бы, по мнению Мориса Дени, лучше Майоля дать своим статуям должное место, каковое надлежит иметь скульптуре в здании, чтобы оно не казалось загроможденным ею.
Чьей творческой идеей созданы сценические планы с их формой и красками? Идеей художника? Тогда он является здесь архитектором, ибо не только писал полотна, но еще и скомпоновал все пространство сцены в гармоническое целое. Этот архитектор должен призвать такого Майоля в лице актера, чтобы скульптура последнего (тело его) вдохнула в мертвые камни (пратикабли) жизнь, могучесть пьедестала, достойного поддерживать это великое изваяние живого, скованного ритмом тела.
"Как мало модных архитекторов, работа которых была бы достойна такого стиля, такого такта, как у Майоля!" - восклицает Морис Дени.
На сцене - наоборот. Уже есть "архитекторы", и как мало Майолей, то есть актеров-скульпторов. Архитекторы налицо в тех случаях, когда пространство сцены уготовано актеру как скульптурный пьедестал с живописным фоном. Архитекторами являются здесь или спевшиеся живописец и режиссер-архитектор, или художник, забравший в свои руки режиссера-нехудожника, совместивший в себе и режиссера, и архитектора, и скульптора, как Гордон Крэг, например. А где Майоли, актеры-скульпторы, которые знают секрет, как вдохнуть в мертвые камни жизнь и как влить в свое тело гармонию танца? Шаляпин, Ершов... И чьи еще прибавим имена? Сцена совсем еще не знает волшебства Майоля.
Когда актеры приступают к интерпретации образов Вагнера, пусть только не подумают учиться у немецких актеров-певцов. Вот что пишет о них Георг Фукс (пишет немец - тем ценнее!) в своей книге "Der Tanz": "To, что немец еще не сознал красоты человеческого тела, яснее всего обнаружилось здесь, где нестерпимо глядеть на смехотворнейшие его извращения: Зигфриґды с перетянутыми "пивными" животами, Зигмунды с колбасо-образными затянутыми в трико ногами, Валькирии, которые, кажется, свободное свое время проводят в мюнхенских пивных за тарелкой дымящейся печенки и кружкой пенящегося пива, Изольды, вся цель которых в качестве балаганных великанш действовать с неотразимою притягательностью на воображение приказчиков из мясных лавок".
IV
Еще в сороковых годах Вагнер, ища на "страницах великой книги истории" какое-нибудь драматическое событие, нападает на эпизоды завоевания королевства Сицилии Манфредом, сыном императора Фридриха II. Вагнер видел когда-то гравюру, изображающую Фридриха II среди полуарабского двора с танцующими арабскими женами. Эта гравюра помогла ему скомпоновать удивительную по страсти и блеску драматическую концепцию, но Вагнер отказывается от этого эскиза только потому, что проектируемая драма показалась ему "сверкающей переливами, пышной историко-поэтической тканью, скрывающей от него, как бы под великолепной одеждой, стройную человеческую форму, которая только одна могла очаровать его зрение" (Лиштанберже).
Вагнер отвергал исторические сюжеты; по мнению его, пьесы не должны быть отдельным, индивидуальным созданием субъективного поэта, который по-своему распоряжается с имеющимся в его руках материалом; он хочет, чтобы они возможно более носили на себе отпечаток необходимости, чем и отличаются произведения, вышедшие из народного предания.
И вот Вагнер, отвергнув исторические сюжеты, отныне обращается только к мифам. Лиштанберже так изложил мысли Вагнера о преимуществе мифа над историческим сюжетом: "Мифы не носят на себе клейма строго определенной исторической эпохи; дела, о которых они повествуют, совершаются где-то очень далеко, в умершем прошлом, герои, которых они воспевают, слишком просты и легки для изображения на сцене, они живут уже в воображении народа, который создал их, и достаточно несколько определенных штрихов, чтобы вызвать их; их чувствования - произвольные элементарные эмоции, искони волновавшие человеческое сердце; это все - души совсем юные, примитивные, носящие в самих себе принцип действия, у которых нет ни наследственных предрассудков, ни условных мнений. Вот какие герои, какие повествования годятся для драматургов".
Художник и режиссер, приступая к инсценировке того или иного драматического произведения, непременно должны считаться с тем, что лежит в основе инсценируемой драмы - исторический сюжет или миф, так как инсценировки двух пьес - исторической и мифотворческой окраски - должны, конечно, резко отличаться друг от друга по тону. Если между исторической пьесой на сцене и исторической комнатой в музее должна лежать пропасть, - еще большая пропасть должна лежать между пьесой исторического сюжета и пьесой-мифом.
Байрейтский авторитет образцом вагнеровских инсценировок закрепил манеру придавать внешнему облику драм Вагнера общетеатральный вид так называемых исторических пьес. И эти металлические шлемы и щиты, блестящие, как самовары, и эти гремящие кольчуги, и эти гримы, напоминающие героев исторических хроник Шекспира, и эти шкуры в костюмах и в обстановке, и эти голые руки у актрис и актеров... И когда скучный, отнюдь не таинственный и не загадочный, бесколоритный фон историзма, влекущего зрителя разгадать, в какой стране и в каком году какого века происходит действие, соприкасается с музыкальной живописью оркестра, окутанной дымкой сказочности,- вагнеровские постановки заставляют слушать музыку, не смотря на сцену. Не оттого ли Вагнер, как рассказывают его интимные друзья, во время представлений в Байрейте подходил к знакомым и своими руками закрывал им глаза, чтобы они полнее могли отдаться чарам чистой симфонии.
Вагнер указывает на то, что кубок в его драме подобен факелу Эрота у древних эллинов. Нас интересует в этом указании не то, что композитор подчеркивает в этом факеле глубоко символическое значение. Кто может не догадаться об этом? Нас интересует в этом намеке интуитивная забота Вагнера создать такую атмосферу целого, чтобы и факел, и колдовство матери Изольды, и коварные проделки Мелота, и золотой кубок, наполненный любовным зельем, и многое другое звучало убедительно со сцены, чтобы все это не казалось собранием банальных оперных атрибутов.
Несмотря на то, что Вагнер "вполне сознательно" погружался только в глубины душевного мира своих героев, несмотря на то, что он все свое внимание фиксировал лишь на психологической стороне мифа,- художник и режиссер, приступая к инсценированию "Тристана и Изольды", должны непременно заботиться о выявлении такого тона постановки, чтобы не пропал сказочный элемент пьесы, чтобы зритель непременно перенесся в атмосферу среды. Это ничуть не может помешать основной задаче Вагнера - выделить из легенды моральный элемент ее. А как среда далеко не вся отражена в предметах быта и более всего отражена в ритме языка поэтов, в красках и линиях мастеров кисти, художник вступает на сцену прежде всего затем, чтобы, приготовив сказочґый фон, любовно нарядить действующих лиц в ткани, созданные лишь его фантазией, в такие ткани, красочные пятна которых могли бы напомнить нам истлевающие страницы старых фолианґтов. И как Джотто, Мемлинг, Брейгель, Фукэ способны ввести нас в атмосферу эпохи больше, чем историк, так художник, из фантазии своей выхвативший все эти наряды и аксессуары, заставит нас поверить в то, что все это так и было когда-то, гораздо убедительнее, чем тот, кто захотел бы повторить на сцене одежды и бутафорию музейных комнат.
Некоторые биографы Вагнера подчеркивают то обстоятельство, что на молодого Рихарда не могли не оказать влияния те уроки рисования, которые старался преподать ему его отчим Гейер. Будто под влиянием этих занятий по рисованию и живописи развилось у Вагнера воображение художника. "Каждое действие воплощается у него в ряд грандиознейших картин". Прием гостей в зале Вартбурга, появление и отъезд Лоэнгрина в лодке, везомой лебедем, игра трех дочерей Рейна в речной глубине... все это картины, "которым нет до сих пор равных в искусстве".
Гейер, как художник, был специалистом всего лишь по портретам, но не надо забывать, что он вместе с тем был и комедиантом. Актерами были и брат и сестра Вагнера. Вагнер посещал, конечно, спектакли и с участием Гейера и с участием брата и сестры. И вот скорее кулисы, в которых толкался молодой Вагнер, могли повлиять на богатое декоративными замыслами воображение его. В отъезде Лоэнгрина в лодке, везомой лебедем, я бы не стал видеть картин, "которым нет до сих пор равных в искусстве", я бы сказал скорее, что на "их лежит отпечаток кулис провинциального немецкого города среднего вкуса.
Художник Ансельм Фейербах оставил нам такие строки о соґвременном Вагнеру театре: "Я ненавижу современный театр, так как глаза у меня зорки и я не могу не видеть всей этой мишуры бутафории и мазни грима. От глубины души ненавижу я утрировку в области декоративного искусства. Она развращает публику, разгоняет последние остатки чувства прекрасного и поддерживает варварские вкусы; искусство отвращается от такого театра и отрясает прах от ног своих".
Талант "фрескового живописца", приписываемый Вагнеру многими, можно оспаривать, стоит только поглубже вникнуть в ремарки композитора, которые обнаруживают, что Вагнер был больше творцом слуха, чем творцом глаза. "Сущность немецкого духа в том, что он созидает изнутри: подлинно вечный бог живет в нем даже раньше, чем он воздвигает храм своей славы" (Вагнер).
Драмы Вагнера, построенные изнутри, взяли от "вечного бога" его вдохновений лучшие соки для того внутреннего, что лежит в музыке и слове, слитых воедино в партитуре. Внешнее его драм, что зовется формой произведения (в данном случае я говорю о сценической концепции его драм для инсценировки), осталось обиженным богом его вдохновений. Бёклин никак не мог сговориться с Вагнером по вопросу о постановке "Кольца Нибелунга" и кончил тем, что дал ему один лишь эскиз грима Фафнера.
Вагнер, потребовавший для своих Buhnenfestspiele театра новой архитектуры, углубил оркестр, сделав его невидимым, самую же сцену принял такой, как она технически несовершенна была до него. Ремарки автора зависят от уровня сценической техники того времени, когда пишется пьеса. Изменилась техника сцены, и ремарки автора должны быть рассматриваемы лишь сквозь призму современной сценической техники.
Художник и режиссер, приступающие к инсценировке "Тристана", пусть подслушают мотивы для своих картин в оркестре. Как своеобразен колорит средневековья и в песенке Курвенала, и в возгласах хора матросов, и в таинственном лейтмотиве смерти, и в фанфарах охотничьих рогов, и в фанфарах Марка, когда он встречает корабль Тристана, везущего к нему Изольду. Рядом с этим так ли уж ценны Вагнеру и традиционное оперное ложе, на котором должна возлежать Изольда в первом акте, и традиционное ложе для умирающего Тристана в третьем акте, и эта "цветочная скамья", на которую Тристан должен усадить Изольду в интермеццо любовного дуэта. А этот сад второго акта, где шелест листвы, сливающийся с звуком рогов, так поразительно иллюстрирован в оркестре. Замыслить изобразить эту листву на сцене было бы такой же вопиющей безвкусицей, как проиллюстрировать страницы Эдгара По. Наш художник дает во втором акте одну громадную уходящую ввысь стену замка, на фоне которой в самом центре сцены горит играющий столь важную роль в драме мистический факел.
О "Лагере Валленштейна" (Шиллера) К. Иммерман писал так: "В постановках таких пьес вся суть в том, чтобы так проэксплуатировать фантазию зрителя, чтобы он поверил в то, чего нет". Можно загромоздить огромную сцену всевозможными подробностями и все-таки не поверить, что перед вами корабль. О, какая трудная задача изобразить на сцене палубу движущегося корабля! Пусть один только парус, закрывающий всю сцену, построит корабль лишь в воображении зрителя. "Немногим сказать много - вот в чем суть. Мудрейшая экономия при огромном богатстве - это у художника все. Японцы рисуют одну расцветшую ветку и это вся весна. У нас рисуют всю весну и это даже не расцветшая ветка!".
Третий акт, где, по Вагнеру, сцена загромождена и высокими замковыми постройками, и бруствером с дозорной вышкой посредине, и воротами замка в глубине сцены, и развесистой липой, у нашего художника выражен лишь унылым простором горизонта и печальными голыми скалами Бретани.
* ** *** Вниманию желающих ближе познакомиться с литературой вопросов, затронутых в данной статье:
1) Richard Wagner, "Gesammelte Sehriften und Dich-tungen", Leipzig, Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann), 4. Auflage. (В моей статье Вагнер цитирован в переводах: А. П. Коптяева - "Русская музыкальная газета", 1897-1898, К. А. Сюннерберга (его же переводы цитат из Фукса и Фейербаха), Вс. Мейерхольда).
2) "Nachgelassene Schriften und Dichtungen von R. Wagner", Verlag V. Breitkopf und Hartel, Leipzig, 1902. 3) Adoliphe Appia, "Die Musik und die Inszenierung", Verlagsanstalt F. Bruckmann, Munchen, 1899.
4) А. Лиштанберже, "Р. Вагнер как поэт и мыслитель", перевод С. Соловьева.
5) G. Fuchs, "Revolution des Theaters", bei G. Miiller, Munchen-Leipzig, 1909.
6) G. Fuchs, "Der Tanz. Flugblatter fur kunstlerische Kultur", Strecker und Schroґder, Stuttgart, 1906.
7) С Hagemann, "Oper und Szene", Verlag Schuster und Loeffler, Berlin - Leipzig, 1905.
8) J. Savjts, "Von der Absicht des Dramas", Verlag Etzold, Munchen, 1908.
9) "Japans Buhnenkunst und ihre Entwickelung" von A. Fischer, "Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte", Jamjar 1901.
10) "Kunstler-Monographien von Knackfuss", XXXVIII, Schinkel.
11) Dr. Th. Les-sing, "Theater-Seele", Verlag von Priber und Lammers, Berlin, 1907.
12) Houston Stewart Chamberlain, "Richard Wagner", F. Bruckmann, 4. Auflage, Munchen, 1907.
13) Maurice Denis, "Aristide Maillol", "Kunst und Kunstler", Almanach, Verґlag Bruno Cassirer, Berlin, 1909.
14) Wolfgang Golther, "Tristan und Isolde", Verlag von S. Hirzei, Leipzig, 1907.
15) G. Craig, "The Art of the Theatre".
16) Max. Littmann, "Das Miinchener Kunstlertheater", Verlag L. Werner, 1908.
17) C. Immermann's Reisejournal, Ausgabe Botberger, Berlin, bei Hempel, 2. Buch, Brief 11 [131]
Александр Бенуа. Отрывки из воспоминаний
Книга третья. С.593. М., "Наука", 1980.
Я только что упомянул о том, что в эту эпоху переживал бешеный (или буйный) период своего увлечения Вагнером. Возникло это увлечение как-то сразу и под действием тех впечатлений, которые я получил от тех спектаклей, на которых я сподобился присутствовать во время Великого поста 1889 г. в Мариинском театре, где тетралогия “Нибелунгов” исполнялась полностью первоклассными немецкими артистами в составе антрепризы Неймана и под управлением первоклассного дирижера Карла Мука. Нейман ручался, что его спектакли в точности воспроизводят байрейтские постановки, еще самим Вагнером установленные, и эта верность Байрейту сказывалась даже в том, что начало каждого действия возвещалось фанфарами со сцены и в фойе и что театр погружался в темноту перед тем, чтобы раздвинулся занавес, а опоздавших в зрительный зал не пускали. Эти новшества возбуждали едва ли не больше толков, нежели самые представления в целом.
Что касается меня, то я прозевал момент, когда можно было абонироваться на один из четырех циклов, а когда я спохватился, то оказалось поздно — несмотря на весьма высокие цены, все до последнего места было разобрано. Выручил милый друг дома В. С. Россоловский, который, несмотря на свою германофобию (чисто “нововременской” окраски), запасся местом в двух абонементах. Увидев мое горе, добряк Зозо уступил одно из этих двух мест, но то было не в первом, а в четвертом, последнем абонементе. Такое запоздание имело свою хорошую сторону. За время, пока шли первые циклы, Альбер, побывав на двух из них, запомнил все главные лейтмотивы и все самое характерное в приемах Вагнера. Теперь в его импровизации вплетались и эти новые для меня элементы, а то в вольной передаче он воспроизводил целые сцены: лесной шум, шествие богов к Валгалле, полет валькирий, Feuerzauber, пение рейнских наяд и т. д. Слушая чуть ли не каждый день игру брата, я запомнил как отдельные фразы, так и целые куски, и это мне затем помогло лучше усвоить то, что меня особенно поразило в оркестре и в пении. Когда же занавес в последний раз опустился после пожара Валгаллы в “Гибели богов”, я чуть что не плакал, сознавая, что теперь я надолго окажусь лишенным тех потрясавших все мое существо наслаждений, которым я отдавался в течение четырех незабываемых вечеров моего первого знакомства с “Ring”'oм.
Наступило это “неописуемое наслаждение” с самого момента, когда загудела чудесная квинта, с которой начинается "Rheingold", и когда потекли арпеджии, так изумительно передающие ровное, “вечное” течение Рейна. И как раз случилось нечто, что, хотя и явилось минутным нарушением нужного настроения, вызываемого музыкой, однако все же усугубило то состояние какого-то мистического радения, которое овладело мной и значительной частью публики. Еще не кончились переливы, как вдруг откуда-то с галерки раздался неистовый на весь зал вопль. Кто-то не выдержал, с кем-то сделался припадок кликушеской истерики. И вот что курьезно — с тех пор каждый раз, когда я слышал музыку “Золота Рейна”, я как-то ждал повторения того же не предвиденного автором добавления к его партитуре.
Всего в подробности я не стану описывать. Скажу только, что по-настоящему восторг мой был вызываем только оркестром и (в меньшей степени) пением, но вовсе не зрелищем. Таковое было вполне доброкачественно с технической стороны и, может быть, оно вполне отвечало требованиям Вагнера — тому, что показывали с самых его дней в Байрейте, но оно нисколько не соответствовало моим ожиданиям, о чем, казалось мне, так ясно и определенно говорит музыка. Что же касается этого вопроса — насколько эта постановка удовлетворила бы Вагнера, то на это не следовало бы вообще обращать особое внимание. Весьма возможно, что сам гениальный в музыке Рихард плохо разбирался в пластических художествах. Ведь и его венценосный поклонник король Людвиг II Баварский был весьма безвкусным человеком, доказательством чего служат его замки и дворцы, на которые истрачено столько миллионов и положено столько труда и старания. Дивно чувствовал Вагнер природу—и дремучий лес, в котором живет змей Фафнер, и прекрасную дикость рейнских берегов и т. д., и все же он мирился с тем, что по его заказу сочиняли профессиональные декораторы и что было выдержано в духе банального “академического романтизма”.
Не более отрадное впечатление производили действующие лица. Слушать иных было приятно, но видеть их всех было тяжело. Разве не ужас эти “пивные бочки” с подвешенными бородищами и с рогатыми шлемами на головах? И это должно представлять Зигмунда, Гундинга, Гунтера! Разве этот клоун с рыжим вихром на голове может сойти за бога огня Логе? Разве этих полногрудых с перетянутыми талиями и с выпяченными бедрами дам можно принять за Фрейю, Зиглинду, Брунгильду, за дочерей Рейна? Тогда же я возмечтал создать идеальную вагнеровскую постановку, однако когда мне эта задача выдалась (в 1902 г.), то меня самого не удовлетворило то, что мной было измышлено! Правда, кое-что мне удалось сочинить как-то “ближе к музыке”, к тому, что навевает музыка, и, во всяком случае, эти мои сценические картины были поэтичнее того, что мы увидали в Петербурге в 1889 г., или того, что я видел на разных немецких сценах, которые “оставались верными байрейтским традициям”, но все же это “было не то”. Гораздо ближе удалось подойти к Вагнеру моему сыну в его вагнеровских постановках в Милане и в Риме.
Запоздалое мое знакомство с Вагнером в 1889 г. совершенно переработало мой музыкальный вкус. Я пробовал воспроизводить на рояле запомнившиеся фрагменты “Нибелунгов”, но эти намеки и сувениры только меня раздражали своим любительским убожеством. Самому же разбирать клавиры, которыми я тогда обзавелся, мне. музыкально безграмотному, было не по силам. Тут очень пригодились друзья Валечка Нувель и Митя Пыпин. Хоть и они были неважными пианистами, однако читать с листа они умели довольно бегло. Они проигрывали мне то, что меня особенно пленило, по чем я с ума сходил, а я вслушивался и многое усваивал почти дословно. Кое-что после того мы играли в четыре руки. Бывало и так—Валечка сидел за роялем, я за фисгармонией. Выходило эффектно, но... и окончательно огорчительно для моего папочки, так как он эту “музыку будущего” никак не мог принять к сердцу и... к уху!
И до чего же я тогда одурел в своем восхищении от Вагнера! Еще самой ранней весной я перебрался на дачу к брату Альберу (благо в тот год мне не надо было думать об экзаменах), и там я целыми днями бродил в одиночестве по мшистым болотистым местам, расположенным вокруг Петергофа и Ораниенбаума, вдыхая таинственные запахи оживающей природы, распускающихся березок и влажной зелени, распевая про себя или во все горло темы из “Валькирии” и “Зигфрида”. Моментами при этом меня одолевала тоска, что все это я теперь испытываю один и без той прелестной подруги, с которой я привык делиться всеми своими увлечениями... и с которой, мне казалось, я расстался навсегда... Зато когда наш роман (через два года) возобновился,— с какой радостью я втянул и Атю в новооткрытый мной мир. Она же умела прекрасно разбирать и проигрывала мне и самые трудные места вагнеровских опер.
Книга четвертая. С. 369.
“Гибелью богов” я занялся с самой весны 1902 г., еще до переезда (в Павловск) на дачу. По условию с Дирекцией я являлся полным хозяином постановки, иначе говоря, мне была целиком и бесконтрольно поручена выработка режиссуры, вследствие чего я и не входил ни в какие предварительные совещания с кем бы то ни было — кроме как с главным машинистом Бергером, ведь от машиниста в вагнеровских операх столь многое зависит. Особенно озабочивал меня пол; этот банальный, плоский театральный паркет, который особенно мешает всякой иллюзии в “воссоздании природы”. После многих опытов мне, наконец, удалось создать модель “скалистой поверхности”, и я особенно был доволен тем, что придумал целую систему, как посредством не особенно сложных перегруппировок этих масс они могли бы служить не только в I и в III картинах, но и во всех остальных. Что же касается до самого писания декораций, то я не отважился, несмотря на убеждения Теляковского, взять эту работу на себя (я не имел еще тогда никакого опыта), а настоял на том, чтобы мои декорации были написаны Коровиным. С ним я успел договориться обо всем, и он заверил меня, что относится к задаче с величайшим вниманием и даже с пиететом: “Тебе, Шура,—говорил он мне,—и в Москву нечего приезжать, мы все напишем тютелька в тютельку по твоим эскизам и прямо доставим к сроку в Петербург”.
Возможно, что при этом он был совершенно искренен; в тот момент ему действительно хотелось угодить другу. Когда же до дела дошло, то получилось несколько иначе. Набрав, кроме того, кучу работы и для Москвы и для Петербурга, Коровин не только сам не успел дотронуться до моих холстов, но едва дал себе труд следить за тем, как исполняют декорации “Гибели богов”. В результате такой “беспризорности” получилось нечто весьма огорчительное — и мне пришлось сразу же обратиться к директору с просьбой дать мне возможность самые грубые недочеты исправить.
Однако недовольство Коровиным было одно, а мое недовольство самим собой — другое и чем-то более серьезного характера. Дягилев написал в “Мире искусства” о моей постановке довольно строгую критику и на сей раз это его мало дружественное выступление я ощутил с особой горечью, так как и сам остался далеко не довольным собой. Главное, чего мне не удалось добиться,— это объединяющего стиля. Получившийся у меня общий характер постановки, правда, несравненно лучше подходил к духу вагнеровской музыки, чем то, что я видел в Германии и в Париже, но вот в этом моем ансамбле было слишком много мелких ненужных подробностей, тогда как я сам сознавал, что здесь требуется величайшая простота. Согласен я был с Дягилевым и в том, что моя постановка получила слишком реалистический оттенок.
Кое-чем, впрочем, я был все же и доволен. Больше всего я угодил себе в Зале Гибихунгов. В виденных мной (и считавшихся образцовыми) постановках в Франкфурте, в Мюнхене этот зал имел просто смешной вид. Не только ничего убедительного не получалось там из старания профессиональных декораторов создать первобытные, грозные и все же царственные чертоги, но и в чисто археологическом смысле эти измышления выказывали ужасное невежество. Напротив, мне кажется, что моя зала вышла и жуткой, и грандиозной и убедительной в своей первобытности. В этих хоромах, состоящих из массивных каменных глыб, поддерживающих сложный переплет темных от древности стропил, покрытых загадочной резьбой, только и могли жить такие дикие, но в своей символичности грандиозные существа, как Гунтер, Гудруна и Хаген. Каждый раз на спектаклях я и получал “лестное для себя” ощущение чего-то подлинного, когда занавес после музыкального антракта снова взвивался.
Вспоминается по поводу постановки “Гибели богов” еще один курьезный случай. На одной из последних репетиций (и уже тогда, когда действие разыгрывалось в декорациях, но все еще не в костюмах), театр посетил Теляковский. Увидав на авансцене рояль, он сел за него и с большой бравурой заиграл вальс собственного изобретения (тут же импровизируя) — на темы вагнеровского “Кольца”. О, как я и как Феликс Блуменфельд, мы были шокированы такой бестактной шуткой! Даже ненавистник Вагнера Э. Ф. Направник обиделся за непризнаваемого им бога. Между тем наш солдафон-директор пустился на такую неуместную шутку, наивно воображая, что он этим оживит атмосферу и придаст всем бодрости. Полный добрых намерений, но лишенный душевной тонкости — таков был весь Владимир Аркадьевич.
Как к священнодействию относилась зато к своей роли Фелия Литвин, незадолго до спектакля прибывшая прямо из Парижа. Однако, увы, как раз она причинила мне лично наибольшее огорчение. Началось с того, что она отказалась надеть мой костюм, над сочинением которого я так бился — в поисках чего-либо, что скрадывало бы ее чрезмерную полноту. Бедняжка не понимала, что в этом "ночном пеньюаре, в котором она привыкла выступать, да еще с треном и "с талией в рюмочку" (из-за чего ее могучая грудь вздымалась под самый подбородок) она была просто карикатурно смешна ".
Но история с неприятием костюма повредила только ей, другое же требование Литвин искалечило мою декорацию — ту самую декорацию первого акта, в которой мне особенно хотелось уйти от шаблона и создать нечто действительно соответствующее действию и музыке. Мне казалось особенно важным, чтобы Брунгильда с Зигфридом при первых лучах восходящего солнца выступали из темных недр, служащих им обиталищем ровно посреди картины. Я был убежден, что обданное ярким светом и окруженное темной массой священного бора — все в целом получит особенно ликующий торжественный характер (что так удивительно выражено в музыке). Но увидев декорацию на сцене, мировая знаменитость чуть что не впала в истерику и решительнно объявила, что она не будет петь, если ее выход не останется, по традиции—из правой (от зрителей) кулисы. Я было заупрямился и отказался вносить какие-либо изменения в свое создание, но перепуганный Теляковский (день премьеры был уже назначен, и на ней должна была быть вся царская фамилия) так взмолился, так долго меня уламывал, что я уступил и тем самым буквально “зарезал” свою картину. Пришлось в три дня переиначить весь фон и вместо скалистой стены с пещерой открыть дальний вид на соседние возвышенности, а пещеру втиснуть на самом первом плане.
Еще одну дискуссию мне пришлось выдержать со Славиной, исполнявшей роль валькирии Вальтрауты. Для нее я придумал, как для вестницы грозящих бед, воинственный, но необычайно мрачный костюм. Длинная юбка была раздвоена спереди (как бы для верховой езды) и развевалась во время ходьбы, открывая ноги, одетые в красное с чешуйчатым рисунком трико; при этом черный плащ, броня темной стали и на голове черный шлем с огромными вороньими крыльями. Все это очень шло красивой, тогда еще пленявшей своей молодостью артистке. Но вот товарищи и особенно товарки уверили Славину, что она в этом костюме с раздвоенной юбкой смешна и что к тому же такой образ валькирии противоречит (все той же пресловутой) традиции. Немало пришлось мне положить труда, чтобы переубедить Марию Александровну, но в конце концов она отважилась сделать опыт и вышла из испытания победительницей. Все наперерыв ею восхищались в этой роли, и она сама сочла нужным выразить мне благодарность за мое упорство.
Вполне удачным вышло все, что следует после сцены убиения Зигфрида; все это вполне соответствовало моему замыслу. С самого момента, когда герой испускает дух, сцена заволакивалась идущим от Рейна туманом, вследствие чего стволы и осенняя листва деревьев и самых человеческих фигур теряли свою отчетливость и получали какой-то призрачный характер, в то же время из-за лесистого противоположного берега выходила и тихо подымалась над горизонтом точно обагренная кровью луна. Охотники свиты Гунтера, положив тело Зигфрида на скрещенные копья, медленно направлялись с драгоценной ношей вверх по той самой тропе, на которой мы только что видели Зигфрида живым, весело беседующим с водяными девами. После знаменитого антракта, заполненного погребальным маршем, сцена прояснялась и мы снова видели палаты Гунтера особенно зловещими в ночном полумраке. И тут же они озарялись заревом, идущим от пылающих факелов в руках воинов, несущих тело убитого. Чтобы добиться именно того, чтобы эти факелы действительно пылали (и чтобы от них шел дым), мне стоило чрезвычайных усилий. Лишь после исполнения всяких антипожарных условий, среди коих была установка за кулисами целой системы помп и труб, брандмейстер согласился на столь вящие отступления от всех предписаний и правил. Зато эффект этого продвигающегося костра получился полный.
В конце декабря состоялся спектакль, “моя первая премьера” (я ни во что не ставил мое выступление с декорацией для оперы А. С. Танеева в Эрмитажном театре). Это был в полном смысле слова экзамен, который мной лично был выдержан. Полный успех выдался всему спектаклю, начиная с нашего божественного оркестра, кончая исполнителями главных ролей, которые все были задарены цветами и лаврами. Особенно хорош был тогда еще юный Ершов-Зигфрид. Досталось и на мою долю. Не только друзья меня наперехват поздравляли, но и люди совершенно незнакомые пробивались, чтобы мне сказать несколько восторженных слов. Эти излияния, лично меня касающиеся, происходили в толкотне разъезда, когда я пробирался по коридорам театра от сцены, где я простоял весь последний акт, к ложе в бель-этаже, где сидела с друзьями моя Анна Карловна. При этом я тащил колоссальный, с меня ростом, лавровый венок, полученный только что, когда я, вместе с артистами, раскланивался перед рукоплескавшей публикой. Венок был перевязан широкой алой лентой, пригодившейся затем для всяких детских нарядов, а лавры частью ушли на супы и соусы. Увы, этот венок так и остался единственным за всю мою театральную карьеру...
Б.Асафьев. Статьи о Вагнере
Борис Владимирович Аса́фьев (литературный псевдоним — Игорь Гле́бов) — русский советский композитор, музыковед, музыкальный критик, один из основоположников советского музыковедения. В 1918—1928 годов статьи Асафьева (под псевдонимом Игорь Глебов) регулярно появлялись в ведущих музыкальных изданиях того времени — «Музыка», «Музыкальный современник», «Жизнь искусства», «Красная газета». Здесь приводится несколько статей, посвященных постановкам опер Вагнера в Мариинском и Большом театре.
"Риенци"
Празднества шестой годовщины революции послужили на пользу музыке в театре, так как внесли струю оживления в застывший было, после смелого выступления с “Младой” и “Золотым петушком”, репертуар. Правда, оживление это не очень глубокого порядка — опере “Риенци” свыше 80-ти лет, а музыкальная ценность ее куда ниже появившегося в том же 1842 году “Руслана” Глинки, но все-таки ее появление в репертуаре уместно, необходимо и в некоторых отношениях ценно.
Опера эта, несмотря на устарелость материала, из которого она сплавлена,— насыщена юным задором, бодрыми призывами, силой внушения и ярким, вызывающим подъем героическим пафосом. Ценность ее — в свежести контрастов: того, что можно назвать семенами будущих пышных всходов вагнеровской мысли, с тем, что уже было разработано на германской почве Вебером, а вовне — Спонтини и Мейербером: и все время слышно, как Вагнер хочет почерпнуть воды из живительного источника — народной песни, но пользуется для этого веберовскими реминисценциями; как он пытается выразить величие духа и силу волевого устремления своего героя через величавые жесты спонтиниевского empire'а и театральную фразеологию Мейербера: присутствие воздействия последнего все-таки ощущается, но скорее в характере и манере ведения действия, чем в самой музыке.
Трудно назвать иное произведение, в котором так ясны были бы следы влияний и корни произрастания и в котором в то же время так явно чувствовалось бы приближение великого нового завета. В самом деле, стиль Спонтини — отголосок величавых тенденций империи Наполеона — весьма подходит к преломлению в нем замыслов римлянина Риенци; наоборот, стиль Мейербера — как я уже сказал — театральная фразеология июльской монархии дает зрелищу лишь видимую пышность, убедительность и драматический интерес. Что остается на долю Вагнера? Один ответ — все, потому что в неуловимых словами приемах и характере всей концепции, в свойствах звучания, даже в некоторой провинциальной (в сравнении с мастерами тогдашнего Парижа) неуклюжести развития мысли, в динамике и в ритмике, в поворотах мелодической линии, в очертаниях будущих вагнеровских тем, в звуковой насыщенности и напыщенности, даже можно сказать, в “милитаристической” окраске музыки, в ее “фанфарности и герольдичности” (вернее, декларативности) слышен несомненный Вагнер, но Вагнер — бурш, забияка, еще далекий от эротического опьянения “Тристана” (в “Риенци” нет любовных тем, хотя по сюжету и есть любовная пара), от пессимизма Вотана, от могучей, мужественной, героической воли Зигфрида и от мудрых созерцаний и чисто человеческой чуткости Ганса Сакса.
“Риенци” — любопытная загадка; как гений, базируясь на отжившем и эстетически уже не ценном материале, находит неожиданно новые соотношения звучаний и заставляет слушателя подчиняться воздействию лишь намеков на будущее, причем воздействие это исходит не от красоты или новизны того, что звучит как некая данность, а от выразительности самого движения музыки, когда о ценности материала даже и думать не приходится. Еще характерная черта этой оперы — ее мелодический склад, отсутствие полифонических тенденций даже в ансамблях, которые, по существу, все малохарактерны и маловыразительны в силу отсутствия самостоятельности и упругости во взаимоотношении мелодических линий — того, что было у Моцарта и что потерял уже Вебер. В то же время мелодике “Риенци” многого недостает, чтобы приблизиться к чистоте, ясности и мягкости мелодической ткани в “Лоэнгрине”. В инструментовке “Риенци” “много шуму из ничего”, и потому, например, увертюра к этой опере не может идти в сравнение с увертюрой к “Тангейзеру”.
Но, повторяю, место в репертуаре театра для “Риенци” отведено по праву, и эта опера должна быть первой в ряду опер, утверждающих героический пафос и величие трагизма страстных помыслов человека. В строе музыки “Риенци” есть подъем, бодрость, уверенность, яркость театральных ситуаций и могучая вера в свободолюбивые лозунги, в торжество социальной справедливости, несмотря на ужас развязки.
Опера шла в первый раз в среду, 7 ноября, в парадный спектакль в день празднества Октябрьской революции. К оценке характера исполнения и постановки мне придется вернуться в ближайшем номере в своих “Музыкальных заметках”, так как на этой опере особенно показательно выделяются недостатки, побеждающие достоинства театра и делающие их порой едва заметными.
"Кольцо"
Показом “Золота Рейна” — прологом монументальной вагнеровской трагедии — ГОТОБ начинает осуществлять новую постановку “Кольца нибелунга” в плане критического усвоения художественного наследия прошлого. Никоим образом эта постановка не означает движения “назад к Вагнеру”, а тем более к вагнерианству и вагнерианцам прошлых дней.
“Кольцо” - вершина могучего творчества Вагнера, симфония, ставшая театром, гигантская по масштабам и форме, образно-философски развернутая то как простодушно наивная сказка, то как сложнейшая, интеллектуальная система идей, становящихся эмоциями, и эмоций, становящихся идеями.
В сравнении с “Тристаном”, утонченная эротика которого соблазнила остротой своих мелодий и гармоний музыкальный модернизм и декадентство всей второй половины XIX века, “Кольцо” устремлено вперед и своим содержанием и своей мощно-конструктивной фресковой композицией и своим материалом, наконец, своим могучим дыханием и ритмами океанских прилива-отлива. В технологии “Кольца” есть чему поучиться композитору, ищущему величавых средств воздействия.
В нем, в этом действе, вырастают и гибнут, созревают и уничтожаются образы-идеи, концентрирующие в себе основные, созидательные и разрушительные, движущие человеческую и мировую историю процессы. Вагнер организует эту борьбу действующих сил вокруг простейшего “эмоционального” узла, вокруг фактов грабежа и убийства, вызванных ростом собственнической техники, в свою очередь, обусловленной алчной страстью к золоту, как стимулу власти и обогащения.
Как утопист и анархо-индивидуалист, Вагнер противопоставляет этим хищническим тенденциям обобществляющую силу любви, которая у него постоянно “переливается” из чисто биологических представлений о совершенном, сильном и здоровом в своих первозданных инстинктах человеке, неведующем лжи, обмана, лести — подарков насильнической цивилизации — в альтруистические идеи о морально совершенном герое-искупителе.
Так светлый образ Зигфрида, зародившийся в Вагнере-энтузиасте революционно-утопических идей 1848 года (утопических — поскольку Вагнер-революционер не осознавал грядущей эры пролетариата) — в конце концов потерял свою реальность, свое полнокровное бытие в безжизненном Парсифале, со всеми окружающими его феодальными пережитками и образами-манекенами и куклами.
В сущности, трагическим исходом “Кольца”, “Гибели богов” вовсе не предполагается явление Парсифаля. В “Кольце” Вагнер смело и последовательно проводит мысль о том, что всякий абсолют, всякий бог — основной устой феодального мироощущения — “исчерпал себя”, завершил себя и подлежит гибели, наравне с сопутствующей богам, хотя и враждебной им эксплуататорской цивилизацией Альбериха, променявшего на золото и даруемое ему могущество творческие силы (любовь как источник жизни), но за этим трагическим сцепленном трех комплексов-образов—Вотан (и мир богов), Альберих с его вольными и невольными спутниками и Зигфрид — Вагнер не смог разглядеть вырастающей новой силы, нового класса, повой творческой идеологии грядущего мира. Вот отчего все мечты писателя Вагнера об идеальном переустройстве общества, искусства и театра повисли в воздухе, а в музыкальном творчестве выветрились в мертвящем сознание статическом действе о “светлом простеце” Парсифале.
Цель главных руководителей постановщиков “Золота Рейна” и ГОТОБе (дирижер Дранишников, художник Рабинович, режиссер Радлов) и заключается в том, чтобы сочетать все элементы, составляющие действие, не в механическом чередовании, а в органическом существовании, чтобы преодолеть во что бы то ни стало статичность вагнеровского театра, как этот театр понимался до сих нор.
Благодаря исключительной в своей простоте мысли и открытию изобретения художника И. М. Рабиновича, театр Вагнера впервые в своей истории становится на путь в полной мере органического синтеза элементов, организующих и раскрывающих содержание действия. Мысль Рабиновича — найти связь между симфонией оркестра и драматическим действием, как его подаст сцена, посредством включения в число соревнующихся в драме сил нового активного “персонажа” — света, не света, как освещающего декорацию, бутафорию и людей источника, а света — воздушно-красочной атмосферы, заполняющей сценическое пространство, насыщающей его, образующей его объем, связывающей в своей “переливчатой” игре светотеней и красок все предметы на сцепе.
Светокрасочная симфония возникает в инструментальной симфонии оркестра, она “дышит”, сортируется, развивается в смене светокрасочных нагнетаний и разрядов, сообразно динамике музыкальной партитуры. Ее стимул — оркестр, драматический оркестр Вагнера, с его органической системой лейтмотивов, являющихся действующими силами драмы, а не механическими символами. Музыка оркестра становится видимой благодаря этой светокрасочной, воздушной симфонизации сцены.
Актер-певец через насыщенность и через пульсацию светокраски, через ритм лучом, в свою очередь, включается в музыкальное развитие, потому что недостающее до сих пор в синтетическом действии звено оказывается налицо. Отсюда возникает возможность, погружая “объемы” в воздух различной светокрасочной насыщенности, придавать им различного характера “роль” и изменять их функции, сообразно ходу драмы.
Вагнеровские пейзажи, изобразительные страницы его музыки, раскрывающие жизнь леса, воды, облаков, горных вершин, получают в светокрасочной симфонии свое конкретно-зрительное воплощение: ведь сцена насыщена воздухом.
Включение светового симфонизма в постановку “Кольца” открывает новые широкие возможности перед театрализацией вагнеровских идей. Но изобретение Рабиновича несомненно даст блестящий повод к реализации мыслей Скрябина и включению светокрасочного симфонизма в области симфонической внетеатральной музыки.
Валькирия в Мариинском театре
Драматическая концепция “Валькирии” Вагнера открывает доступ в сферу божественных предопределений началу человечности, а вместе с тем и любви, и жалости, и беззаветной очищающей силе страданий. В прологе трилогии (“Золото Рейна”) алчное желание Альбериха нарушает равновесие мировых устоев. Предопределено и суждено, что золото, излучая власть и могущество, разрушит единство и целостность Бытия.
В “Валькирии” в борьбу божественного порядка со злом приходит Человек, а с ним, прежде всего, свободная воля, осмеливающаяся выступить против предопределений. Любовь, сострадание и беззаветный героизм — вот три элемента, из сплава которых рождается образ высшей человечности. Думается, что основная причина обаяния “Валькирии” кроется именно в этом привнесении человечности в мир абсолютного “должно быть”. С первого появления Зигмунда, с первых фраз его слушатель участливо внимает совершающемуся, так как нечто родное и дорогое нам провидится в отчаянной героической попытке прорваться сквозь дикий стон и бурный рев разыгравшейся стихии. Начальная сцена “Валькирии” сразу ставит перед зрителем вечно испытываемое соотношение сил: человек и стихия. Таково — вне самого сюжета, вне знания о предшествовавших событиях — первое получаемое впечатление впервые слушающего эту драму зрителя.
Следующая стадия — вступление начала женственного и вместе с ним сострадания (Зиглинда). Весна женственности— юная страстная любовь вспыхивает от соприкосновения страдания и сострадания. Вся первая половина первого акта “Валькирии” таит в себе, как основное задание: усугубить чувство сострадания к Зигмунду все более и более ясной обрисовкой его истинной человечности и описанием борьбы его со злыми умыслами “звериного” быта сородичей Хундинга. Предельный экстаз первого акта — яркий пламень возрождающей и силу вдувающей любви. Перед нами единый стройный образ спаянной любовью и состраданием пары людской: возродившийся Зигмунд и пробудившаяся к жизни женщина — Зиглинда.
Человек своей самостью нарушает предопределенное: вера в человечность, в мощь человека таится в мысли Вотана. Второй акт и развертывает потрясающую картину беспомощности абсолютного ведения и созерцания перед фактом живого подвига, живой борьбы: перед неодолимой силой чисто человеческого величия и человеческой любви Зигмунда склоняется непреложное божественное предустановленное посланничество и вестница Смерти (Брунгильда) желает стать защитницей жизни и человечности. Это центральный момент драмы и наивысшая точка подъема. Сохранить человека и все человеческое — таково отныне стремление дочери Вотана. Она инстинктивно чувствует свою правоту и гордо идет на борьбу с тем, что предопределено и что дано в условиях мирового порядка: боги свершают то, что должно быть, не будучи в состоянии изменить это то, и только человек смеет свершать свое. хотя бы ценой гибели.
Справедливость заставляет Вотана против воли потушить и заглушить растущую в мире власть человечности. Зигмунд гибнет, Валькирия, еще не став вполне девушкой-человеком, а лишь ощутив сладость сострадания, погружена в глубокий сон: за своеволие она скована, а добрый порыв на весах справедливости в счет не идет! Свершить подвиг (сохранить миру человека-героя) суждено женщине, ощутившей в себе инстинкт матери.
В третьем акте драмы величие женского страдания и любви раскрывается в потрясающей сцене передачи меча, когда Зиглинда от безнадежного отчаяния пробуждается под влиянием пылкой веры в человека, к героическому сознанию долга. В музыке этот момент гениально подчеркнут, прежде всего, самой ситуацией: на фоне холодного клича и бесстрастного мелькания стаи Валькирий остро вырезывается диалог двух женщин — поборниц прав человека и человечности. Гордое своеволие Брунгильды сильнее чувством горести подавленной души Зиглинды. Поэтому Брунгильда, как божество, становящееся женщиной и состраждущее человеку, внушает и заклинает, а Зиглинда пассивно оплодотворяется и впитывает в себя силу- сопротивления. И вдруг свершается чудо: в дивном мотиве искупления в голосе Зиглинды мощно звучит могучий, страстный обет женщины-матери, против которого бессильны будут все физические немощи и лишения. Так, сущность драматического действия “Валькирии” раскрывается в неудержимом потоке человечности, явленной в любви и сострадании. Образ Валькирии — дочери Божества, плененной красотой человеческого страдания — гениальнейшее создание творческой воли и силы творческого воображения.
Законченность драматического замысла “Валькирии” делает возможным постановку ее вне других частей трилогии. Но трудность воспроизведения от этого не уменьшается. Наоборот, необходимо создать в исполнении глубоко целостное и законченное впечатление, чтобы в душе слушателя не оставалось недоумения, какое вызывает любой отрывок.
В Мариинском театре в текущем сезоне “Валькирия” является первой вагнеровской оперой, но для сценического одухотворения ее ничего предпринято не было. Конечно, немыслимо думать теперь об изменениях в сфере декоративной, хотя картинность и словно с плохих иллюстраций немецких сказок заимствованная схематичность декораций и костюмов удручают взор. Но неприятнее всего промахи в освещении (яркий свет в начале третьего акта, после чего становится непонятным просветление неба в конце действия!) и отсутствие режиссерской руки. “Валькирия” просто не поставлена, а держится воспоминанием о том, что когда-то что-то было намечено так-то и так-то. Плюсов музыкальных, увы, также немного! Правда, играть “Валькирию” при отчаянно-холодной температуре подвиг для оркестра, но когда сама жизнь становится уже не чем-то обычно ощущаемым, а сплошным подвигом, где каждый миг — усилие, приходится волей-неволей считать тягостные условия за обязательно нормальные.
Иначе — не выжить! С точки зрения искусства гораздо важнее, чем преодоление холода, преодоление так называемой “халтуры”. И вот в этом отношении Мариинский театр пока может стоять вне упрека: в нем мыслимы еще спектакли, где зло это не дает себя чувствовать. Все-таки на первом представлении “Валькирии” в исполнении оркестра было что-то неустойчивое, неуверенное, а в звучности господствовала глухая серая пелена: звук истаивал, не успев разлиться. В темпах Купера слышалось утомление и преувеличенное оттягивание. В оркестре не развивалось драматическое действие.
На втором представлении все ожило и расцвело, но характерно, что человечность “Валькирии” в воспроизведении Купера еще не выкристаллизовалась. “Олимпийство” еще подавляет свет и тепло жизненности. Что касается артистов, то об ансамбле, за отсутствием ясно выраженной идеи воплощения оперы (режиссера нет!), говорить не приходится.
Безусловно, Ершов остается тем же продуманно ведущим свою роль артистом, и канонизованный им образ Зигмунда, на котором воспитались и к которому привыкли русские вагнеристы, продолжает трогать и волновать. Будущему исследователю “вагнеризма в России” не придется миновать великого имени первого русского Зигфрида, а мы, современники, выросшие на созерцании творчества Ершова, шаг за шагом преодолевавшего всевозможные сопротивления, не отвыкнем любить нашего Зигмунда и Зигфрида, также как он сам никогда не охладеет к Вагнеру. Нервно и порывисто лепит Ершов свои образы, экстатически влюбленный в материал — в музыку обожаемого им музыканта. Помнится, на спектаклях “Зигфрида” как солнце опалила эта пылкая влюбленность и приобщила к творчеству Вагнера новых и новых последователей. Мне мыслится, что Ершов—Зигмунд не менее значителен, чем Ершов—Зигфрид, и если мое толкование “Валькирии”, как трагедии человечности, имеет долю справедливости, то возникло оно всецело благодаря созерцанию в этой роли Ершова.
Образ Брунгильды несказанно труден для воплощения. Слить в единое непрерывное целое совершающееся в душе Брунгильды превращение ее из божества в человека — сложное и ответственное задание. Вагнер облегчает задание, привнося в действие прерыв — обморок Брунгильды после объявленного ей Вотаном приговора. Вслед за этим моментом человечность окончательно охватывает Брунгильду и ее речитативы (“разве постыдно дело мое”) становятся глубоко по-человечески трогательными и напряженными, как всегда трогает образ страждущего и сострадающего Божества. Артистку типично славянского облика, какой является Ермоленко-Южина, воплощение образа Валькирии должно привлекать и чаровать, но и затруднять, так как славянская мягкость, задушевность, простота и ласковость лишь постепенно вырисовываются в облике Брунгильды под влиянием пути, соделанного от сострадания к страданию. Суровая и властная Валькирия не сразу уступает веянию волны человечности и сперва скорее удивляется, чем сострадает. Поэтому толкование и воплощение Брунгильды, создаваемое Ермоленко-Южиной, оставаясь прекрасным в чисто вокальном и музыкальном отношении на всем протяжении оперы, становится сценически и драматически глубоко верным и особенно впечатляющим лишь с момента суда над ней и до погружения в сон.
На втором представлении “Валькирии” выделилась новая исполнительница партии Зиглинды — артистка Слободская. Я намеренно говорю партии, а не роли, потому что не могу принять и считать правильным воплощение Зиглинды в облике существа, исступленно нервного и истеричного. От весенней женственности к зрелому осознанию подвига женщины-матери течет жизнь Зиглинды. Это подъем неодолимой крутизны, и совершить его можно лишь при наличии силы воли и умении сковывать свои экспансивные порывы. В музыкальном отношении роль Зиглинды — сплошное crescendo от нежной женственности к героическому сосредоточению, то есть замысел, симметрично противоположный концепции роли Брунгильды. Точка соприкосновения их душ — момент передачи меча, после которого Зиглинда канонизируется в героиню, а Брунгильда почти разделяет участь Жанны д'Арк...
Надо думать, что артистка еще углубит и продумает сценически свою роль, но за пение, за музыкальность, за экспрессию, ритмику, словом, за все те качества, которые сулят в близком будущем при неустанной работе новые и новые успехи,— необходимо воздать должное признание теперь же.
Вагнер в новом оформлении (Большой театр).
Возобновление “Валькирии” Вагнера должно было дать один из возможных ответов на вопрос: как ставить и мыслимо ли ставить в условиях нашей современности “Кольцо нибелунга” (частями и целиком)?
Постановка вагнеровской трилогии — дело общественно важное и ответственное. Во-первых — вагнеровская музыка уже лежит в прошлом, и вагнеризм, как проблема, канул в вечность. Этим величие Вагнера нисколько не умаляется, но все же возникает ряд недоразумений: как быть с вагнеровской философией и идеологией, как примирить в современном театре эмоциональную динамику его музыки со сценической неподвижностью его действия и какими средствами воплотить на сцене вагнеровский симфонизм, воплотить так, чтобы гигантскому размаху музыкального действия и силе звучности вагнеровского оркестра отвечали бы соответствующие зрительные впечатления.
Одно ясно во всем этом: ставить Вагнера в наивном оформлении недавнего прошлого (соединение немецкой сказочной романтики и фееричности с непосредственными эмоциональными переживаниями) теперь уже немыслимо.
Театр должен либо найти путь к сценическому воплощению актуального вагнеровского симфонизма, либо совсем отказаться от Вагнера, тем более, что современная опера тоже от него отказалась и ищет новых форм. Но если все-таки ставить “Кольцо”, то при работе над трилогией целиком, конечно, необходимо позаботиться, чтобы конечная точка трагедии — “Гибель богов” — не превратилась бы в “Гибель божков” и чтобы космическая проблема не омещанилась.
Труднее всего, конечно, воплотить образ Вотана так, чтобы бог не показался безвольным и бессильным, запутавшимся в противоречиях, интеллигентом!..
Конечно, всю трилогию спасает только музыка в моменты ее наивысших эмоциональных подъемов, колоссальное симфоническое напряжение и грандиозный охват мыслью композитора явлений мира и душевной жизни человека в многообразной полноте и глубине их.
Я не знаю, является ли возобновление “Валькирии” в Большом театре началом возобновления всего цикла или это отдельная самостоятельная постановка, но тем самым трудность приближения к Вагнеру не изменяется по существу, а только несколько уменьшается. “Валькирия” соблазняет своей искренней задушевной эмоциональностью. Ее музыка воздействует как гипноз, зачаровывая. Тепло и ласково нега любовной лирики убаюкивает воображение слушателя, и кажется, что на долю постановщика тут и дела не остается. Публика уже привыкла к музыке “Валькирии” и слушает ее, как вообще слушает всякую оперу,— от любимого номера до еще более любимого. К ней приспособляется и ее уже знает новый слой слушателей.
Но, конечно, отправляясь от такого положения дела, к новому театральному оформлению Вагнера не прийти. И Московский Большой театр, соблазнившись “Валькирией”, ничего не достиг, кроме естественно присущей этому театру особенности: прекрасной звучности оркестра, благодаря которой уже одно пассивное слушание потока звуков вагнеровской музыки само по себе доставляет громадное наслаждение. Конечно, в таком случае достаточно концертно-симфонического воспроизведения.
Что же все-таки дает новое театральное оформление? Надоевшую конструкцию. На “космическом” фоне (смятенно движущиеся сумрачные, свинцовые облака, недвижная лазоревая даль или ночная синева со знамением “Кольца” на небе — смотря по ситуации) выделяются опущенные наискось, почти посредине сцены, сукна. Деревянный настил (подъем, гора) знаменует, вероятно, путь Зигмунда и Зиглинды вверх. Артисты и в особенности артистки забавно сходят, слезают, сбегают, влезают, иногда суетливо, словно боясь поскользнуться, иногда — с соблюдением полного достоинства. Мировая трагедия сильно смахивает на кукольную игру: наряженные куклы то выскакивают, то прячутся за настил, то философски спорят, то любовно воркуют. Все это мелко и буднично в театральном отношении. Особенно фальшиво построена сцена битвы Зигмунда и Хундинга: ни вежливо защищающая героя Брунгильда, ни пешеход — Вотан, смешной deux ех machina,— не вызывают своими действиями никакого впечатления. В былое время, на балаганах, сцены драки героев обставлялись куда убедительнее.
На всем протяжении “Валькирии”, когда бы ни взглянуть на сцену,— вспоминался Толстой с его описанием “Зигфрида”, и только зажмурив глаза и отдаваясь всецело музыке, можно было ощутить по-настоящему значение того или иного момента. Примитивизм построения и кукольная неубедительность явлений и выходов усугубляется еще одним существенным недостатком: отсутствием у исполнителей соответствующего вагнеровской музыке и заполняющего действие жеста. Наблюдая почти сплошные пластические провалы в московской трактовке “Валькирии”, еще больше научаешься ценить жест Ершова и присущее этому артисту глубокое, чуткое понимание вагнеровской пластики.
Кроме того, чисто музыкальная сторона исполнения страдает в Москве от неубедительной интонации артистов: нельзя сочувствовать неискреннему пафосу Вотана (Осипов — певец с коротким дыханием, без широкой фразы, с грубой форсированной декламацией) и бледным, лишенным героической дерзновенности и твердости, а в лирических моментах — нежности и мужественной горячности, выступлениям Зигмунда (Пумпянский — певец, не овладевший ни вагнеровским речитативом, ни вагнеровским мелосом; в голосе мало металла, мало силы, так что в напряженных местах было слышно тремолирование, а в мелодических фразах недоставало плавности и округлости звука). Лучшей исполнительницей во всем спектакле оказалась Держинская (Брунгильда), певшая выразительно и с красивой звучностью, сочно, тепло и вместе с тем ритмически ясно. Ансамбль “Валькирии” в третьем акте звучал нестройно, нечетко и ненасыщенно. Дирижер Пазовский не оправдал моих ожиданий: его темпы медлительны и на значительных протяжениях почти не дифференцируются, то есть не отличаются ни гибкостью, ни градацией нюансов. Фразировка вялая, тоже бедная оттенками, динамически бледная и лишенная мужественной акцентуации. Но,— как я уже говорил,— оркестр звучит восхитительно.
Наиболее театрально-интересной и наводящей на дальнейшие опыты стороной спектакля и вообще всей постановки “Валькирии” является свет, то есть попытка сценически оформить вагнеровский симфонизм путем смены оттенков освещения и различием светового напряжения. Ошибок и тут много: силе музыки часто не соответствует сила света, звук растет, а свет неподвижен. Непонятно, как и с чем связаны световые изменения: с чисто динамической стороной музыки, с эмоциональными подъемами и падениями или, наконец, с изобразительными стадиями действия. Вполне ли осознанно и последовательно применены эти опыты со светом или же все дело только в удачной, находчивой импровизации — сказать трудно. Во всяком случае, мне кажется, что использование света, как проводника вагнеровского симфонизма в зрительную сферу, является ценным подспорьем в проблеме сценического оформления “Кольца”.
Но все же вагнеровского театра в современном преломлении еще нет.
Мейстерзингеры в оперном твочестве Вагнера
В развитии творчества Вагнера работа над оперой “Мейстерзингеры” — крайне важный этап; можно сказать, что это было эпохой освобождения от мировоззренческого и творческого кризиса, обусловленного, конечно, не причинами личного порядка, но получившего глубоко личную окраску в силу островосприимчивой и чуткой индивидуальности композитора.
Показателем мировоззренческого кризиса является “Тристан и Изольда” (1859) — опера безусловно гениальная, но жуткая в своей основной тенденции: своего рода соревнование главных героев в бегстве от “дня к ночи”, от людей в интенсивно-личную любовную страсть, а от нее — в смерть, как в сознательное отречение от жизни. Ради создания “Тристана” Вагнер даже прервал работу над главным делом всей своей жизни — над гигантской эпопеей “Кольпо нибелунга”, прервал эту работу в самый значительный момент, среди высшего подъема и концентрации жизненных сил героя солнца, свободы и радости — Зигфрида.
Здесь не место говорить о причинах, вызвавших Вагнера на этот шаг. Но важно указать на существенное обстоятельство: “Тристан” оказался не тупиком в творчестве композитора, а колоссальным сдвигом, потому что как раз через концентрацию в этом произведении остро личных переживаний — испытаний, окутанным густым эротическим туманом, Вагнер, как творчески сильный организм, снова осознал необходимость иного пути. “Тристан” не триумф пессимизма и “шопенгауэровщины” (победу которой над Вагнером так усиленно старались догматизировать вагнерианцы), а решительный творческий шаг к избавлению от трагедии одиночества — к избавлению через объективное высказывание, через раскрытие — глубоко искреннее — тягостных противоречий в художественных образах.
Отсюда, несмотря, как казалось бы, на абсолютно бездейственный и созерцательный сюжет, в “Тристане” до сих пор поражает интенсивнейший рост и стремительность музыки: так не воспитывают в себе стремление к “нирване”, к “абсолютному покою”... Словом, будь “Тристан” конечным этапом Вагнера,— в музыке это оказалось бы безусловным преобладанием созерцательной “успокоенности и тихости”. На самом же деле здесь мы видим, как сильный художник-мыслитель выдвигает перед собою мучающую его проблему с тем, чтобы, осознав ее, ее опровергнуть. Но в искусстве одни размышления, остающиеся в собственной голове автора, ничего не решают. Только фактом, делом, произведением композитор может продвигаться в своем творчестве. И таким-то образом одно произведение вызывает собою противоположное ему, составляя вместе творчески познанную необходимость.
В соотношении с “Тристаном” — “Мейстерзингеры” особенно показательны, и вот почему приходится предварять слово о “Мейстерзингерах” словом о “Тристане”. В “Тристане” музыкальный язык Вагнера утончается и заостряется до крайне субъективной (по тому времени) мелодической и особенно гармонической изысканности. В сущности, это полное разложение “классической музыкальной речи”, как она сложилась на грани XVIII—XIX веков. Разложение это вовсе не означает конструктивного “расползания”. Наоборот, конструкция “Тристана” очень прочна и солидна. Это обстоятельство как нельзя лучше свидетельствует о том, что для Вагнера раскрытие даже психологически утонченнейшего содержания не было какой-то самомнящей исповедью, копанием в своем собственном “нутре”. Иначе говоря, тут перед нами композитор-мыслитель, а не стонущий и ноющий, экзальтированный, носящийся со своей собственной персоной дилетант.
Если теперь сделать скачок к “Мейстерзингерам” — то иное, новое качество этой оперы объясняется сразу. Бывший на грани перехода в творчество для себя и для немногих, уже коснувшись этого отрыва от социальных идей, Вагнер ступает в “Мейстерзингерах” на твердую почву быта и национальности. Его творчество вновь конкретизируется, становится полнокровным и сильно пульсирующим. Всякое отреченчество от мира “снимается”. Сюжет, по видимости, упрощается до своего рода бытового анекдота. Но тем более повышается оценка жизненных явлений. Вагнер любуется жизнью в ее простейших явлениях. Это не значит, что он распластался ниц перед обывательщиной. Ничего подобного в “Мейстерзингерах” нет.
В “Мейстерзингерах” Вагнер сумел бытовому благодушию и народническому угодничеству противопоставить иронию, столь мудрую и глубоко содержательную, что в ней и через нее все это произведение получило не только право на существование в Германии, как произведение бытово-национальное, но и перешло в новую стадию: за национальной одеждой раскрылось интернациональное содержание.
“Мейстерзингеры” сильны именно иронией сервантесовского плана. Ганс Сакс, конечно, центральный образ, и конечно — по всей ситуации — возрожденный Дон-Кихот, только обретший не благодушного, а ехидного Санчо в критике Бекмессера. Ключ к “Мейстерзингерам” безусловно в этом, потому что только отсюда и быт и все персонажи и все действие теряют свой якобы наивнобытовой или, наоборот, формально-буффонадный характер, получая иронически осмысленное существование.
Музыкальный язык “Мейстерзингеров” — полная противоположность “Тристану”. Чтобы не вдаваться в технические термины, можно сказать просто: в творчестве Вагнера “Мейстерзингеры” — своего рода критическое усвоение классического наследия с переключением этого наследия в современность (вагнеровскую), с соответствующим отбором и акцентами. Вагнер идет, конечно, не в XVI век, а в XVIII, но баховскую технику он усваивает, как синтез длительного развития германской полифонии, а не как технику только Баха. Но мало говорить о Бахе. В отношении “Мейстерзингеров” надо говорить и о Моцарте, потому что в фактуре “Мейстерзингеров” сплошь и рядом соседствуют и моцартовская “хватка быта”, и моцартовская психологическая утонченность и, что всего важнее,— моцартовская ирония наряду с нежным моцартовским мастерством.
Мейстерзингеры в Мариинском театре
В четверг, 20 марта, в Мариинском театре состоялось первое представление “Мейстерзингеров”.
Оперой дирижирует Коутс и импонирует большинству слушателей своими постоянными свойствами: темпераментом, увлечением и энергией. Но, если отбросить в сторону столь внешние, чисто дилетантские воздействия на толпу, то обнаружится вся непривлекательная сторона исполнения Коутса: преувеличенность и нарочитость динамических оттенков, отсутствие единого цельного ритмического замысла, обуславливающего все намерения дирижера, недостаток связующей логичности и непрерывности развития музыкальных мыслей.
Нельзя подходить к столь тематически спаянному и грандиозному по развитию лежащего в основании материала произведению, каковым являются “Мейстерзингеры”, с мелким чутьем всяких подчеркиваний, выделений, замедлений, ускорений, преувеличенных sforzando и pianissimo и прочих способов разработки отдельных долей, упуская из вида целое. Так исполнять — все равно, что проигрывать клавир, наслаждаясь каждым отдельным кусочком, забывая все, что предшествовало и что следует дальше. Тогда невольно останавливают на себе внимание те или иные случайно понравившиеся моменты, а прочее, требующее напряженного внимания, ускользает.
Особенно пострадали 1 и 2 акты, где почти все, начиная со вступления, взято в однообразно ускоренном темпе, среди которого мелькали случайные, не вытекающие из общего замысла, подчас грубые подчеркивания. И странно, что как раз те сценические положения, на которые сама музыка заставляет обратить внимание, где бы, казалось, и надо показать свое умение, искусно к ним подойти и рельефно выделить, проходили вяло, тускло и неубедительно: так, например, два появления ночного сторожа. В обоих случаях Коутс как-то смял переход и не задержал внимание слушателей па том, на чем следовало. Лучше обстояло дело в 3-м акте: чувствовалась разумная сдержанность и обдуманная фразировка, но вместе с тем и излишняя замедленность (напр., в антракте к 3 картине). Так как в руках Коутса прекрасный оркестр, то звучность, особенно в местах подъема и напряжения, была чрезвычайно величественна; очень мощно, полно и выразительно играли струнные, духовые — грубее, должно быть от усвоенной теперь привычки играть постоянно mezzo forte. Не избавился еще Коутс от некрасивой манеры подчеркивать и без того ощущаемую неслиянность основных групп оркестра упорным выделением меди, ударных, форсированием звука у деревянных. Нельзя также затушевывать фон до крайнего pianissimo, так как самостоятельные голоса при этом точно висят в воздухе без поддержки и назойливо щеголяют своими тембрами...
Полного одобрения заслуживает хор: даже в труднейшей сцене ссоры сохранялась четкость и ясность вступлений. Необычайно полно и могуче прозвучали первые аккорды хорала, заключающего вступление к опере и начинающего первый акт: из-за ff оркестра выросла почти неуступающая ему по силе и грандиозности, но более мягкая и бархатистая масса звуков. Точно также пленяла своей мощью звучность ансамблей в последней картине. Только военные трубачи на сцене портили впечатление своим грубым враньем, да дикие звуки колес передвигаемых повозок, придуманных режиссером, являли собою неудачное дополнение к задуманной Вагнером звуковой картине.
Из исполнителей сольных партий выделим Боссе (Сакс) и Лосева (Бекмессер). Больска (Ева) дала милый, задушевный и ласковый облик немецкой бюргерской девушки, искренней в своих порывах и чуть лукавой там, где дело идет о любви ее к рыцарю, но голос артистки, потускневший и потерявший гибкость, резко противоречил своим тембром жестам и позам молоденькой Fraulein. Опытность певицы отчасти спасала ее. Плох Ростовский (Вальтер). Это типичное воплощение старого знакомого оперного типа — Фауста. Слишком не вяжутся с замыслом Вагнера его походка, манеры, жесты, выражение лица и пение (притом еще голос его недостаточен для этой партии, и в последней картине у него совершенно не хватало силы). Такой певец никого не мог бы увлечь своим невдохновенным исполнением! Кроме того, пора бы перестать смотреть на рыцарей только как на досужих и бестолковых бойцов пли томных любовников и трактовать их в столь шаблонной и смешной манере. Недурно справился с ролью Давида Андреев II, чему способствовала ясная дикция этого артиста. Недостаточно типична Николаева в роли Магдалены. Хорошо исполняется чудесный квинтет в 1 картине 3-го акта, но зато ансамбли “мастеров пения” * звучали всюду слишком разноголосно, должно быть, вследствие непримиримой разнохарактерности тембров исполнителей. ..
Поставлена вся опера (режиссер Боголюбов) в тонах бытовой комедии с явным уклоном в сторону преобладания личных интересов и отношений действующих лиц над идеальной сущностью сюжета. Отсюда яркое противоречие: музыка постоянно и упорно твердит слушателям о чем-то несравненно более важном и глубоком, нежели то, в чем нас пытались убедить и уверить со сцены. И только один Боссе сумел в едином цельном характерном образе воплотить и Сакса-вдовца, сожалеющего о мелькнувшей перед ним и дразнящей мечты идиллического счастья с молодой женой возле уютного домашнего очага, и Сакса-поэта, слегка завидующего молодости и таланту рыцаря-соперника, которому не нужны цепи старых правил и законов, и Сакса-философа, представителя разумной традиции, пытающегося примирить тот своеобразный академизм, что представляли собою цехи мейстерзингеров, с безграничной свободой мощного порыва индивидуального творчества, черпающего силы из соприкосновения с природой и творящего изо всех житейских случайностей свой собственный идеальный мир высшего порядка...
Фигура Бекмессера в трактовке Лосева является перед нами совершенно лишенной той “ядовитости”, что так упорно подчеркивает музыка. Это — недалекий простофиля, дурашливый парень, всегда попадающий впросак по своей же глупости: нам становится жалко, а не противно. Так затушевывается злая насмешка Вагнера над бездарностями, присосавшимися к искусству ради личных выгод, которых пугает все молодое, талантливое, яркое, им глубоко чуждое и непонятное. .. Выступлениям масс придан помпезный величественный характер стиля, так называемой пресловутой grand opera, благодаря чему празднество (в 3-м акте) получило какой-то официальный оттенок, и вся прелесть наивности, непосредственности и грубоватости, присущая народным гуляньям, исчезла почти совсем. Только одна удачно использованная подробность отчасти сгладила впечатление — это заключительное приветствие Сакса и мейстерзингеров народом с ветвями березок в руках.
В общем, конечно, видно тщательное и детальное изучение эпохи, затрачено много труда, но в результате отсутствует то душевное интуитивное творческое проникновение в старину, которое одно только и приближает к нам дали веков, и ценно для нас постольку, поскольку в таком проникновении отражается современная нам душа поэта, художника, режиссера или балетмейстера. Старина имеет для нас значение не сама по себе, а как импульс к новому живому творчеству, хотя бы с помощью материалов, заимствованных из минувшего. Излишняя объективность, как намеченная цель, ведет лишь к сухой археологии, которой не место в театре, где должен царить творческий, а не воспроизводящий только чужое творчество дух. Музыка Вагнера не воспроизводит объективно Нюрнберг XVI столетия, она лишь продукт творческого воображения композитора XIX века, а как убедительно правдиво она звучит, символизируя все вечно человеческое, что могла таить в себе жизнь средневекового городка..
Теперь несколько слов о декорациях. Во 2-м акте уютно выглядит маленькая площадь перед домиками Сакса и Погнера, с аркой, перекинутой через выходящий на площадь переулок, причем красиво скомпонованы характерные для Нюрнберга наслоение и наседание черепичных кровель, готических башенок н причудливых фасадов, вся скученность и пленительная беспорядочность городской архитектуры эпохи немецкого ренессанса. Зато вовсе неинтересна декорация 3-го акта (2-й картины): с массой действующих лиц, сконцентрированных на переднем плане сцены, совсем не вяжется фон с игрушечным картонным замком, с приплюснутыми к нему шаблонно-оперными “небесами” со складками. Нет воздуха, нет простора! Вы чувствуете, что подобранный вверху занавес и рамки кулис не только ограничивают все охватываемое взором пространство, но что за ними и нет ничего больше. Отсюда впечатление скученности и театральной лжи...
Конечно, всем и каждому свойственны ошибки — следовательно, отмечая недостатки, замеченные нами, мы не хотели бы этим вовсе отрицать за постановкой “Мейстерзингеров” художественное значение. Кроме того, труд, знание и энергия, вложенные в это дело всеми участниками, заслуживают большой благодарности. “Мейстерзингеры” — единственная интересная постановка в этом сезоне, которую приходится радостно приветствовать, так как она, хоть отчасти, скрасила унылый и однообразный, чахлый репертуар казенной оперы. Мы не знаем, чья энергичная воля нарушила медленно поспешающий ход вещей?— следствием чего явилась столь напряженная деятельность, что “Мейстерзингеры” все-таки разучены и поставлены, а не отложены ad calendas graecas, но будем надеяться, что это — хороший признак, что это начало конца ленивого прозябания, в какое погружен уже столько времени Мариинский театр.
Вагнер в России. А.Кенигсберг. Отрывок из книги "Рихард Вагнер"
В конце 1862 года петербургское Филармоническое общество пригласило Вагнера продирижировать двумя концертами. Обещанные за это 2 000 рублей, а также возможность дать еще концерт из собственных произведений пришлись как нельзя более кстати. Вагнер с радостью согласился. Весь сентябрь и октябрь заняла обработка для исполнения в концертах отрывков из новых опер - недавно законченного “Тристана”, неизданной “Валькирии”, незавершенных “Зигфрида” и “Мейстерзингеров”.
В феврале 1863 года Вагнер второй раз в своей жизни пересек русскую границу. И вновь, как во время поездки в Ригу, первые, кого он увидел в России, были жандармы. Поезд неожиданно остановился, и по всем вагонам начались обыски - искали “политических”: не то польских повстанцев, не то русских ссыльных. И поэтому Вагнер был очень напуган, когда недалеко от Петербурга в вагон сели несколько человек в странных, высоких меховых шапках и стали пристально и, как показалось композитору, подозрительно разглядывать его. Вскоре все объяснилось: это оказались не переодетые полицейские, а музыканты оркестра императорских театров, выехавшие встречать Вагнера - его лицо было знакомо им по портретам. Торжественная официальная встреча состоялась на вокзале. Затем композитора отвезли в приготовленную для него комнату в немецком пансионе на углу Невского и Михайловской улицы.
 Здесь Вагнера ждал желанный гость - русский критик и композитор Александр Николаевич Серов. Знакомство их состоялось еще несколько лет назад. “Этот небрежно одетый, болезненный и сильно бедствовавший человек заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью...” - вспоминал Вагнер.
Здесь Вагнера ждал желанный гость - русский критик и композитор Александр Николаевич Серов. Знакомство их состоялось еще несколько лет назад. “Этот небрежно одетый, болезненный и сильно бедствовавший человек заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью...” - вспоминал Вагнер.
В 1858 году, будучи за границей, Серов впервые услышал в Дрездене “Тангейзера” с тем же прекрасным составом исполнителей, что пели на премьере. Шесть раз подряд слушал он эту оперу. Музыка Вагнера навсегда покорила Серова. Вернувшись на родину, он стал пропагандировать творчество Вагнера, настоятельно требуя познакомить с ним широкую публику. Благодаря усилиям Серова в начале 1859 года в Петербурге прозвучали отрывки из “Тангейзера”. Летом того же года он вновь поехал за границу. На этот раз ему удалось услышать в Веймаре “Лоэнгрина” под управлением Листа.
В августе 1859 года в Люцерне (в Швейцарии) произошла знаменательная встреча двух композиторов. Вагнер тепло принял Серова и проиграл ему почти целиком только что законченную оперу “Тристан и Изольда”. Серов стал хлопотать перед дирекцией императорских театров о постановке одной из опер Вагнера на русской сцене, предлагая прежде всего “Тангейзера”.
Ему удалось добиться того, что дирекция купила у Вагнера партитуры его опер 40-х годов. Выписать эти партитуры было поручено Серову. Вагнер, послав ноты, с нетерпением ожидал обещанные за них 3000 франков. Но дирекция медлила, и Серов, который постоянно бедствовал - у него, по собственным словам, “по целым неделям трех копеек не случается”, - мучительно пытался добыть для Вагнера эти несколько тысяч.
Вагнер ценил дружбу Серова и писал по поводу его смерти: “Для меня Серов не умер; для меня он живет ясно и отчетливо... Чем он был, тем он остается и останется - одним из благороднейших, высоких людей, каких можно себе представить. Его нежная душа, его чистое чувство, его светлый, исполненный этих качеств ум делают для меня дружбу, которую он искренне питал ко мне, счастливейшим подарком моей жизни”.
В приглашении Вагнера в Петербург, вероятно, немалую роль сыграла настойчивость Серова. Он опубликовал ряд статей, подготавливая публику к знакомству с вагнеровской музыкой, помогал композитору в составлении программ, знакомил его с певцами, постоянно присутствовал на репетициях, писал восторженные рецензии о концертах: “...Ни одного незанятого местечка. Тьма народу даже на сцене, между музыкантами оркестра, за кулисами. Самая новизна музыки Вагнера, необычайная и неслыханная, невообразимая смелость в оркестровке в отрывках из оперы “Валькирия”, - словно могучий поток увлек всю массу слушателей до крайних пределов самого пламенного сочувствия”.
Успех концертов был огромным. При появлении Вагнера весь оркестр в 120 человек поднялся и устроил композитору шумную овацию; 2 концерта (19 и 26 февраля) прошли в зале Дворянского собрания (здесь исполнялись симфонии Бетховена и отрывки из вагнеровских опер), а третий (6 марта), целиком из произведений Вагнера - в Большом театре.
Этот успех побудил дирекцию предложить Вагнеру повторить концерты в Москве, где его музыка была мало известна. Только в концертах недавно основанного Русского музыкального общества прозвучало несколько отрывков из опер 40-х годов и увертюра “Фауст”. В день приезда Вагнера в Москву (8 марта) здесь исполнялась увертюра к "Риенци”.
Репетиции, которые Вагнер проводил перед концертами, вызвали большой интерес у московских музыкальных деятелей. Вагнер сразу же поразил всех, встав за дирижерский пульт не лицом к публике, как было принято в то время, а лицом к оркестру. Его порывистая, нервная манера дирижировать наэлектризовала оркестр. Движения его рук, по воспоминаниям современников, были очень выразительны и сразу понятны музыкантам, хотя и необычны, своеобразны. Среди оркестрантов Вагнер встретил своего старого знакомого - виолончелиста, игравшего под его управлением в Риге. Дирижировал он наизусть, без партитуры, что также было не принято в то время в России.
И в Москве концерты Вагнера (13, 15 и 17 марта) прошли с большим успехом. Оркестр приветствовал его появление торжественным тушем, после второго концерта (из собственных произведений) ему были поднесены 2 лавровых венка и золотая табакерка с видом Москвы. Специальная депутация от оркестра просила Вагнера дать четвертый концерт или хотя бы открытую репетицию, но композитор отказался: он должен был возвращаться в Петербург, где дал еще 3 концерта (21 марта, 2 и 5 апреля). В его честь в Москве был устроен прощальный обед, на котором присутствовало около 40 музыкантов. Звучали горячие речи, и Вагнер, не избалованный успехом и глубоко тронутый, отвечал: “Как в Петербурге, так и в Москве я был встречен с таким теплым чувством участия, что не нахожу слов, чтобы благодарить вас за этот почет моему слабому таланту”.
 Всего Вагнер провел в России 2 месяца и дал 9 концертов, в которых были исполнены, помимо пяти симфоний Бетховена, увертюра “Фауст” и 23 отрывка из семи опер Вагнера. Именно в России впервые прозвучали отрывки из “Валькирии” - “Весенняя песня Зигмунда”, “Полет валькирий”, “Прощание Вотана и заклинание огня”, обошедшие впоследствии все концертные эстрады мира.
Всего Вагнер провел в России 2 месяца и дал 9 концертов, в которых были исполнены, помимо пяти симфоний Бетховена, увертюра “Фауст” и 23 отрывка из семи опер Вагнера. Именно в России впервые прозвучали отрывки из “Валькирии” - “Весенняя песня Зигмунда”, “Полет валькирий”, “Прощание Вотана и заклинание огня”, обошедшие впоследствии все концертные эстрады мира.
Вагнер был очень доволен петербургским объединенным оркестром из музыкантов оперных театров; столь же необычно большой по тому времени (100 человек) московский оркестр понравился ему меньше.
О пребывании Вагнера в России сохранились воспоминания русских музыкантов и письма его к русским друзьям. Имеются и документы другого рода. Тайная полиция завела на Вагнера специальное дело. На сообщение агентов о том, что “Вагнер хотя и принимал в 1848 году участие в беспорядках в Германии, но ныне, кажется, остепенился”, управляющий Третьим отделением наложил резолюцию: “несмотря на то, иметь тщательное за ним наблюдение”.
На все время пребывания Вагнера в Петербурге за ним была установлена слежка. В течение двух месяцев о нем поступали донесения агентов: сообщалось, где остановился Вагнер, кто содержит гостиницу, кто нанимал для него комнату, кто его посещает и даже что исполняется на его первом концерте (к донесению приложена программа). Поскольку этот концерт совпал с годовщиной “освобождения” крестьян (19 февраля), он был закончен исполнением официального гимна. Публика, восторженно аплодировавшая произведениям Вагнера, приняла гимн весьма холодно: “Некоторые, услышав первые ноты, повернулись и ушли: это все были молодые люди с бородами”, - доносил агент.
Покидая Россию, Ватнер рассчитывал вскоре вновь вернуться в Петербург. Однако приглашения не последовало. Возможно, что не последнюю роль в этом сыграли донесения полиции, обеспокоенной “революционным прошлым” немецкого композитора.
Но оперы его постепенно завоевывали русскую сцену. Через 5 лет после приезда Вагнера в Петербург в Мариинском театре был поставлен “Лоэнгрин” (1868). В организации этой постановки по просьбе композитора принимал участие Серов. Затем последовали “Тантейзер” (1874) и “Риенци” (1879). В Москве при жизни Вагнера прошел лишь один спектакль “Тангейзера” (1877) - на сцене Большого театра с участием итальянских певцов.
Стиль вагнеровских опер, новый и необычный, не сразу был понят русскими исполнителями. На протяжении четверти века “Лоэнгрин” и “Тангейзер” не сходили с репертуара Мариинского театра и пользовались успехом публики, однако выдающихся певцов-актеров в них русская сцена еще не знала. Лишь в 1895 году, по воспоминаниям современника, “впервые Тангейзер был не только спет, но и сыгран... явился артист, способный не только петь, но и рассказывать, не только бросать в партер ноты, но и переживать”. Это был Иван Васильевич Ершов первый, кто "сумел по-настоящему раскрыть перед нами глубокую красоту вагнеровских музыкальных драм”.
Ершов был идеальным исполнителем, о котором всегда мечтал Вагнер: “певец должен быть истинным, законченным драматическим артистом”. Вот как описывает Ершова современный критик: “Сама природа предназначила Ершову героические роли трагического размаха. Мощная, крупная, стройная фигура. Прекрасное по своим почти классическим чертам лицо с остро отчеканенным профилем, горящими юношеским глазами, окаймленное ниспадающими волосами”.
Его эмоциональное восприятие вагнеровской музыки было поразительным. Сохранились воспоминания современников о том, как Ершов исполнял в концертах предсмертный рассказ Зигфрида из “Гибели богов”. Когда в оркестре раздавался грозный аккорд, во время которого Хаген поражал Зигфрида насмерть своим копьем, лицо Ершова начинало бледнеть, заострялись черты - зрители видели скорбную маску смерти. Или другой эпизод: Зигфрид перед спящей Брунгильдой. Неожиданное волнение заливает румянцем лицо стоящего на концертной эстраде певца в момент исполнения этого отрывка роли Зигфрида. На вопросы, как ему удается достичь этого, Ершов простодушно отвечал: “Как же вы хотите, чтобы я не ощущал физической боли, если в оркестре слышу предательский удар копья в спину? От этого ощущения, очевидно, у меня и лицо меняется так, как вы говорите”.
Ершов был лучшим исполнителем вагнеровских ролей не только на русской сцене, но и во всем мире. Немецкие дирижеры, восхищенные его исполнением, настойчиво звали певца выступить в Германии. Ершов отказывался, считая, что петь Вагнера на немецком языке может лишь тот, кто не только говорит, но и думает по-немецки: “Не могу петь, творить на языке, на котором не мыслю, который не является моим, родным, органически мне присущим”. И вагнеровские герои Ершова продолжали жить на русской сцене.
На протяжении 30 лет Ершов нес на себе всю тяжесть вагнеровского репертуара на Мариинской сцене. Образы, созданные им, поразительно многогранны, и в каждом он сумел сказать свое новое слово.
Вот отзывы современных певцу критиков. “Тангейзер в обычном изображении - безвольный человек, раб страстей, бросающих его в разные стороны. Тангейзер Ершова - монолитен. Это страстная, до конца изживающая себя натура... Вечная неудовлетворенность настоящим заставляет его воспевать Елизавету в гроте Венеры и Венеру во дворце Елизаветы... Горящие пламенем глаза, черные кудри, порывистость жеста, быстрая я гордая походка - таков вартбургский певец в его исполнении”. В течение пяти лет Ершов был единственным исполнителем этой роли в Петербурге.
Позже он получил роль Лоэнгрина. “...Перед зрителем во весь свой рост встает легендарная фигура рыцаря - бойца за истину и справедливость. Требования полного доверия к себе и своей миссии здесь не каприз своенравного рыцаря, а утверждение своей правоты и мощи. Его прощальная песнь так гордо звучит и так бездумно Лоэнгрин возвращается в свой холодно-недоступный Грааль потому, что сомнения Эльзы, предательство Ортруды оскорбили не его, а то дело, которому он служит... Ершов в Лоэнгрине на первый план выдвинул непоколебимую веру рыцаря в правоту совершаемой им миссии, нетерпимость к неправде и суровое осуждение слабостям сомнений”.
“Повесть о Тристане и Изольде, ставшая синонимом всесокрушающего чувства, нашла в Ершове лучшего своего истолкователя... Особенно пленяла здесь у Ершова экономия жеста, художественное благородство позы, редкая замкнутость; создавалось удивительно сильное впечатление спокойной мужественной натуры рыцаря, где под ледяной внешностью пламенеет вулканическая страсть. Вся дотоле присущая Ершову порывистость движений исчезла, растворилась без следа в этой необычной выдержке пластики”.
Вершина исполнительского творчества Ершова - тетралогия “Кольцо нибелунга”. Здесь он создал 3 различных образа. “Вот он - Логе [бог огня], образ такой неожиданный после трагических фигур Тристана, Зигмунда, Зигфрида, неожиданный в пластике и тоне. Высоко взметнувшиеся над челом, густым каскадом падающие к плечам огненно-рыжие волосы, острые черты странно уродливого лица, согнутый стан, танцующая походка, легкие, быстрые, вкрадчивые движения, насмешливый взгляд и соответственно всему этому удивительнейшие по своему колючему юмору интонации... Несмотря на мощную фигуру Ершова, его Логе казался каким-то невесомым существом - до того легко носился артист по сцене”.
А вот иной образ - Зигмунд: “могучая, эпически-красивая фигура в первобытной одежде из звериных шкур, мужественная и строгая красота лица, с неуловимым оттенком трагизма в очертаниях и выражении прекрасных глубоких глаз, с привлекательною мягкостью задушевной и простой улыбки, так редко освещающей лицо этого сурового витязя... Могучий суровый герой хранит в душе неистощимое богатство сердечного тепла и самоотверженной любви. Неукротимо грозный в бою, сдержанный и замкнутый с чужими, от которых он, наученный жизнью, не ждет понимания и участия, - Зигмунд становится кротким и мягким, доверчиво-нежным с тою, чья любовь дала ему счастье. В сценах с Зиглиндою Ершов превосходно умеет передать эту нежность и мягкость, эту горячую беззаветность чувств, эту глубокую, чуткую сердечность”.
С Зигмундом-Ершовым связаны незабываемые впечатления первых послереволюционных лет. “Вспоминается: Мариинский театр 1919/20 года. В зале холодно, на местах - зрители в валенках и шинелях. На сцене - 4 градуса - какая ужасная обстановка для певца! Идет “Валькирия” - Зигмунд все тот же, только сильно похудел; в холод артист почти раздет (костюм Зигмунда - одна шкура), но все тот же огонь, та же яркая эмоциональность, та же прекрасная лирика...”
 Однако лучшее создание Ершова - образ Зигфрида: “Того, что дает Ершов в Зигфриде, - того не дает он больше нигде. Тут не сцена, а жизнь... Ершов в роли Зигфрида - это Зигфрид в действительности: живое олицетворение цветущей юной радости жизни, простодушной доблести, стихийной непосредственности и детской чистоты”. Последний раз Ершов исполнял эту роль весной 1925 года, в день своего 30-летнего артистического юбилея; ему было тогда 57 лет. Он вышел на сцену, едва оправившись от болезни, и зрители были поражены: “Казалось совершенно невероятным чудом видеть на сцене, как и в первые годы исполнения Зигфрида, прекрасного, полуобнаженного, прикрытого только шкурой мальчика, бегающего легко и быстро, бурливо спорящего с Миме, наивно слушающего пение птиц. Годы не изменили героического образа Зигфрида, и на склоне лет Ершов артистическим горением своим создал образ юноши таким же, каким он исполнял его в годы своей молодости”.
Однако лучшее создание Ершова - образ Зигфрида: “Того, что дает Ершов в Зигфриде, - того не дает он больше нигде. Тут не сцена, а жизнь... Ершов в роли Зигфрида - это Зигфрид в действительности: живое олицетворение цветущей юной радости жизни, простодушной доблести, стихийной непосредственности и детской чистоты”. Последний раз Ершов исполнял эту роль весной 1925 года, в день своего 30-летнего артистического юбилея; ему было тогда 57 лет. Он вышел на сцену, едва оправившись от болезни, и зрители были поражены: “Казалось совершенно невероятным чудом видеть на сцене, как и в первые годы исполнения Зигфрида, прекрасного, полуобнаженного, прикрытого только шкурой мальчика, бегающего легко и быстро, бурливо спорящего с Миме, наивно слушающего пение птиц. Годы не изменили героического образа Зигфрида, и на склоне лет Ершов артистическим горением своим создал образ юноши таким же, каким он исполнял его в годы своей молодости”.
Каков же он был в годы молодости? “Никаким гримом, никакою мимикой не могли бы Буриан, или Кноте, или Краус - известные современные исполнители Зигфрида - создать себе эту детскую улыбку, этот детский взгляд, которые так чаруют в лице Ершова... Так же недостижима никакими искусственными приемами эта мощная, словно из древних былин вышедшая фигура, которая бесконечно выигрывает и получает юношескую стройность от короткой меховой одежды, почти не покрывающей ее... Открытое юное лицо с отрочески-нежным овалом, с безупречным суровым профилем; с наивным, дивно очерченным ртом над упрямым, круто и в то же время мягко изогнутым подбородком, еще без признаков юношеского пуха; с красивым контрастом между пышным золотом длинных, своенравных кудрей и темным цветом карих глаз под густыми черными бровями - чудесных, чистых, полных света, единственных в своем роде детских очей...”
Но не один Ершов блистал в вагнеровском репертуаре на русской сцене. Начиная с 900-х годов, когда одна за другой были поставлены все оперы Вагнера (за исключением двух юношеских) и складывалась определенная традиция исполнения его музыки, возникает целая галерея ярких сценических образов. К их числу относится Лоэнгрин, созданный Л. В. Собиновым.
Этой вагнеровской опере, поставленной в России раньше других, долго не везло на исполнителя заглавной роли. Первый русский Лоэнгрин обладал замечательным голосом, но, по выражению Серова, “исчезал как актер” в драматических местах. С сохранившихся фотографий глядит “предобродушное, ужасно русское, совершенно неодухотворенное лицо, вдобавок утопающее в широкой круглой бороде... ни дать ни взять сиделец из старого Гостиного двора”. Про следующего Лоэнгрина говорили, что в его распоряжении было “только три жеста”. Не случайно эта опера шла очень редко - иногда всего 2 раза в сезон.
Комическое впечатление производила постановка “Лоэнгрина” и в итальянской опере, постоянно гастролировавшей в Петербурге. Вот что писал рецензент об исполнении главной роли знаменитым тенором Мазини: “Против ожидания, он загримировался, но Тельрамунда победил, не поднимая меча, а свою нежность к Эльзе, и гнев на злодеев, и печаль, и все чувства вообще выражал неизменно единственным жестом: грациозным откидыванием растопыренной пятерни от плеча в сторону публики”.
На Мазини были похожи и некоторые русские Лоэнгрины. Лишь Ершов, далеко не сразу получивший роль Лоэнгрина, сумел создать настоящий героический образ. Но этот образ померк, когда в роли Лоэнгрина в 1908 году на сцене Большого театра в Москве предстал выдающийся русский певец Леонид Витальевич Собинов.
 Собинов дал свою трактовку Лоэнгрина, резко отличавшуюся от сложившейся к тому времени немецкой традиции. В соответствии с творческой индивидуальностью, характером голоса, внешними данными, он создал Лоэнгрина “пластически в мягких линиях и в ореоле самой очаровательной юности”. “Собинов совершил огромный художественный подвиг, дав вполне нового Лоэнгрина”, - утверждал критик. Вот как он описывал Собинова в этой роли: “Его Лоэнгрин молод - лицо, в ореоле великолепных белокурых волос, пышной волной вырывающихся из-под шлема и ниспадающих на плечи, прелестно, дышит полнотой свежей юности. Все движения мягки, четки, в высшей степени экономны и удивительно пластичны”. Образ Лоэнгрина приобрел в трактовке Собинова не просто лирическую прелесть и обаяние молодости - он раскрылся неожиданно глубже, чем привычная фигура смелого воина: “Выдающийся русский певец-артист Собинов привнес в эту роль гуманистические элементы, сделав своего героя носителем внутренней, духовной силы”, - заметил один из современников.
Собинов дал свою трактовку Лоэнгрина, резко отличавшуюся от сложившейся к тому времени немецкой традиции. В соответствии с творческой индивидуальностью, характером голоса, внешними данными, он создал Лоэнгрина “пластически в мягких линиях и в ореоле самой очаровательной юности”. “Собинов совершил огромный художественный подвиг, дав вполне нового Лоэнгрина”, - утверждал критик. Вот как он описывал Собинова в этой роли: “Его Лоэнгрин молод - лицо, в ореоле великолепных белокурых волос, пышной волной вырывающихся из-под шлема и ниспадающих на плечи, прелестно, дышит полнотой свежей юности. Все движения мягки, четки, в высшей степени экономны и удивительно пластичны”. Образ Лоэнгрина приобрел в трактовке Собинова не просто лирическую прелесть и обаяние молодости - он раскрылся неожиданно глубже, чем привычная фигура смелого воина: “Выдающийся русский певец-артист Собинов привнес в эту роль гуманистические элементы, сделав своего героя носителем внутренней, духовной силы”, - заметил один из современников.
Свидетельством победы русского певца могут служить взволнованные слова Артура Никиша - выдающегося немецкого дирижера и знатока Вагнера, дирижировавшего в России спектаклями с участием Собинова. “Какое небесное видение, какой небесный голос! Я дирижирую и чувствую, что невольная слеза катится по моей щеке. Скольких Лоэнгринов пересмотрел я на своем веку, но никогда не переживал такого глубоко поэтического, захватывающего момента”. На родине Лоэнгрина известный берлинский тенор, очарованный собиновским героем, отказался от прежней героической трактовки и создал образ, близкий образу Собинова. Эта традиция живет не только у нас, но и в Германии до сих пор.
Евгений Браудо. Рихард Вагнер (опыт характеристики)
1922.
Нет ни одного художника XIX столетия, деятельность которого вызвала такое безмерное преклонение с одной стороны, и полемику, доходившую до ненависти, с другой, как Рихард Вагнер. Литература о нем обнимает много тысяч статей, а количество научных исследовании ему посвященных, измеряется сотнями. Немногим художникам уготован был такой бурный путь в жизни. В жилах Вагнера струилась кровь, столь горячая ж буйная, что иногда совершенно забываешь о том, что он уроженец севера: всем своим обликом Вагнер скорей напоминает гениев эпохи Возрождения. Из города в город, из страны в страну он неустанно стремится во имя борьбы за свои художественные идеалы. Сегодня - он придворный капельмейстер саксонского короля, патриот и верноподанный; завтра, рядом с Бакуниным, борется за свободу и равенство. В пору изгнания судьба доводит его до полного отчаяния, и он носится с мыслью о самоубийстве.
По возвращении на родину борьба за художественный идеал и долгое непризнание опять доводит его до отчаяния. Но внезапно, почти чудесным образом, его спасает дружба до того времени, ему совершенно неведомого, короля баварского. Благодаря этой дружбе, почти осуществляются его мечты о новом театре и художественном произведении будущего. Но обстоятельства столь же внезапно меняются, и мы вновь видим Вагнера в изгнании, среди снежных альпийских вершин, отдавшего себя всецело художественному творчеству. Через несколько лет, его могучий темперамент, все-таки, увлекает за собою толпу артистов, художников, публику, жадную до всяких сенсаций, и он основывает в Байрейте театр торжественных представлений. Вся жизнь Вагнера-неустанная борьба, исполненная великих страданий и великих побед, драма гения беспокойного духом, но именно в борьбе против судьбы почерпающего силы для дальнейших подвигов.
В бурную годину знаменитой битвы народов, в 1813 году, родился Рихард Вагнер. Его биографам удалось установить родословную семьи до середины XVII столетия. Все предки Вагнера были народными учителями и органистами, и от них он унаследовал ту любовь к народу, то глубокое понимание народных преданий, которые сыграли столь решающую роль в выборе сюжетов для его музыкальных драм.' Отец Вагнера, Фридрих Вильгельм Вагнер, юрист и чиновник лейпцигской полиции, умерший через полгода после рождения своего гениального сына, был страстным любителям театра и литературы. Мать его, лишившись своего первого мужа, отца Рихарда, вышла в 1814 году замуж за артиста Людвига Гейера. О нем даже в таком кратком жизнеописании Вагнера, как наше, необходимо сказать несколько слов. Это был разносторонне талантливый человек, превосходный живописец, автор нескольких неплохих комедий, и недурной певец. В доме его часто собирались художники, артисты, музыканты. С раннего детства Рихард Вагнер рос в атмосфере, насыщенной интересом к театру и музыке. Но в 1821 году, когда Вагнеру было восемь лет, умер и отчим его, оставив свою семью без всяких средств. Три сестры Вагнера и старший брат его постепенно перешли на сценические подмости, а сам Рихард Вагнер, уже шестилетним мальчиком, познакомился с таинственным миром кулис, и можно сказать, что ни один из немецких драматургов, кроме Гёте, не обладал в столь ранние годы таким богатым сценическим опытом.
К музыке Вагнер пришел только кружным путем. Он не был чудо-ребенком, подобно Моцарту, и не имел в лице своих родителей людей уже в детские годы оценивших его музыкальный дар. Его разносторонние способности, обнаружившиеся уже в раннем возрасте, уравновешивали друг друга, и пока мальчик посещал гимназию, казалось, что наиболее близок ему мир античных классиков. Четырнадцатилетним юношей он начинает увлекаться Шекспиром и пишет в подражание ему бессвязно-патетическую трагедию "Лейбальд", недавно извлеченную на свет усилием одного из его биографов. Но затаенное влечение к искусству звуков внезапно прорвалось со стихийной силой, когда на одном симфоническом концерте он услышал музыку Бетховена к Гетевской трагедии "Эгмонт". В силу внезапного озарения Вагнер решил сделаться музыкантом, чтобы написать по примеру Бетховена музыку, но к своей трагедии. Руководимый пока еще темным инстинктом о необходимости единения драмы и музыки, он вступил, таким образом, на путь, который привел его впоследствии к творческим вершинам.
Был у Вагнера и литературный спутник его юношеских мечтаний, который укреплял его в реформаторских взглядах на музыкальное искусство и заставлял его верить "в незыблемость мистического союза между словом и музыкой". То был Э- Т. А. Гофман, фантастическими рассказами которого Вагнер положительно упивался. Как Гофман, так и Вагнер, были великими "объединителями" искусства, натурами глубоко родственными между собою, явлениями одного порядка. В произведениях Гофмана можно найти немало мыслей о существе музыкальной драмы, предвосхищающей позднейшую теорию самого Вагнера. Что же удивительного в том, что и Гофмана мы наряду с античными трагиками, Шекспиром и Бетховеном видим заботливо склоняющимся у колыбели нового гения. К этим добрым духам, окружавшим Вагнера, следует причислить и Вебера, первого музыкального романтика, знакомого Вагнеру еще с детства.
Не без тяжелой борьбы удалось Вагнеру убедить своих родных, что его истинное призвание-музыка. Учился он музыке совершенно особенным образом, непосредственно на сочинениях Бетховена, зачитываясь целыми днями и ночами его партитурами, а для того, чтобы овладеть аппаратом большого оркестра без всякой теоретической подготовки, сразу начал писать увертюры и симфонии. Правда, впоследствии, по окончании лейпцигской гимназии, Вагнер в течение полугода, занимался с ученым музыкантом и превосходным учителем, П. Вейнлигом и за короткое время приобрел хорошее знание классической музыкальной формы. Но композиции, вышедшие из под пера его после этих систематических занятий, оказались столь же бледными и безжизненными, как произведения, этому курсу предшествовавшие.
Пора музыкального ученичества Вагнера продолжалась всего шесть месяцев. С 1833 года мы видим его уже самостоятельным музыкальным деятелем, в качестве капельмейстера в северно-германских городках, в Вюрцбурге, Магдебурге и Кенигсберге. Тридцатые годы, годы первых скитаний Вагнера, определили будущий характер не только его музыкальной деятельности, но и политические и литературные симпатии молодого романтика.
Общественная жизнь тогдашней Германии была еще полна отголосков июльской революции и той героической национально-революционной борьбы, какую вели поляки за свое освобождение. Вагнер никогда не умел и не хотел замыкаться в узком кругу чисто профессиональных интересов. Он всегда был чрезвычайно чуток ко всяким новым идеям и освободительным веяниям эпохи. Случайное сотрудничество в одном из передовых журналов этого времени сблизило его с кружком радикально настроенных немецких литераторов.
Вся гамма литературных настроений, волновавших тогда Германию, в перемежку с неясными, но горячившими воображение мистико-романтическими сюжетами, сказалась на первых двух операх Вагнера "Феи" и "Запрет любви". Ни та, ни другая не удержались на сцене. Первая из них дошла до нас целиком и возобновлена была в 1911 году во время торжественных представлений в Мюнхене. Партитура "Запрета любви" была подарена в свое время Рихардом Вагнером королю баварскому и могла быть опубликована только в 1913 году, к столетию со дня рождения композитора. "Феи" написана на сюжет заимствованный из сказки итальянца Гоцци, любимого автора Гофмана. Она не носит на себе печати творческой самостоятельности и музыкально вполне подчинена влиянию Вебера и Маршнера, хотя нельзя не отметить ее сценичности и хорошей инструментовки. Кое где-в отдельных мотивах, как поэтических, так и музыкальных, вспыхивают слабые зарницы будущих музыкальных грёз "Кольца" и "Тристана". Более эффектным, чем романтические "Феи", может с первого взгляда показаться "Запрет любви". Но в музыкальном отношении эта опера значительно грубее и примитивнее вагнеровского первенца.
В 1836 году Рихард Вагнер женился на артистке Минне Планер. Женился внезапно, под влиянием порыва. Не под счастливой звездой заключен был этот брак. Минна Планер, женщина по своему духовному развитию стоявшая неизмеримо ниже супруга, однако нежно любила его и в течении многих лет стойко переносила все невзгоды совместной с ним жизни. Но отзывчивым другом и верным соратником в борьбе за художественные идеалы Минна быть не могла. Противоположность характеров привела впоследствии к полному разрыву Вагнера с женой. Покинутая им Минна Вагнер умерла в 1866 году вдали от человека, с которым связала свою судьбу.
Тяжкие неудачи преследовали молодого музыканта. Ему никак не удавалось найти постоянного места. Маленькие театры в восточной Пруссии, где он служил, то и дело внезапно прекращали свое существование за недостатком денежных средств. После нескольких лет скитаний он принимает ангажемент в Ригу, счастливый тем, что, наконец, попадает на службу солидного оперного предприятия, содержимого на средства большого культурного города.
В августе 1837 года Вагнер перешагнул русскую границу. Два сезона, проведенные им в этой благоприятной обстановке, дали возможность развернуться его художественно-организационному таланту. В Риге им объявлена была беспощадная борьба оперной рутине и впервые на деле испробованы сценические принципы, которыми он впоследствии сорок лет спустя руководился во время байрейтских театральных празднеств. Здесь же им начата была большая опера "Риенци", на сюжет романа Бульвера, пленившего Вагнера своими героически-либеральными тенденциями. О постановке этой оперы, требовавшей огромных затрат и рассчитанной на пышную инсценировку, и речи не могло быть в скромных рамках рижского театра.
Мираж большой оперы со всем ее сценическим музыкальным блеском и драматическими эфектами- таков был тогдашний идеал Вагнера. Он не только хотел соревновать с модными французскими композиторами, но по возможности и превзойти их. Уже давно он вступил в переписку со Скрибом, присяжным либреттистом большой парижской оперы, на которого он почему-то возлагал огромные надежды. Но эта переписка молодого начинающего композитора с диктатором парижской сцены конечно не могла привести ни к каким положительным результатам. Однако Вагнер верил в свою счастливую звезду и поздней осенью 1839 года, когда реформаторский пыл окончательно поссорил его с рижским антрепренером, он с женой, любимым ньюфаундлендом и неоконченной оперой в портфеле бежит из России без паспорта, что по тогдашним временам было делом весьма не легким.
Чтобы попасть обратно в Пруссию, необходимо было совершить переезд морем в жестокую осеннюю бурю. Далее путь лежал на Лондон. Во время трехнедельного путешествия среди бушующего моря Вагнеру впервые пришла идея написать оперу на сюжет легенды о Летучем Голландце, обреченном вечно носиться над пучиною вод.
В Париж Вагнер прибыл 18 сентября 1839 года. Его надеждам на большой успех в этом центре европейской цивилизации ни в какой мере не суждено было осуществиться. Неудачи преследовали его на каждом шагу. Ни рекомендательные письма Мейербера и других влиятельных лиц, ни усиленные визиты к Скрибу, ни личное знакомство с такими знаменитостями, как Берлиоз и Галеви, не помогли ему проникнуть на сцену парижской БОЛЬШОЙ Оперы.
Небольшие денежные средства, привезенные Вагнером из Риги, очень быстро иссякли, и материальные бедствия его приняли в Париже ужасные размеры, Горькая нужда заставила молодого композитора пойти на крайности, чтобы как-нибудь прокормить ижену. Он взялся за исполнение всевозможных аранжировок популярных мелодий Галеви н Доницетти, стал писать на заказ мелкие статьи для газет и журналов, не брезговал даже перепиской нот. Но несмотря на все усилия, ему все же продержаться на поверхности не удалось. В октябре 1840 года Вагнер водворен был по жалобе кредиторов в парижскую долговую тюрьму, которую он покинул лишь через четыре недели, когда жене его невероятным усилием удалось раздобыть необходимый "выкуп".
Как не печально парижское трехлетие в жизни Вагнера, все же этот замечательный человек и в горе и страдании не терял бодрости духа. Слушание хорошего парижского оркестра, ознакомление с творчеством новой французской школы и детальное изучение симфоний Бетховена, который французами оценен был полнее и раньше, чем на своей родине, наконец, личное знакомство с вождями левых течений в музыке, Берлиозом и Листом, оказало огромную пользу Вагнеру, всячески расширяя его художественный горизонт.
Есть среди литературных произведений Вагнера небольшой цикл новелл под общим названием: "Немецкий музыкант в Париже". В этих новеллах Вагнер описывает свои собственные неудачи и несчастья, олицетворяя себя в образе некоего молодого музыканта, погибающего в Париже от голода. "В этих новеллах я не без юмора изобразил свою собственную судьбу в Париже, вплоть до смерти от голодного истощения, которую мне, по счастливой случайности, удалось избежать", так писал впоследствии сам Вагнер. "Всякая строка, выходившая из под моего пера была воплем отчаяния против всей художественной действительности". Блестящий покров парижской музыкальной жизни не скрывал от глаз его полного падения искусства. С одной стороны, Вагнеру впервые пришлось быть свидетелем превосходно обдуманных и тщательно выполненных постановок БОЛЬШОЙ Оперы, но с другой, он видел, что эта масса усилий тратилась только на то чтобы сделать оперный товар более ходким среди публики. Художник, стремившийся к идеальным высотам искусства, чувствовал себя в Париже так, как некогда Лютер в развратном папском Риме.
Пессимизм, охвативший душу Вагнера и более не покидавший ее до конца его дней, нашел тогда свое глубокое выражение в увертюре к гетевскому Фаусту, написанной в 1840 году. Она является единственным свидетелем задуманного, но не осуществленного Вагнером проэкта оперы на сюжет Гетевской трагедии. Глубокомысленная симфоническая увертюра, в которой Вагнер впервые заговорил настоящим своим музыкальным языком, обозначает поворотный пункт его творчества, обретшего, наконец, свой настоящий источник вдохновения в области немецких народных легенд. Дальнейшим' шагом Вагнера в этом направлении была композиция "Летучего голландца". Вагнер впоследствии холодно, даже враждебно относившийся к своим первым произведениям, вплоть до Тангейзера, всегда делал исключение для "Летучего Голландца", которого он считал началом своей музыкально-драматической деятельности.
Драматические мотивы этой оперы были взяты Вагнером из северной легенды, распространенной среди моряков. Она сложилась в VII или VIII столетии, и в 1831 году записана была Гейне Вагнер в тексте своей оперы следует рассказу Гейне, но значительно усиливает основную идею, идею искупления греха любовью, всегда его занимавшую. От своего ближайшего соседа, "Риенци", рассчитанного на сильные сценические эффекты, "Летучий голландец" отделен целым миром. Далека от недавних франко-итальянских увлечений Вагнера его музыка, в которой наряду с очень сильными отзвуками немецкой романтики встречаются моменты такой яркости и мощи, что они с успехом могли бы быть отнесены к периоду полной творческой зрелости Вагнера. "Летучий голландец" закончен был 13 сентября 1841 года, и на обложке его автором была сделана надпись: "во тьме страданий".
Осенью 1842 года Вагнеру удается кое как вырваться из парижского плена. Композитору стало известно, что его "Риенци", после продолжительных хлопот, принят был к постановке на королевской сцене в Дрездене, а "Летучий голландец", благодаря посредству Мейербера, имел шансы быть поставленным в Берлине. Собрав с помощью родственников некоторую сумму денег, Вагнер спешно предпринял обратное путешествие в Германию, чтобы присутствовать на первом представлении "Риенци". Премьера состоялась 20 октября 1842 года и сопровождалась шумным успехом. Молодой, никому неизвестный музыкант, внезапно почувствовал себя на вершине славы. Дирекция дрезденского театра решила, не дожидаясь берлинской постановки, дать на дрезденской сцене также "Летучего голландца". Но эта, гораздо более художественно значительная опера Вагнера; не имела и доли того сенсационного успеха, какой был уделом "Риенци". После двух представлений "Летучего голландца" пришлось снять с репертуара - публика, ждавшая от Вагнера столь же внешне эффектного произведения, как "Риенци", оказалась неподготовленной для восприятия новой музыкальной формы "Голландца", в которой уже определенно сказывается тяготение Вагнера к "бесконечной мелодии", то есть к сплошному течению музыкальной мысли, в противовес закругленным "номерам" опер обычного типа.
Однако, имя Вагнера сразу получило почетную известность, и когда в Дрездене открылась вакансия дирижера королевской оперы, ему предложен был этот пост. Должность саксонского придворного капельмейстера Вагнер занимал до 9 мая 1849 года, когда он принужден был бежать из Германии от гpoзившего ему пожизненного заключения за участие в майском вооруженном восстании.
Огненная натура Вагнера развернулась во всю свою ширь за те немногие годы, пока он стоял во главе дрезденской оперы. Немедленно принялся он за разного рода реформы театрального дела с целью поднять уровень, как артистического исполнения, так и вкусов публики. Кроме оперной сцены он руководил также дрезденским певческим обществом, для которого написал в 1843 году ораторию "Тайная вечеря".
Главное внимание Вагнера было обращено на то, чтобы рельефно выделить драматическое содержание при исполнении каждой оперы. "Оперный певец", говаривал Вагнер, "в первую очередь должен быть драматическим актером". Не менее серьезные заботы он уделял также оркестровому исполнению. В распоряжении Вагнера имелся лучший оркестр тогдашней Германии, находившийся только во власти дурных навыков. Вагнер смело взялся за его художественное перевоспитание, неукоснительно требую соблюдения более живых оттенков в передаче классических опер, исполнявшихся до него по раз и навсегда установленному шаблону. Многого добился Вагнер, но и многих врагов приобрел он себе, как это бывает со всяким крупным художником, борющимся против рутины. Во главе оппозиции к Вагнеру, старательно раздуваемой газетной прессой, встал его старший коллега по дирижерскому пульту Август Рейссигер, чувствовавший себя крайне шокированным пылкостью реформаторских тенденций Вагнера, столь резко противоречивших чиновничьему благополучию казенного театра.
Театральные реформы Вагнера шли параллельно с процессом созревания его творческих идей. Немедленно после окончания "Летучего голландца" им еще в Париже начата была новая опера на сюжет немецкого сказания XIII столетия о состязании в Вартбурге и более поздней "песни о Тангейзере", популярной с начала XVI столетия. Текст оперы, обнимавший эти же сказания, закончен был весною 1843 года, а партитура в полном виде 13 апреля 1845 года. Премьера оперы состоялась в Дрездене 18 октября того же года, под личным управлением Вагнера. Партитура "Тангейзера" подвергалась им неоднократной переработке и первоначальная ее редакция несколько разнится от той, которая исполняется в настоящее время.
"Тангейзер" знаменует собою дальнейший крупный шаг в развитии художественного гения Вагнера. Основная мысль произведения - искупление души, преданной чувственности, любовью чистой девушки - варьирует основной мотив "Летучего голландца" Но в отношении богатства фабулы, силы драматической характеристики и яркости музыкального выражения "Тангейзер" может быть сравниваем с творениями последней поры Вагнеровского мастерства. В этой опере Вагнер делает значительный шаг вперед на пути своего освобождения от старых оперных форм, а это требовало выработки нового декламационного речитатива на основе чрезвычайного развития мелодического, гармонического и ритмического элемента. В отношении сценической постановки и драматической игры исполнителей "Тангейзер" одна из наиболее трудных опер Вагнера.
Нет ничего удивительного в том, что постановка такой сложной оперы, почти восемьдесят лет тому назад, оказалась во многом неудачной. Впечатление, произведенное оперой на публику, было довольно слабое. Присутствовавший на премьере Роберт Шуман дал об опере довольно сдержанный отзыв. Он не отрицал большого композиторского таланта Вагнера, но находил в "Тангейзере" чрезмерные длинноты. Как это ни странно, но меньше всего ему понравилась гениальная увертюра, ныне самое популярное произведение Вагнера.
Неудача с "Тангейзером" произвела удручающее впечатление на его творца. Чувство глубокого одиночества охватило Вагнера, и это ощущение оторванности от внешнего мира окрасило тонами глубокой грусти следующую оперу Вагнера, "Лоэнгрин", задуманную им вместе с "Тангейзером" еще в Париже. Сюжет "Лоэнгрина)" также взят из круга немецких средневековых сказаний. Его основная идея заключается в признании того, что даже самым совершенным земным существам не дано постичь, к чему влекут их лучшие порывы, заложенные в душе небесными силами. Небесным посланцем нисходит на землю Лоэнгрин, готовый искупить страдания чистой девушки, но она по маловерию своему не дает ему выполнить его небесной миссии.
В эту драму одиночества, мотив которой, по глубокомысленному замечанию Вагнера, встречается уже в античных мифах, он вложил глубокий субъективный смысл. Светозарный Лоэнгрин никто иной, как сам художник, выполняющий в жизни свое божественное назначение, а Эльза- это земной мир, требующий от него раскрытия той тайны, которой окружено художественное творчество. "Лоэнгрин" по существу своему - трагедия артиста, облеченная в формы средневекового сказания. Если в "Тангейзере" Вагнеру удалось, главным образом, искупление страсти, то в "Лоэнгрине", напротив того, наиболее восхищает и трогает нежная красота небесных созвучий, символизующих непорочную чистоту рыцаря Граля. Никогда еще Вагнер не доходил до такого утонченного умения пользоваться мистическими звучностями оркестра и человеческого голоса, как в "Лоэнгрине". С этой точки зрения "Лоэнгрин является непосредственным предшественником мистерии "Парсифаль", венчающей творчество Вагнера, а "Тангейзер" имеет много черт, близких к поэме любви и смерти "Тристану и Изольде", открывающей последний период его композиторской деятельности.
Вагнер предназначал "Лоэнгрина", как и три свои предыдущие оперы, для постановки в дрезденском театре, но судьбе угодно было распорядиться иначе. Окончание партитуры этой оперы совпало со знаменательными днями 1848 года, и пылкий художник-идеалист оказался увлеченным в поток революционной борьбы, с благополучным исходом которой он связывал не только веру в обновление своей родины, но, прежде всего, надежду на наступление лучших дней для горячо любимого им искусства. Не будучи политическим деятелем, Вагнер, однако, в силу своего воззрения на театр, как на общественную трибуну искусства, отожествлял революцию театральную с революцией государственной, установив между ними непосредственную связь. С открытой душой примкнул он к революционным деятелям 1849 года, а именно к тому крылу его, которое с наступающей революцией предвидело начало мирового переворота, результатом которого будет устроение общества на началах трудового равенства и братства. Необходимо заметить, что Вагнера совершенно не интересовали домогательства умеренных партий, выражавшиеся в громких фразах всенемецкаго патриотизма, а все помыслы свои он сосредоточил на радикальном перевороте, имеющем подготовить новую социальную эру.
В этом сближении Вагнера с революционерами сорок восьмого года значительную роль сыграла его дружба со вторым капельмейстером театра, Августом Рекелем, пламенным социалистом-демократом. Влияние Рекеля на Вагнера сказалось за несколько лет до дрезденского восстания, и еще в 1846 году гениальный композитор заподозрен был добровольными соглядатаями в революционном образе мыслей. Тот же Рекель познакомил Рихарда Вагнера и с Бакуниным, который с начала 1849 года тайно проживал в Дрездене под конспиративным именем доктора Шварца. На творца "Тангейзера" и "Лоэнгрина" Бакунин произвел сильнейшее впечатление. В свою очередь и Бакунин чрезвычайно заинтересовался Вагнером, так что даже рисковал покидать свою конспиративную квартиру, чтобы проводить ежедневно несколько часов в беседах с революционером иного типа-в области искусства, каким был тогда Вагнер.
Активное участие Вагнера в подготовлении дрезденскаго вооруженного восстания сказалось, главным образом, в его выступлении на многолюдных собраниях дрезденскаго отечественного союза, при чем Вагнер публично заявлял себя сторонником трудовой республики. Несколько статей с определенно выраженной социалистической окраской, были помещены им в дрезденской местной левой прессе. Далее он весьма живо интересовался вопросом о всеобщем вооружении народа, и в мае 1848 года, в его саду при квартире происходили собрания по вопросу о введении милик ционной системы. Впоследствии Вагнер обвинялся властями в заказе гранат для вооружения дрезденских рабочих и ремесленников. Но в настоящее время невозможно проверить степень роли Вагнера в этом деле.
Восстание в Дрездене разразилось в мае 1849 года. Принимал ли действительно Вагнер какое либо активное участие в уличных боях - сказать с точностью нельзя. Но трудно предположить, чтобы в баррикадной борьбе участвовал человек, который, по собственному уверению, не умел не только стрелять, но даже держать ружья в руках, о чем с большим сожалением говорил своей жене. Как известно, восстание было подавлено в очень короткий срок, а когда Дрезден окружен был прусскими войсками, Вагнеру пришлось бежать в Веймар к Листу, в лице которого он нашел верного друга. С этого времени начинается взаимное сближение двух художников. Повсюду, где только представлялась возможность, Лист пропагандировал вагнеровское искусство и словом (своими блестящими статьями о первых операх Вагнера) и делом (как дирижер и руководитель образцоваго веймарского театра).
Тем временем был опубликован приказ об аресте Вагнера. Случайно найденное у Рекеля письмо от Вагнера послужило главной уликой против последнего. Оставаться далее в Веймаре было опасно и, с помощью фальшивого паспорта, добытого Листом, Вагнер перебирается в Швейцарию. На целых тринадцать лет он отныне остается за рубежом своего отечества, обреченный на тяжкую жизнь политического эмигранта. Но первые годы эмигрантской жизни он еще всецело горит теми революционными идеями, которые привели его в Швейцарию. Такая политическая и художественная непреклонность Вагнера мешала ему вновь стать прочно на ноги и занять постоянное место руководителя какого-нибудь оперного театра.
Почти ничего или ничего не мог он и сделать для дальнейшего распространения своих опер в Германии. Заботу о них он должен был предоставить своему другу Листу, и действительно последнему удалось осуществить блестящую постановку "Лоэнгрина" в Веймаре, на которой автор, как эмигрант, однако не мог присутствовать. С течением годов, при неутомимом содействии Листа, как "Лоэнгрин", так и "ТангеЙзер", стали приобретать большую популярность у немецкой публики. В самой же Швейцарии имя Вагнера, после концерта с отрывками из его произведений, начало также пользоваться известностью.
Но Вагнер-эмигрант уже давно ушел вперед, как художник, по сравнению с своими романтическими операми. В тиши его скромного жилища, на одной из отдаленных улиц Цюриха, он с увлечением отдался работе над рядом эстетических трактатов, в которых пытался разрешить вопрос о совокупном произведении искусства, имевшем, по его мнению, заменить обветшавшую и потерявшую всякий художественный смысл, музыкально-драматическую форму оперы. Эти коренные воззрения Вагнера изложены им были в трех больших работах: "Искусство и революция (1849). Искусство "будущего" (1849), и в "Опере и драме" (1851). Из этих трех работ вопросу о связи искусства с социальным условием его существования посвящена брошюра "Искусство и революция". "Искусство будущего" и знаменитая книга "Опера и драма" на первый план выдвигает чисто художественные предпосылки переворота в области театра. Свои заветные мысли Вагнер обращает ко всему человечеству, и убежден, что они воспламеняюще подействуют на массы. "Всякая моя книга", восклицает он сам, "подобна пушечному ядру, направленному на какую-нибудь твердыню старого искусства. Как только будет разрушена она, я заряжаю мое орудие и действую вновь". Такой ярко агитационный характер присущ веем теоретическим работам Вагнера данного периода"
Работы эти достойны гораздо большего внимания, чем то, которое обычно уделяется им ценителями вагнеровского искусства. Однако, для понимания Вагнера, знание его теоретических предпосылок совершенно необходимо, так как без такого знания совершенно невозможно постичь и оценить своеобразных форм вагнеровской драмы. Как совершенно верно замечает превосходный знаток вагнеровсхюго творчества, Чемберлен, при оценке Вагнера нужно иметь в виду, во-первых, что Вагнер по существу своему был поэтом, драматургом, а во-вторых, что его драматический гений проявился в особенном, чисто личном творческом инстинкте, для которого одинаково необходимо было использование как слова; так и звука.
Вагнер с первых же шагов своих, сначала бессознательно, а потом все с большей и большей ясностью, стремился к созданию новой драмы из духа музыки, Идея эта существовала уже давно, со времен эпохи Возрождения и первых музыкальных драматургов, но никогда еще не была высказана с такой последовательностью и зрелостью мысли. Предшественниками Вагнера были старые флорентийцы и венецианцы конца XVI и начала XVII столетия, пытавшиеся возсоздать с помощью музыки и слова древнегреческую трагедию, а в XVIII столетии Глюк, Гретри и Гердер, высказывавший в своих статьях об искусстве мысли, вполне предвосхищавшие Вагнера. Все они стремились к осуществлению теснейшего союза между звуком и словом, к осмысленности драмы, положенной в основу оперы. Таким образом вагнеровские идеи синтетического искусства отнюдь не составляют его исключительного достояния. Но суть дела в том/ что никто до него не проявил такого огромного размаха замыслов и такой необычайной энергии при их осуществлении, как Рихард Вагнер.
Вагнер подчиняет и слово, и звук другому - высшему началу: драматическому замыслу. Традиционная опера развивалась под углом зрения чисто музыкальных требований, в автор либретто всегда находился в полном подчинении у композитора. В этом Вагнер видит пагубное заблуждение. И музыка, и слово есть два начала, взаимно дополняющие друг друга. Музыка по образному сравнению Вагнера, есть начало женское, нуждающееся в оплодотворении мужским началом - поэзией. В двуедином существе музыкальной драмы внутренняя устойчивость может быть достигнута только тем, что самая драма не будет содержать в себе ничего антимузыкального, то есть того, что не может быть передано средствами музыкального выражения. А музыке совершенно чужды все случайные явления истории, быта и различных условностей жизни. Музыка -это универсальный язык человеческих чувств. Она повествует нам не о страстях и чувствах отдельного индивидуума в тех или иных его жизненных положениях, а выражает самую страсть, самое чувство в чистом виде. Таким образом язык звуков по существу своему связан с сферой общечеловеческих чувств, н совершенно прав был великий Лессинг, утверждая что природа предназначила поэзию и музыку для одной общей' цели,--выражения истого существа человека. Сценический образ н музыка-это зрение и слух музыкального драматурга.
Связь текста с действием с одной стороны, и музыки и слова-с другой, у Вагнера настолько органичны что невольно делаешь предположение: не было ли ведомо Вагнеру какое-то особое свойство музыки, позволявшее ему сливать ее с самым драматическим действием? Эту тайну Вагнера легче всего постигнуть на его собственных музыкальных драмах. Как мы указывали выше, приемы музыкальной драматургии, которые обычно связываются с представлением о мастерстве зрелого Вагнера, бессознательно применялись им и в его ранних операх. Они заключаются в том, что музыкальная мысль течет у Вагнера столь же непрерывной, сплошной волной, как и сценическое действие его драмы.
Уже в "Летучем голландце" Вагнер порывает с обычными законченными "номерами" оперы, и здесь же мы впервые наблюдаем появление особых мелодических оборотов, так-называемых "лейтмотивов" для музыкальной обрисовки лиц, чувств и сценических положений. Гораздо отчетливее проводится тот же принцип в "Тангейзере" и "Лоэнгрине", и чем дальше, тем шире пользуется Вагнер этим приемом. Подобные музыкальные спутники, неизбежно появляющиеся в драме при упоминании о данном чувстве, лице или идее, вызывают у слушателя воспоминание о соответствующих сценических образах. Таким путем между восприятием зрителя и неподдающимися изображению на сцене переживаниями героя устанавливается непосредственная связь. В изобретении таких характерных мотивов, почти с математической точностью действующих на слушателя, Вагнер проявлял высочайшую гениальность, Когда то Ницше поразительно верно заметил, что Вагнер заставил говорить в звуках все то, что до него не находило звукового выражения. Он не верил, что природа в каком либо своем проявлении могла быть немой. Даже у рассвета, леса, тумана, ущелий, горной вершины, лунного света, ночного мрака - он подметил одно тайное желание: желание звучать. И нет того самого таинственного закоулка человеческой души, куда бы не проник этот волшебник звуков"
Таковы краткие изложения эстетических принципов, входящих в круг трех больших теоретических работ Вагнера, опубликованных между 1849 и 1851 годом. К этим основным работам присоединяются еще несколько статей и брошюр, наиболее интересная из которых-"Театр в Цюрихе". В этой статье он пытается набросать практический план осуществления своих идей в действительности. Гениальный реформатор сцены задается вопросом, почему современные театральные предприятия, даже в случае успешного их руководства, оставляют совершенно равнодушными широкие слои публики* Он видит главную причину зла в том, что современный театр есть коммерческое предприятие, а состав его артистов представляет собою замкнутый круг профессионалов, никак не связанных со своей аудиторией. Необходимо вырвать театр из рук частных предпринимателей, преследующих материальную выгоду, а самый состав артистов пополнить членами местной гражданской общины. Для подготовки актерской деятельности должны быть созданы подготовительные школы сценического искусства, Таким образом, полагал Вагнер, через некоторый промежуток времени в личный состав труппы будут входить одни лишь граждане и тем самым отпадёт необходимость содержания профессионального кадра артистов. Эти мысли, опубликованные в форме отдельной брошюры, возымели тот неожиданный эффект, что к Вагнеру стали стекаться со всех сторон любители с предложением своих услуг для новой революционной сцены.
Мы прервали наш рассказ о жизни Вагнера изложением его мысли о всеискусстве будущего и его широких планов в деле полного обновления современного театра. Человечество пока еще не знает более удачного осуществления этих идей на деле, как музыкальная драма самого Вагнера и созданный им в Байрейте Дом Торжественных Представлений. По необычайной энергии, с какой он проводил в жизнь свои замыслы, Вагнер занимает совершенно исключительное место. В осуществлении этих идей его не могли сломить никакие бури. Наперекор всем враждебным стихиям, лишенный всякой связи с родной почвой, он ни на пядь не отступает от своих грандиозных идей, и постоянно преодолевает своей несокрушимой волей встречаемые им на этом пути трудности. Внешние обстоятельства могли ускорить или замедлить процесс его художественной работы, но изменить в них что либо по существу они были безсильны. В период своего пребывания в Цюрихе Вагнер почти совершенно замкнулся в себя и всячески избегал общения с внешним миром. Вот почему он не проявлял такой активности в деле реформы театра, как впоследствии в Париже, Мюнхене и Байрейте.
Томас Манн. Страдания и величие Рихарда Вагнера
Доклад по случаю пятидесятилетия смерти Рихарда Вагнера был прочитан Томасом Манном в Мюнхенском университете 10 февраля 1933 года, накануне фашистского переворота. Ясное и неприкрытое развенчание автором нацистского вагнеровского мифа, естественно, вызвало крайне негативную реакцию баварских властей, тут же включивших против писателя весь арсенал подвластной им пропаганды. Буквально на следующий день появилось открытое письмо под названием «Протест вагнеровского города Мюнхена» за пятьюдесятью подписями. Однако столь резво и удачно собранный протест был вызван в действительности совершенно различными причинами. В докладе было достаточно поводов для полемики и помимо политики. Эстетические критерии и философские выкладки Томаса Манна порой неоднозначны и не являются истиной в последней инстанции. И в том, что с ними не согласились такие люди, как Ганс Кнаппертсбуш, Ганс Пфицнер и Рихард Штраус, в сущности, не было ничего удивительного – их подписи в ряду фашистских культурологов и бюрократов на самом деле говорят лишь о человеческой и политической недальновидности этих музыкантов (в соответствии с концепцией Гитлера именно такими им и надлежало быть). Кто-то делал карьеру, кто-то готовился идти по трупам, а люди искусства просто позволили использовать свой интеллектуальный полемический запал – в первый раз, потом ещё и ещё – и прошли годы, прежде чем они осознали, во что вляпались. Манн же уехал в заграничное лекционное турне, откуда ввиду развязанной травли и набиравшего силу националистического угара на родину уже не вернулся.
Т. Манн. Страдания и величие Рихарда Вагнера.
Перевод А. Кулишер.
Здесь осуждение, мною вынесенное, хвала, мною выраженная, и все то, что я высказал.
Морис Баррес
Страдальческий и великий, подобно тому веку — девятнадцатому, чьим совершеннейшим выражением он является, стоит у меня перед глазами духовный образ Рихарда Вагнера. Этот образ видится мне изборожденным всеми чертами века, обремененным всеми его страстями, и мне трудно разграничить любовь к творчеству Вагнера, одному из величайших в своей спорности, многообразнейших и увлекательнейших проявлений художественного гения, от любви к тому веку, большую часть которого заполняет его жизнь, эта беспокойно-скитальческая, полная терзаний, одержимая и непонятная жизнь, завершающаяся в сиянии мировой славы. У нас, людей нынешнего дня, поглощенных задачами, по новизне и сложности действительно не имеющими себе равных, совершенно нет времени и едва ли есть желание произвести справедливую оценку той эпохи (именуемой нами бюргерской), которая сейчас отходит в прошлое; мы относимся к девятнадцатому веку, как сыновья относятся к отцу; критически, как оно и надлежит. Мы пожимаем плечами и при мысли о его вере — вере в идеи, и при мысли о его неверии, то есть о его скорбном релятивизме; его либеральная приверженность к разуму и прогрессу кажется нам несколько смешной, его материализм — слишком компактным, его самонадеянное стремление монистически разрешить все загадки мироздания — чрезвычайно поверхностным. Гордость, которою преисполняли этот век его научные достижения, уравновешивается, даже перевешивается его пессимизмом, внутренним его сродством с ночным мраком и смертью, которое, по всей вероятности, когда-либо сочтут наиболее характерной его чертой. А с этим сопряжено влечение и стремление к большим масштабам, к великим творениям, к монументальному и грандиозно-массовому, — сочетающиеся, как это ни странно, с пристрастием к мельчайшему, к дробному, к деталям духовной жизни. Да, величие, притом величие мрачное, страждущее, скептическое и одновременно проникнутое горечью истины, фанатическим исканием истины, в мимолетном опьянении преходящей красотой способное обретать кратковременное, чуждое вере счастье — вот что является подлинной сущностью, характернейшей чертой этого века. Чтобы выразить всю его Атлантову нравственную отягощенность и устремленность, ваятелю пришлось бы придать своему творению мускулатуру, напряженностью напоминающую статуи Микеланджело. Какие исполинские, эпические в предельном смысле этого великого слова тяготы взваливали в ту пору на себя — здесь надлежит вспомнить не только Бальзака и Толстого, но и Вагнера. Когда он (было это в 1851 году) в письме, проникнутом торжественностью, подробно развил своему другу Листу план «Нибелунга», тот ответил ему из Веймара: «Берись за дело и, не считаясь ни с чем, работай над своим произведением, к которому можно, во всяком случае, предъявить требование, поставленное Севильским капитулом архитектору при сооружении собора: «Постройте такой храм, чтобы грядущие поколения говорили: «Капитул, предпринявший такое сооружение, был безумен».— А собор все же стоит!» В этом — весь девятнадцатый век!
Очарованный сад импрессионистской живописи во Франции, английский, французский, русский роман, немецкое естествознание, немецкая музыка, — нет, не плохой это был век; оглядываясь назад, видишь целый сонм великих людей. И лишь эта ретроспективность взгляда, эта дистанция дают нам возможность распознать фамильное сходство между всеми ними, тот общий отпечаток, который, при всех различиях склада и творчества, эпоха накладывает на них. Возьмем хотя бы Золя и Вагнера, «Ругон-Маккаров» и «Кольцо Нибелунга» — лет пятьдесят назад едва ли кому-нибудь пришло бы в голову поставить в один ряд имена этих творцов, эти произведения. И все же их место рядом друг с другом. Сродство духа, намерений, приемов ныне бросается нам в глаза. Их связывает не только честолюбивая приверженность к огромным масштабам, не только творческое влечение ко всему грандиозному и массовому и не только — в отношении техники — эпические лейтмотивы; основное, что их роднит, — это натурализм, возвышающийся до символа и перерастающий в миф; ибо кто может отрицать в эпике Золя символизм и тяготение к мифичности, возносящие созданные им образы над действительностью? Разве Астарта второй империи, названная им Нана, не символ, не миф? Откуда взято ее имя? Это древнейшее сочетание звуков, ранний, чувственный лепет человечества: Нана — одно из прозвищ вавилонской Иштар. Знал ли об этом Золя? Если нет, то это совпадение тем более достойно удивления и многозначительно.
Толстому тоже свойственно натуралистическое тяготение к огромным масштабам, к демократической массовости. Он тоже постоянно прибегает к лейтмотиву, к цитированию самого себя, к устойчивым речевым оборотам, характерным для его персонажей. Неумолимость, с которой он доказывает, повторяет, втолковывает одно и то же, его решимость ни в чем не щадить читателя, его могучая воля к пространности — все это нередко ставилось ему в упрек. А о Вагнере Ницше говорит, что он, несомненно, самый неучтивый из всех гениев, что он словно измором берет слушателя, твердит ему одно и то же без конца, пока тот не придет в отчаяние и не уверует. Это тоже роднит их, но еще более глубоко родство, коренящееся в социально-этической стихии, общей им обоим, причем малосущественно то обстоятельство, что Вагнер видел в искусстве священное тайнодействие, панацею против всех язв общества, а Толстой к концу своей жизни отверг его как суетную роскошь. Ибо как роскошь Вагнер тоже его отвергал. Очищение и освящение, исходящие от искусства, он считал средствами очищения, освящения растленного общества; он был человеком катарсиса, поборником очищения, стремившимся посредством эстетического священнодействия раскрепостить общество от роскоши, власти денег, бездушия — в социальной своей этике он был чрезвычайно близок к великому русскому писателю. Обще им и то, что в жизни их обоих тщились усмотреть перелом, якобы расколовший их духовный склад, их мировоззрение, перелом, равносильный некоему нравственному коллапсу, тогда как на самом деле в их жизнях обнаруживается совершеннейшая последовательность и единство.
Те, кому казалось, что Толстой к старости впал в своего рода религиозное помешательство, не видели, что последний этап его жизни уже был заключен в предыдущем ее этапе; они забыли или не заметили, что в таких образах, как Пьер Безухов «Войны и мира» или Левин «Анны Карениной», уже предвосхищен духовный облик Толстого в старости. И если Ницше утверждал, будто Вагнер к концу своей жизни, побежденный, обессиленный, внезапно распростерся ниц перед крестом — перед христианством, — то он намеренно забывает или хочет заставить забыть, что уже мир переживаний «Тангейзера» предвещает сферу эмоций «Парсифаля», что в «Парсифале» Вагнер подводит итоги творчества целой жизни, романтически-христианской в своих глубинах, и с могучей последовательностью завершает его. Последнее произведение Вагнера — в то же время самое театрализованное из всего, что он создал, и нелегко указать художника, чей творческий путь был бы более логичен. Искусство, насыщенное чувственностью и символическими формулами (ибо лейтмотив есть формула, более того — дарохранительница, он притязает на авторитет уже почти что религиозный), неминуемо возвращает назад, к пышно-обрядовой церковности; более того, мне думается, что тайным стремлением, предельно честолюбивым притязанием театра является ритуал, из которого театр возник как у язычников, так и у христиан. Искусство театра уже заключает в себе барокко, католицизм, церковь; и художник, подобно Вагнеру привыкший действовать символами и возносить ввысь дарохранительницу, неминуемо должен был в конце концов почувствовать себя братом священника, возможно даже — самим священником...
Я часто размышлял о нитях, связующих Вагнера с Ибсеном, и мне трудно было отличить сродство во времени от иного сродства, более близкого, чем то, которое обусловлено общностью эпохи. Я не мог не распознать в диалоге буржуазных драм Ибсена приемов, способов воздействия и пленения, сокровеннейших чар, хорошо знакомых мне по миру звуков, созданному Вагнером, не мог не установить между ними братской связи, проявляющейся отчасти попросту в том, что оба они велики, но многократно и в характере этого величия. Как много между ними общего в исполинской цельности, сферической округленности, полноте их огромной творческой работы, в молодости — революционной, социально направленной, к старости принимающей менее яркую окраску мистически-торжественного! «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — едва внятная, жуткая исповедь человека, вся жизнь которого — в его творчестве, тщетно раскаивающегося, позднее, слишком позднее признание в любви к «жизни», и «Парсифаль», оратория спасения — до какой степени привык я рассматривать, воспринимать как нечто нераздельное эти две священные прощальные драмы, последние слова перед вечным молчанием, неземные творения двух исполненных величаво-склеротической усталости старцев, уже механизировавших все свои приемы,— творения, на которых лежит отпечаток позднего обобщения, созерцания прошлого, самоцитирования, развязки.
Разве то, что именовали «fin de siecle» («концом века» франц.) не было лишь весьма жалким сатировским действом мелкой эпохи по сравнению с тем подлинным, достойным преклонения заключительным аккордом нашего века, каким прозвучали эти, созданные в старости, творения обоих кудесников? Ибо кудесниками севера были они, лукавыми, недобрыми старыми колдунами, глубоко сведущими во всех тайнах внушения, которого достигали посредством столь же проникновенной, как и изощренной дьявольской артистичности, великими в искусстве создавать впечатление, в культе мельчайшего и тончайшего, во всех видах двузначности и символотворчества, в этом прославлении выдумки, этой поэтизации интеллекта, — причем оба они, как и полагается северянам, были музыкантами; не только тот из них, кто изучил музыку, овладел ею сознательно, ибо нуждался в ней для завоевания мира, но и тот, другой — Ибсен, хотя его музыкальность была скрытой, духовной, таилась за словом.
Но что совершенно уподобляет их друг другу — это тот никому даже в мечтах не представлявшийся возможным процесс сублимации, которому каждый из них подверг избранное им искусство, ко времени их прихода воплощавшееся в духовно несовершенных формах. Этой формой для Вагнера являлась опера, для Ибсена — драма. Гете говорит: «Все, что совершенно в своем разряде, должно выйти за пределы этого разряда, претвориться в нечто иное, ни с чем не сравнимое. Некоторые звуки, издаваемые соловьем, еще напоминают о том, что соловей птица; но затем он возносится над своей породой и словно ставит себе целью показать любому пернатому, что такое подлинное пение». Совершенно так же Вагнер и Ибсен довели до совершенства оперу и бытовую драму; они превратили ее в нечто иное, ни с чем не сравнимое.
И даже тот отголосок, тот остаток несовершенств о котором, приводя пример соловья, упоминает Гёте встречается и у них: время от времени, притом вплоть до самых вершин, до «Парсифаля», у Вагнера ещё сквозит опера; время от времени еще заметна v Ш сена трескучая техника драмы Дюма. Но оба они - творцы, в том смысле, что, совершенствуя данное воз носят его до небывалой высоты, что из данности извлекают новое, никому до них неведомое.
.
Что же именно — по сравнению со всем достигнутым до Вагнера в области музыкальной драмы — подымает его творчество на такую духовную высоту? Потребовалось совокупное действие двух сил, чтобы этот подъем совершился,— двух сил, двух гениальных данностей, которые, казалось, следовало бы считать враждебными, противоположными друг другу, взаимное коренное противоречие которых именно сейчас вновь и вновь охотно подчеркивается; силы эти — психология и миф. Их совместимость пытаются отрицать, психологию считают чем-то слишком рациональным, чтобы можно было не усматривать в ней непреодолимого препятствия на пути в страну мифического. Ее принято противополагать мифическому, как принято противополагать ее музыке, хотя именно этот комплекс — сочетание психологии, мифа и музыки — в двух поразительнейших случаях, у Ницше и у Вагнера, предстает нам как живая реальность.
О Вагнере-психологе следовало бы написать целую книгу, рассматривая в ней и его искусство психолога- музыканта и искусство психолога-поэта, поскольку эти свойства в нем следует разграничивать. Прием мотива-воспоминания, порою уже применявшийся в старой опере, постепенно разрабатывается в изощренно-виртуозную систему, в небывалой прежде степени превращающую музыку в орудие психологических намеков, углублений, постепенно осознаваемых связей. Переосмысление наивно-эпического волшебного мотива «любовного зелья», превращение его всего-навсего в средство высвобождения уже существующей страсти (в действительности питье, вкушаемое влюбленными могло бы быть водой, и лишь их вера в то, что они вкусили смерть, духовно раскрепощает их от нравственного закона эпохи) — все это, несомненно, является художественным вымыслом большого психолога. Поэтическое творчество Вагнера — насколько оно с самого начала выше обычного для либретто уровня, причем это превосходство не столько словесного, сколько психологического порядка! «Тот мрачный жар», — говорит Летучий Голландец в прекрасном дуэте второго акта с Сентой —
Тот мрачный жар, что днесь во мне пылает,
Ужель его любовью называют?
Нет, то душа о небесах грустит,
Ведь ангел мне спасение сулит!
Эти стихи вполне пригодны для пения, но никогда еще до той поры нечто столь сложно задуманное, нечто духовно столь изощренное не пелось и не предназначалось для пения. Тот, над кем тяготеет проклятие, с первого же взгляда полюбил девушку, но сознает, что его любовь, в сущности, обращена не на нее, а на спасение, на искупление. Но ведь Сента, в свою очередь, встает перед ним как воплощение возможности спастись, почему он не в состоянии, да и не хочет, различить мечту о спасении своей души от мечты о Сенте. Ибо его надежда приняла облик Сенты, и он отныне уже не может хотеть, чтобы этот облик был иным, а это означает, что жажда избавления и любовь к девушке в нем слиты воедино. Какая сложная двойственность, какое проникновение в трудно постижимые глубины чувств! Здесь налицо анализ, и это слово настойчиво напрашивается в еще более современном, еще более смелом его значении, когда вдумываешься в то, как Вагнер своим искусством слова и при помощи рельефно-живописующей музыки воссоздает весноподобное зарождение и нарастание у юного Зигфрида любовных эмоций. Здесь — исполненный смутных предчувствий, мерцающий сквозь глубины подсознательного комплекс связанности с матерью, полового влечения и страха — я имею в виду тот сказочный страх, который Зигфриду хочется изведать, — следовательно комплекс' являющий изумительнейшее, интуитивное совпадение концепций Вагнера-психолога с концепциями другого типичного сына девятнадцатого века, психоаналитика Зигмунда Фрейда. В том, как в мечтах Зигфрида под липой мысль о матери едва уловимо переходит в эротику; в том, как в сцене, где Миме старается объяснить своему воспитаннику, что такое страх, в оркестре, наподобие некоего наваждения, настойчиво звучит причудливо искаженный мотив спящей в огне Брунгильды, — во всем этом предвосхищен Фрейд, все это не что иное, как психоанализ; вспомним вдобавок, что и у Фрейда, чьим предтечей — в огромном масштабе — в деле исследования глубин и тайников души является Ницше, психологические изыскания теснейшим образом связаны с интересом к мифическому, изначально-человеческому и пракультурному.
«Любовь в подлинной своей полноте, — говорит Вагнер, — возможна только в пределах пола. Только как мужчина, как женщина люди действительно способны любить друг друга по-настоящему, тогда как всякая иная любовь всего лишь проистекает от этой любви, ею порождена, отражает ее или искусственно ее воспроизводит. Заблуждаются те, кто считают эту любовь (то есть любовь сексуальную) только одним из откровений любви вообще, рядом с которым якобы существуют иные откровения, быть может более высокие». Это сведение всех решительно проявлений «любви» к сексуальному — несомненно аналитического свойства. В нем сказывается тот же психологический натурализм, который обнаруживается и в метафизической формуле шопенгауэровского «средоточия воли», и в фрейдовских теориях культуры и сублимации* В нем подлинно выражен девятнадцатый век.
К слову сказать, эротический «материнский» комплекс вновь появляется в «Парсифале», в сцене обольщения второго акта, — и вот перед нами образ Кундри, самый мощный, самый, по художественной своей концепции, дерзновенный из всех, когда-либо созданных Вагнером; он сам, вероятно, сознавал всю его необычность. Первоначально в своих замыслах Вагнер исходил не от Кундри, а от эмоций, связанных со Страстной пятницей, но вскоре его интерес всё более и более сосредоточивается на её образе, на идейном и художественном его воплощении, и осенившая Вагнера мысль, что ему надлежит объединить в одном лице неистовую вестницу Грааля и обольстительницу, иначе говоря – мысль о существовании двойной душевной жизни, является решающим вдохновением и соблазном, вызывает сокровеннейшее влечение к этому причудливому начинанию. «С тех пор, как это мне открылось, – пишет он, – для меня стало ясно почти всё, что связано с этим сюжетом». И в другом месте: «Мне всё ярче и пленительнее представляется некое странное создание – женщина насквозь демонического склада (вестница Грааля). Если мне удастся воплотить этот вымысел, наверно появится нечто весьма оригинальное». Оригинальное – какое трогательно-скромное, непритязательное слово для определения того, что получилось на самом деле. Вообще для женских образов Вагнера характерна своего рода благородная истерия, нечто сомнамбулическое, зачарованное и провидческое, вносящее в их романтическую героику черту своеобычной, коварной современности. Но образ Кундри, этой розы ада, нельзя не назвать явлением патологии в мифе; в своей мучительной раздвоенности и расщеплённости – одновременно орудие дьявола и жаждущая спасения кающаяся грешница – она дана с подлинно клинической беспощадной правдивостью, с натуралистической смелостью в распознании и изображении страшного душевного недуга; эта правдивость и смелость неизменно представляются мне предельным достижением знания и мастерства. И она не одна среди образов «Парсифаля» отмечена, в духовном смысле, печатью крайности. Когда в первоначальном эскизе этого последнего, завершающего творения мы читаем о Клингзоре, что он является демоном скрытого греха, олицетворением бессильной ярости против греха, мы чувствуем себя перенесёнными в мир христианского проникновения, в сокровенные, инфернальные душевные переживания, в мир Достоевского…
Вагнер, поборник мифа открывший миф для оперы, обращением к мифу принесший опере освобождение, – вот второе, во что надлежит углубиться; и в самом деле мы не знаем композитора, равного ему по духовной близости с миром этих образов и идей, по умению волшебством своим вызывать и вновь оживлять миф; найдя путь от исторической оперы к мифу, он нашёл самого себя; внемля ему, едва ли не начинаешь верить, что музыка ни для чего иного не создана, как лишь для служения мифу, и никогда уже не сможет поставить себе иную задачу. Воплощается ли у него миф в образе вестника, ниспосланного из безгрешных сфер для спасения невинного существа и – увы! – вынужденного из-за маловерия возвратиться туда, откуда держал путь; являет ли он собою мудрый, певучий рассказ о начале и конце мира, космогоническую, в сказочном духе, философию – всегда дух, сущность, звучание мифа схвачены с изумительной меткостью, с глубочайшей, коренящейся во внутреннем сродстве интуицией, язык мифа воссоздан с врождённой естественностью, беспримерной в художественном творчестве. Это язык «минувшего» в его двузначности, заключающей в себе «то, что было» и «то, что будет»; мифологическая сгущённость настроения, хотя бы в сцене Норн в начале «Гибели богов», где три дочери Эрды предаются некоему священному судачению о судьбах мира, или в появлении самой Эрды в «Золоте Рейна» и «Зигфриде», поистине не превзойдена. Сверхмощные аккорды музыки, сопровождающей шествие с телом Зигфрида, славят уже не отрока, выросшего в лесу и пустившегося в странствия, дабы изведать страх, – они повествуют нашему чувству о том, что именно происходит там, за медленно сгущающейся пеленой тумана: солнечный герой – вот кто лежит на носилках, умерщвлённый тусклым мраком; а на помощь чувству приходит поясняющее слово. «Ярость буйного вепря» гласит оно, а Гунтер, указывая на Хагена, говорит: «Вот вепрь проклятый, им витязь был растерзан благородный». Так взгляд, обращённый вспять, в далёкое прошлое, пронизывает его до первичных, самых ранних истоков человеческого образотворчества. Таммуза и Адониса, сражённых вепрем, Осириса и Диониса, растерзанных и впоследствии возвращающихся в лице распятого, которому копьё римлянина должно пронзить ребро, дабы можно было узнать его – всё, что было когда-то и будет всегда, весь мир красоты, закланной, убиенной яростью зимы, объемлет мифический этот взор, и потому пусть не говорят нам, что творец «Зигфрида» и «Парсифаля» изменил самому себе.
.
Страсть к исполненному чар творчеству Вагнера сопутствовала мне в течение всей моей жизни, с тех пор как оно впервые открылось мне и я начал овладевать им, постигать его. Никогда не забуду я того, что дало мне наслаждение этим творчеством и изучение его, не забуду часов глубокого, одинокого счастья среди театральной толпы, часов, когда ум и нервы полны были трепета и восторга, того проникновения в волнующие и великие значимости, какое это творчество одно лишь способно даровать. Пытливое моё тяготение к нему никогда не ослабевало; я, не пресыщаясь, внимал ему, восторгался им, наблюдал его – не без недоверия, признаюсь в этом; но мои сомнения, возражения, нападки, так же не способны были умалить его, как и бессмертная критика, которой подверг Вагнера Ницше и которую я всегда воспринимал как некий панегирик наизнанку, как восхваление на иной лад. Эта критика была любовной ненавистью, самобичеванием. Искусство Вагнера было великой любовной страстью жизни Ницше. Он любил это искусство так, как любил его Бодлер, певец «Цветов зла», о ком рассказывают, что он даже в агонии, в неподвижности, в полуидиотизме последних дней своей жизни улыбался от радости – il a souri d’allegresse – когда при нём называли имя Вагнера. Так и Ницше во мраке своего паралитического бытия, как только ему случалось услышать имя Вагнера, откликался, встрепенувшись: «Этого человека я очень любил». Он сильно ненавидел его по причинам духовного, культурно-нравственного порядка, которые здесь не место обсуждать. Но было бы странно, если б я оказался единственным, кто пришел к выводу, что полемика Ницше против Вагнера скорее способна разжечь преклонение, чем ослабить его.
Против чего я всегда возражал, или, вернее сказать, к чему всегда оставался равнодушен, — это вагнеровская теория; мне трудно было уверить себя, что кто-либо вообще мог принять ее всерьез. Что мог я извлечь из этого суммирования музыки, слова, живописи и жеста, выдававшего себя за единственно подлинное, предельное воплощение всякой творческой мечты? Из теории искусства, по которой «Зигфрид» якобы выше «Тассо»? Мне казалось весьма рискованным утверждение, что все отдельные искусства возникли из распада некоего изначально-театрального единства, к которому они должны, во благо свое и служа ему, вернуться. Искусство едино и совершенно в каждой из форм, в которых оно воплощается; чтобы довести его до совершенства, нет надобности суммировать отдельные виды его. Подобные воззрения представляют нам девятнадцатый век в скверном его выражении, скверно-механистическое мышление, и победоносное творчество Вагнера доказывает не правильность его теории, а лишь собственную свою мощь. Оно живо и долго будет жить, но искусство переживет его в отдельных своих видах и будет волновать ими людей, как волновало во все времена. Ребяческим варварством было бы думать, будто сила и интенсивность художественного воздействия зависят от степени его суммированного натиска на чувственное восприятие.
Вагнер, страстный приверженец театра, — справедливо будет сказать: театроман — тяготел к этому воззрению, считая, что основным требованием искусства является самое непосредственное, самое исчерпывающе полное сообщение чувствам всего, что им надлежит воспринять. И чрезвычайно любопытно видеть, во что благодаря этому неумолимому требованию превратилась в важнейшем его произведении, в «Кольце Нибелунга», драма, на которую были направлены все его помыслы, непреложным законом которой он объявлял именно исчерпывающе полное чувственное восприятие. История возникновения «Кольца» знакома всем. Во время работы над воплощением драматического эскиза «Смерть Зигфрида» для Вагнера, по собственным его словам, стало непереносимым, что столь многое приходилось предполагать известным, что началу действия предшествовало столько событий, осведомление о которых пришлось бы внести в композицию самого произведения.
Потребность воплотить ранее свершившееся в чувственных образах оказалась необоримой, и Вагнер принялся за работу в обратном порядке: он создал «Молодого Зигфрида», затем «Валькирию», затем «Золото Рейна»; он не знал покоя, пока не претворил все в сценическую реальность, вместив в четыре вечера все решительно — от первичного ядра, праначала, первого es-dur'ного трезвучия фагота во вступлении к «Золоту Рейна», которым торжественно, почти неслышно начинается рассказ. Возникло нечто изумительное, и понятен восторг, охвативший творца при созерцании осуществленного им этим путем исполинского плана, столь богатого новыми возможностями углубленного художественного воздействия. Но то, что возникло, — чем оно, в сущности, оказалось? Эстетика неоднократно отвергала циклическую драму как художественную форму. Отвергал ее и Грильпарцер. Он утверждал, что зависимость частей друг от друга придает целому нечто эпическое, чем, правда, — с этим он согласен, — усиливается его грандиозность. Но ведь это-то и определяет воздействие «Кольца Нибелунга», характер его мощи, и мы должны признать, что своеобразное величие этого важнейшего произведения Вагнера коренится в эпическом духе, в котором оно создано и которым овеян и самый сюжет. «Кольцо» — сценический эпос, возникший из антипатии Вагнера к тяготению над действием событий, ему предшествовавших, — антипатии, как известно, чуждой античной и французской трагедии. Ибсен, со своей высокой аналитической техникой и своей изощренностью в развертывании предшествующих событий, в этом отношении гораздо более близок к классической драме. И есть известная доля комизма в том, что именно драматургический тезис Вагнера о полноте чувственного восприятия таким причудливым путем привел его к эпосу.
Его отношение к тем отдельным искусствам, из которых он создал свое «совокупное произведение искусства», заслуживает того, чтобы над ним призадуматься; в нем сказывается некий своеобразный дилетантизм, — недаром Ницше в своем исполненном преклонения перед Вагнером «Четвертом несвоевременном размышлении» говорит о детстве и юности Вагнера: «Его юность — юность многостороннего дилетанта, из которого долго не выходит ничего путного. Ему не была предуказана замкнутая сфера определенного искусства, во многих семьях переходящего от отца к сыну. С живописью, поэзией, сценическим искусством, музыкой он сталкивался столь же близко, как и с образованием, ведущим к ученой деятельности; поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что он создан быть дилетантом».
Действительно, не только поверхностный наблюдатель, но и наблюдатель вдумчивый, всматривающийся со страстным преклонением, должен, с риском быть неправильно понятым, сказать, что искусство Вагнера— дилетантизм, с помощью величайшей силы воли и изощренности ума доведенный до монументальных размеров, до гениальности. В самой идее объединения искусств есть нечто дилетантское, и если бы не достигнутое ценою величайшего напряжения сил подчинение их всех его титаническому, всевоплощающему гению — идея эта, несомненно, увязла бы в дилетантизме. Есть нечто сомнительное в его отношении к искусствам; он, как ни нелепо это звучит, в какой-то мере невосприимчив к музам; Италия, изобразительные искусства не находят в нем никакого отклика. Он пишет Матильде Везендонк в Рим: «Смотрите и любуйтесь за себя и за меня. Мне нужно, чтобы кто-нибудь за меня это делал. Странно у меня обстоит дело в этом отношении: я в этом неоднократно убеждался и наконец окончательно убедился в Италии. Сильное зрительное впечатление способно захватить меня на некоторое время — но ненадолго... По-видимому, одного зрения мне недостаточно для восприятия мира».
Весьма понятно! Ведь Вагнер — человек, воспринимающий мир слухом, музыкант и поэт; но все же странно, что из Парижа он пишет той же Матильде Везендонк: «Ах, в каком упоении юное дитя от Рафаэля и живописи! Как это мило, прекрасно и успокоительно! Лишь на меня одного это никогда и нимало не действует! Я все еще тот вандал, который за год пребывания в Париже не удосужился посетить Лувр! Разве этим не все сказано для вас?» — Не все, но, как-никак, многое, существенно и своеобразно его характеризующее. Живопись — великое искусство, столь же великое, как и вагнерово «совокупное произведение искусства». Она и до этого «совокупного произведения» существовала как самостоятельное искусство и после него продолжает им быть; но на Вагнера она не действует. Не будь он так велик, мы не чувствовали бы себя столь глубоко оскорбленными за сокровенную сущность живописи! Ведь изобразительные искусства ничего не говорят ему — ни в прошлом своем, ни в животрепещущем настоящем. Того великого, что вырастает рядом с его творчеством, — живописи французских импрессионистов, — он почти не замечает, ему нет дела до нее. Его связь с нею ограничивается тем, что Ренуар написал его портрет, отнюдь не героизирующий того, кто на нем изображен, и вряд ли особенно ему понравившийся. Ясно, что его отношение к искусству слова совсем иное, чем к искусству изобразительному. В течение всей его жизни, искусство слова, особенно в лице Шекспира, бесконечно много давало ему, хотя согласно теории, служившей ему для возвеличения собственного таланта, он почти пренебрежительно отзывался о тех, кого именовал «поэтами от литературы». Но какое это имеет значение, раз он сам внес огромнейший вклад в это искусство, обогатил его всем тем, что он создал, — причем, правда, всегда следует памятовать, что его творения не предназначены для читки и, будучи, в сущности, не «творениями слова», а «искусством музыки», нуждаются в дополнении сценическим образом, жестом, музыкой и лишь с помощью совокупного действия всех этих средств достигают поэтического совершенства. С точки зрения языка им зачастую присуще нечто напыщенное и вычурное, а частью и детское, некая величественная, самовластная некомпетентность — с прожилками подлинной гениальности, мощи, напряженности, изначальной красоты, уничтожающими у нас все сомнения и лишь подкрепляющими нашу уверенность в том, что мы имеем дело с творениями, которые пребывают не в пределах великой европейской литературы и поэзии, а в стороне от них и являются указующими данными к некоему сложному театральному воплощению, между прочим нуждающемуся и в посредстве слова. Говоря об этих вкрапленных в дерзко-дилетантское блестках словесной гениальности, я имею в виду прежде всего «Кольцо Нибелунга» и «Лоэнгрина»; последний в отношении искусства слова, быть может, самое чистое, благородное и прекрасное из всего, что создано Вагнером.
Его гений является драматическим синтезом отдельных искусств, и только как целое, как синтез, воплощает понятие подлинного, закономерного творения. Отдельным частям, из которых оно слагается, — даже музыке как таковой и поскольку она не является средством к достижению общей единой цели — присуще нечто необузданное, неоправданное, что 'перестает ощущаться лишь в великом целом. О том, что у Вагнера отношение к языку было иное чем у наших великих поэтов и писателей, что он не обладал строгостью и тонким чутьем, направляющими тех, кто ощущает язык как драгоценнейший дар, как доверенное художнику средство выражения,— об этом свидетельствуют его, стихотворения «на случай», его обсахаренно-романтические поэмы, восхваляющие короля баварского Людвига Второго и посвященные ему, а также шаблонные, разудалые вирши, обращенные к друзьям и покровителям. Каждый стишок Гете, сочиненный им по случайному поводу, — чистое золото поэзии, высокая литература по сравнению с этим словесным филистерством, этими переложенными в стихи грубоватыми шутками, вызывающими у почитателей лишь деланную улыбку. Пусть они тем усерднее читают то, что Вагнер писал прозой, — его эстетические, культурно-критические манифесты и самоизъяснения, произведения большого художника, свидетельствующие о поразительной зоркости ума и волевой сосредоточенности мышления; однако ни по языку, ни в отношении идей их нельзя сравнить с эстетико-философскими трудами Шиллера, хотя бы с его бессмертным сочинением «О наивной и сентиментальной поэзии». Их трудно читать, ибо они написаны расплывчато и вместе с тем тяжеловесно, опять-таки с примесью некоего необузданного, внелитературного дилетантизма; строго говоря, они не принадлежат к миру великих творений немецких и европейских эссеистов, не являются по сути дела произведениями писателя, обладающего природным к тому даром, а возникли походя, по необходимости. Все проявления Вагнера в единичном и частном вызывались необходимостью. Счастлив, призван, совершенен, закономерен он лишь в едином великом целом.
Но не был ли он и музыкантом лишь по необходимости, ради создания титанического целого и силою своей воли? Говоря о том, что так называемая одаренность отнюдь не может считаться наисущественнейшей чертой гения, Ницше восклицает: «Как мало, например, одаренности у Рихарда Вагнера! Существовал ли когда-либо музыкант, который на двадцать восьмом году жизни был бы так беден?» Действительно, музыка Вагнера вырастает из робких, чахлых, несамостоятельных попыток, причем эти попытки он предпринимает гораздо позже, чем большинство других великих музыкантов. Сам он пишет: «Мне помнится, что лет тридцати я еще, тревожно сомневаясь, вопрошал себя, есть ли у меня в самом деле задатки высшей художественной индивидуальности; в своих работах я все еще ощущал влияния и подражание и лишь с гнетущей робостью осмеливался размышлять о дальнейшем своем развитии как личности, творящей вполне самостоятельно». Это — взгляд, обращенный к прошлому уже в ту пору, когда мастерство было достигнуто, — в 1862 году. Но всего лишь тремя годами раньше, в сорок шесть лет, в дни, когда работа над «Тристаном» плохо подвигалась вперед, он пишет из Люцерна Листу: «До чего жалким я чувствую себя как музыкант — чтобы заверить тебя в этом, я не нахожу достаточно убедительных слов. Я чистосердечно считаю себя совершенной бездарностью. Надо бы тебе видеть меня иногда, когда я сижу неподвижно и думаю: «Должно же дело все-таки пойти на лад!», затем иду к роялю, сочиняю какую-то скверную дребедень и тут же в полном унынии бросаю играть. Что я испытываю тогда! Как искренне во мне убеждение в подлинном моем музыкальном ничтожестве! Именно теперь, от тебя, в ком музыка бьет ключом, из кого она льется ручьями, потоками, каскадами, мне пришлось услышать то, что ты сказал... Мне поэтому очень трудно поверить, что это не сплошная ирония... Дорогой, все это очень сложно, и, поверь мне, у меня немного за душой». Это несомненная депрессия, ни в чем не соответствующая истине, и Лист по заслугам его отчитывает. Он упрекает его в «безумной несправедливости по отношению к самому себе». Впрочем, каждому художнику знакомо это внезапное чувство стыда за себя, вызываемое мастерством других, современников и предшественников. Оно объясняется тем, что работа над художественным творением всякий раз предполагает новое и само по себе уже требующее большого искусства приноровление личного и индивидуального к искусству в целом, и художник, даже если его произведение и признано, если оно удалось ему,— при сравнении с достижениями других иной раз вопрошает себя: «Как вообще возможно одним духом говорить о том, что является моей личной интерпретацией, и об искусстве вообще?» И все же у того, кто уже принялся за третье действие «Тристана», такая степень депрессивного самоуничижения, искреннейшего отчаяния перед лицом музыки представляется чем-то удивительным, психологически странным.
Воистину, диктаторская самоуверенность Вагнера в старости, когда он в «Байрейтских листках» для вящего восхваления собственного искусства высмеивал и осуждал так много прекрасного — Мендельсона, Шумана и Брамса, — эта самоуверенность куплена ценой тяжкого горя, отчаяния и сокрушения, ранее причиненных ему искусством! Чем объясняются эти приступы? Несомненно, лишь тем, что он сам в такие моменты впадал в ошибку, обособляя свое музыкальное творчество и тем самым сопоставляя его с наивысшим, что есть в музыке, тогда как это творчество — столь же верно и обратное — можно рассматривать лишь с точки зрения того, чем Вагнер проявил себя в искусстве слова, — а ведь из этой ошибки главным образом и проистекало то ожесточенное сопротивление, которое пришлось преодолеть его музыке. Нам всем, кому волшебный мир этих звуков, их одухотворенная магия даровали столько счастья, кого они уносили так далеко, в ком возбуждали такое преклонение перед огромным мастерством, достигнутым созидательной работой в одиночестве, — нам очень трудно понять это сопротивление, это отвращение; в том, как современники отзывались о музыке Вагнера, в определениях ее как «холодной», «алгебраической», «бесформенной», мы усматриваем ужасающее заблуждение и отсутствие чутья, свидетельствующие о скудости понимания, о толстокожей невосприимчивости, и мы склонны думать, что подобные суждения могли исходить лишь из среды совершенно обывательской, чуждой искусству, забытой богом и музыкой. Но это неверно. Многие из тех, кто так судили и не могли судить иначе, были не филистеры, а люди, понимающие и чувствующие искусство, музыканты и ценители музыки, люди, которым судьбы музыки были дороги, которые справедливо притязали на умение отличать музыку от того, что не есть музыка, — и находили, что созданное Вагнером никак не музыка. Они были разбиты наголову, им было уготовано поражение на долгие времена. Но если они заблуждались — разве это заблуждение не простительно? Ведь музыка Вагнера так же мало является музыкой, как мало является литературой драматическая основа, которая, дополняя эту музыку, придает ей облик поэтического творения. Ее можно считать психологией, символом, мифом, эмфатикой — всем, чем угодно, но не музыкой в том чистом и полноценном значении, которое вкладывали в это слово смятенные судьи искусства. Тексты, вокруг которых она обвивается и, наделяя их полнотой, претворяет в драму, не суть достояние литературы, но зато музыка подлинно принадлежит ей. Эта музыка, которая кажется нам бьющей наподобие гейзера из древнейших, пракуль турных глубин мифа (и не только кажется, но и на самом деле такова), — к тому же пронизана мыслью, рассчитанна, — свидетельствует о высокой интеллектуальности, изощренно умна, столь же продуманна литературно, как музыкально продуманны ее тексты. Музыка, разложенная на первичные свои элементы, должна служить цели наирельефнейшего воплощения мифических философем. В основе неукротимой хроматики смерти Изольды — литературный замысел. Но и рокот во ли Рейна, и те семь простейших глыбистых аккордов, из которых строится Валгалла, — порождение такого же замысла. Некий знаменитый дирижер сказал мне, возвращаясь домой после исполнения «Тристана» под его управлением: «Это уже совсем не музыка». Говоря так, он разумел потрясение, нами обоими испытанное. Но то, что сегодня мы приветствуем восторженным «да», — разве могло вначале не быть отвергнуто гневным «нет»? Музыки, подобной странствию Зигфрида по Рейну или плачу по убиенному Зигфриду — творениям, доставляющим нашему слуху, нашей душе неизъяснимое наслаждение, до той поры никогда не было слыхано, она является неслыханною в прямом, возмутительнейшем значении этого слова. Требовать, чтобы это нанизывание символических мотивов-цитат, покоящихся, словно обломки скал, в бурном потоке стихийных музыкальных изъявлений, чтобы оно воспринималось как музыка в духе Баха, Моцарта и Бетховена, значило требовать слишком многого. Чрезмерным было требовать, чтобы es-dur'нoe трезвучие, лежащее в основе вступления к «Золоту Рейна», согласились назвать музыкой. Оно и не было ею. То была акустическая мысль, мысль о начале всякого бытия. То было самовластно-дилетантское использование музыки в целях воплощения мифической идеи. Психоанализ утверждает, будто любовь слагается из совокупности всяческих извращений. И все же она была и есть любовь, самое божественное явление вселенной. Так вот — гений Рихарда Вагнера слагается из совокупности дилетантизмов.
.
Но каких дилетантизмов! Он музыкант такого склада, что даже людей немузыкальных привлекает к музыке. Эзотерикам и аристократам искусства это может показаться предосудительным, но что, если среди этих немузыкальных попадаются люди и поэты, такие, как Бодлер? Для Бодлера встреча с Вагнером явилась не чем иным, как встречей с музыкой. Он немузыкален, он сам писал Вагнеру, что ничего не смыслит в музыке и ничего в ней не знает, кроме нескольких прекрасных композиций Вебера и Бетховена. 'А после встречи — безудержный восторг, вселивший в него честолюбивое стремление, уподобив слово музыке, сравняться при помощи одного лишь искусства слова с Вагнером, что имело важнейшие последствия для французской лирики. Таких прозревших, новообращенных эта неподлинная музыка, музыка для профанов, может разрешить себе; не один строгий ревнитель мог бы позавидовать тому, что она нашла таких последователей, да еще и многому другому. В этой эзотерической музыке налицо многое столь гениальное, столь прекрасное, что все эти различия становятся смешны. Мотив лебедя в «Лоэнгрине» и «Парсифале»; звучание летней лунной ночи в конце второго действия «Мейстерзингеров» и квинтет третьего; аэ^иг'ная часть во втором действии «Тристана и Изольды» и видение Тристана — возлюбленная, шествующая по волнам; музыка Страстной пятницы в «Парсифале» и исполински мощная музыка оркестрового интермеццо между двумя картинами третьего действия; прекраснейший дуэт Зигфрида и Брунгильды в начале «Гибели богов», с народной песенной интонацией «Ради любви к Брунгильде» и потрясающим «Слава тебе, Брунгильда, блистающая звезда»; некоторые части «грота Венеры» в той обработке, которой Вагнер подверг их в пору создания «Тристана», — все это откровения, перед лицом которых абсолютная музыка должна была бы бледнеть от зависти или краснеть от восторга. А ведь я совершенно случайно, произвольно назвал именно эти места. Я точно так же мог бы привести другие или напомнить о том изумительном искусстве, с которым Вагнер изламывает, видоизменяет, переиначивает уже данный в ходе музыкального развертывания мотив, как, например, он это делает во вступлении к третьему действию «Мейстерзингеров» с песнью Ганса Сакса, по юмористической окраске второго акта знакомой нам в качестве грубоватой песни ремесленника, а затем — при появлении ее вновь в этом прологе, озаряющейся неведомой до того поэзией. Или же вспомним ритмическое и звуковое переиначение и новотолкование, которому так называемый лейтмотив веры, уже знакомый по началу увертюры, многократно подвергается в развертывании «Парсифаля», впервые — в пространном рассказе Гурнеманца. Трудно говорить об этих вещах, когда только словом располагаешь для того, чтобы оживить их в памяти. Почему, когда я говорю о музыке Вагнера, в моих ушах начинает звучать такая деталь, всего-навсего арабеска, как технически легко поддающаяся описанию и, в сущности, все же неописуемая фраза валторны, в плаче по Зигфриду гармонично подготовляющая мотив любви его родителей? В такие минуты с трудом различаешь, чем именно восторгаешься, что так глубоко тебя волнует — особое ли искусство Вагнера, которым он один владеет, или сама музыка. Словом, это дивно, — не стыдишься этого слова, такого женственного и восторженного, что одна лишь музыка способна заставить наши уста произнести его...
Для духовной сущности вагнеровской музыки характерны некая пессимистическая отягощенность, некое медлительное томление, изломанность ритма, борьба за искупление красотой, возникающая из сумрачного хаоса; то музыка тяжко обремененной души, говорящая мускулам не о прелести пляски, а выражающая борение, неуклонное продвижение и устремление вперед, всю мучительность которого чрезвычайно метко охарактеризовал острослов Ленбах, как-то сказавший Вагнеру: «Ваша музыка — да ведь это путешествие в царство небесное на ломовой подводе». Но она не только это. Духовная ее отягощенность не должна заставлять нас забывать обо всем том гордом, бойком и веселом, что она также способна выразить, хотя бы в рыцарских сюжетах, — в мотивах Лоэнгрина, Штольцинга и Парсифаля, в столь близком природе, русалочно-шаловливом очаровании терцетов дочерей Рейна, в пародийном остроумии и ученом задоре вступления к «Мейстерзингерам», в подлинной живости веселого народного танца в третьем их действии. Вагнеру все по плечу. Он, как никто другой, умеет характеризовать, и постичь его музыку как средство характеристики — значит проникнуться беспредельным перед ней восхищением. Это искусство чрезвычайно выразительно, даже гротескно; оно, как того требует театр, предполагает некоторую дистанцию, но его отличает такое богатство вымысла, далее в мелочах, такая живая способность проницать явления, находить подлинно соответствующую им речь и жестикуляцию, какие до тех пор в подобной законченности никогда еще не встречались. Вершин своих оно достигает в отдельных фигурах: в созданном из музыки и слова образе Летучего Голландца, окруженного водной пустыней, обреченного на вечные муки и в беспредельном отчаянии носящегося по грохочущим волнам. В стихийной импульсивности и коварной привлекательности Логе. В подмигивании и ужимках карлика, воспитавшего Зигфрида; в сумасбродстве и дурашливой злобе Бекмессера. В этом всемогуществе, этой всесущности превращения и воплощения нам предстает дионисийский актер с его искусством, со всем многообразием этого искусства; он не только меняет человеческую маску — он глубоко проницает природу, его голос звучит в грозе и буре, в шелесте листьев и сверкании волн, в полыхании огня и в радуге. Шапка-невидимка Альбериха — универсальный символ этого гения маскировки, этого всемогущества подражания, в жалкой жизни жабы, в прыганье и ползанье ее раздутого тела проявляющихся столь же естественно, как в безмятежном существовании витающих в облаках Асов.
Из этого беспредельного могущества характеристики и возникает для Вагнера возможность созидать произведения столь различные духовно, как лютеровски-грубые, подлинно немецкие «Мейстерзингеры»— и алкающий смерти, опьяненный смертью мир «Тристана». Каждое из этих творений он обособляет от других, каждое созидает из некоего первобытного основного звука, отличающего его от всех других, вследствие чего в пределах творчества Вагнера в целом, которое поистине представляет собой личный его космос, каждое отдельное произведение в свою очередь — подобное же законченное звездное единство. Между ними существуют музыкальные соприкосновения и связи, в которых намечается органическое единство целого. В «Парсифале» порою слышатся отзвуки «Мейстерзингеров»; в музыке «Летучего Голландца» можно уловить предвестия «Лоэнгрина», а в его тексте встречаются такие предварения религиозного экстаза языка «Парсифаля», как слова: «Бальзам священный моим ранам —слова и клятвы те струят»; воплощенные в Ортруде языческие припоминания в христианском «Лоэнгрине» звучат уже по-нибелунговски. Но в целом каждое из этих творений стилистически обособлено от других, притом так, что тайна стиля в его значении как ядра искусства, как едва ли не самого искусства, становится очевидной, ясно ощутимой; тайна эта — в сочетании личного с вещным. В каждом своем творении Вагнер предстает нам подлинно самим собой, каждый такт никем, кроме него, не мог быть создан, каждый отмечен ни с чем не схожей его печатью, формулой его личности. И, однако, каждое из них в то же время является отдельным своеобразным стилистическим мирком, представляет собой плод вещного вчувствования, уравновешивающего личное своеволие и в нем растворяющегося. Величайшим чудом в этом отношении, быть может, является творение семидесятилетнего Вагнера — «Парсифаль», непревзойденный в смысле познания и воплощения отдаленнейших миров, жутких и святых, — самое, даже в сравнении с «Тристаном и Изольдой», предельное из созданного Вагнером, свидетельствующее о такой способности духовного и стилистического приноровления, которая в конце его творческого пути превосходит все, к чему он перед тем приучил нас, — произведение, насыщенное звуками, которым вновь и вновь внимаешь с тревогой, любопытством и зачарованностыо.
«Скверная история! — пишет Вагнер в мае 1859 года из Люцерна, в разгаре работы над третьим действием «Тристана», целиком его захватившей, вселившей в него тревогу за образ Амфортаса, давным-давно им задуманный и вынашиваемый. — Скверная история! Представьте себе, ради всего святого, что случилось! Вдруг я ужасающе ясно увидел, что Амфортас — мой Тристан третьего действия, в немыслимом его усилении». Это «усиление» — не зависящий от воли Вагнера, основанный на самоуглублении закон жизни и роста его творчества. В течение всей своей жизни он изощрялся в воплощении терзаний и искупительных мук Амфортаса. Они уже заключены в тангейзеровом «Как тяжела грехов мне ноша!», в «Тристане» они, казалось бы, претворились в non plus ultra («крайнюю форму», лат.) потрясающего выражения, но в «Парсифале» ему — он с ужасом в этом убеждается — придется еще превзойти достигнутое в «Тристане», подвергнуть его «немыслимому усилению». Суть дела — в предельном заострении воплощаемых эмоций, к которым бессознательно подыскиваются все более убедительные и углубленные поводы и ситуации. Отдельные темы, отдельные произведения — ступени, все более и более мощные вариации некоего единства, замкнутого в себе, сферически-округленного творения целой жизни, которое подверглось постепенному «становлению», но в известном смысле было налицо с самого начала. Отсюда переплетенность отдельных замыслов, переход одного замысла в другой, вследствие чего художник, чье искусство отмечено этой чертой, этим духовным своеобразием, никогда не бывает исключительно занят той задачей, тем произведением, над которым работает в данный момент, а одновременно несет и бремя всего остального, постоянно отягощая им свое творчество. Появляется некая мнимая (лишь наполовину мнимая) планомерность творческой работы, распределяемой на всю жизнь, настолько продуманная, что Вагнер в 1862 году, в разгар работы над «Мейстерзингерами», в письме из Бибриха к Бюлову как нельзя более определенно предсказывает, что «Парсифаль» будет последним его творением, — предсказывает ровно за двадцать лет до того, как осуществил этот замысел. Ведь предварительно ему придется, чтобы заполнить все пробелы выработанного им творческого плана, написать «Зигфрида», в созидание которого еще вклиниваются «Тристан» и «Мейстерзингеры», — и всю «Гибель богов» целиком. «Кольцо» тяготеет над ним в продолжение всей его работы над «Тристаном», а «Тристану» с самого начала сопутствует замысел «Парсифаля». Этот замысел живет в Вагнере позднее, когда он трудится над пышущими подлинно лютеровским здоровьем «Мейстерзингерами» – в сущности, он дожидается воплощения с 1845 года, когда в Дрездене впервые был поставлен «Тангейзер». 1848 год отмечен эскизом в прозе, где миф о Нибелунгах сконцентрирован в драму – записью «Смерти Зигфрида», которой суждено разрастись в «Гибель богов». Но в промежутке – с 1846 по 1847 год – был создан «Лоэнгрин» и уже вчерне разработан сюжет «Мейстерзингеров», являющихся юмористическим подобием «Тангейзера», дополняющей его сатировской игрой. Именно в сороковых годах у Вагнера – в середине этого десятилетия ему исполнилось тридцать два года – целиком сложился тот план творческой работы всей его жизни, от «Летучего Голландца» до «Пасифаля», который он выполнял в течение последующих четырёх десятилетий, до 1881 года, в одно и то же время внутренне созидая все сови произведения,тесно между собой переплетённые. Его творчество не поддаётся точному хронологическому членению. В нём можно, правда, установить последовательность во времени, но вместе с тем оно целиком существует с самого начала. Последнее из его творений, задолго им предугаданное как последнее, создано им в шестьдесят девять лет и для него знаменует освобождение, ибо оно означает конец, исход, завершённость и за ним ничего уже не грядёт. Работая над ним, старец, как художник полностью выразивший себя, только над ним и работает; исполинский труд закончен, и сердце, продержавшееся в течение семидесяти лет при величайших испытаниях, может наконец в последний раз сжаться – и остановиться навсегда.
.
Бремя этого творчества покоится на плечах отнюдь не столь дюжих, как плечи св. Христофора, на организме столь хилом и по внешним признакам и по субъективным ощущениям, что никто не осмелился бы предположить, что он долго продержится и донесёт эту ношу до намеченной цели. Это натура, ежеминутно находящаяся на грани изнеможения, для которой хорошее самочувствие является редкой случайностью. В тридцать лет этот человек, страдающий запорами, меланхолией, бессонницей, одержимый всяческими немощами, находится в таком состоянии, что часто в унынии садится и плачет с четверть часа. Ему не верится, что он доживет до завершения «Тангейзера». В тридцать шесть лет ему кажется дерзостным безумием взяться за осуществление «Нибелунга», а в сорок он «ежедневно думает о смерти» — он, кто почти семидесяти лет от роду напишет «Парсифаля».
Его терзает нервный недуг — одна из тех не поддающихся точному определению болезней, которые в течение долгих лет изматывают человека и грозят сделать ему жизнь невыносимой, хотя и не являются «опасными для жизни». Их жертвы имеют веские основания не веровать в эту «неопасность», и Вагнер в своих письмах не раз высказывает убеждение, что смерть его близка. В тридцать девять лет он пишет сестре: «Мои нервы вконец расшатаны; быть может, благоприятное изменение внешних условий жизни способно будет искусственно отдалить мою смерть на несколько лет; но это могло бы удаться лишь в отношении самой смерти, — моего умирания оно уже не может задержать». В том же году: «Я болен тяжелой нервной болезнью и после многократных попыток добиться радикального излечения уже не надеюсь на выздоровление... Моя работа — единственное, что меня поддерживает; но нервы головного мозга у меня настолько истощены, что я никогда не могу работать больше двух часов в день, и даже эти два часа я обретаю только в том случае, если после работы мне удается опять-таки на два часа прилечь и наконец ненадолго уснуть». Два часа в день. Из столь незначительных, по крайней мере временами, каждодневных единиц составился гигантский труд жизни, в непрестанной борьбе с быстрым иссяканием сил осуществленный благодаря изумительной упругости, которая вновь и вновь на краткий срок оживляла гаснувшую энергию, — упругости, морально определяемой словом терпение. «Истинное терпение гауэр восхваляет терпение как подлинное мужество. Целостное сочетание — телесное и нравственное — .упругости, терпения и мужества, вот что дало этому человеку возможность выполнить свою миссию, и нелегко назвать жизнь другого художника, на которой так хорошо можно было бы исследовать своеобразную жизненную конституцию гения, сочетание чувствительности и силы, хрупкости и выносливости, сочетание противоборства и неожиданных для самого себя преодолений, являющееся источником великих созданий и, что весьма понятно, с течением времени порождающее ощущение постоянной подвластности некоей задаче, одаренной собственной независимой волей.
Да, здесь трудно не поверить в некую метафизическую собственную волю творческого замысла, стремящегося к осуществлению, — замысла, для которого жизнь его творца лишь орудие, лишь жертва, добровольная и в то же время вынужденная. «Поистине, чувствуешь себя омерзительно, но все же чувствуешь себя» — вот одно из зачастую встречающихся в письмах Вагнера проявлений недоуменного и жестокого самовысмеивания. И он не преминул установить причинную связь между своим недугом и своим творческим бытием, истолковать и то и другое, и искусство и болезнь, как некое тяжкое испытание и в итоге сделал попытку ускользнуть от него — наивнейшим образом, посредством водолечения. «Год тому назад, — пишет он, — я находился в водолечебнице, с намерением стать совершенно здоровым в своих ощущениях человеком. Моим сокровеннейшим желанием было обрести здоровье, которое должно было дать мне возможность совершенно избавиться от пытки всей моей жизни — от искусства; то была последняя отчаянная борьба за счастье, за подлинную, благородную радость жизни, которая выпадает лишь на долю человека здорового и сознающего свое здоровье». Какое детски путанное и за душу хватающее признание! Холодными обливаниями хочет он излечиться от искусства, то есть от той конституции, которая делает его художником! Отношение Вагнера к искусству, року его жизни, настолько сложно, что с трудом поддается выяснению, оно сплетено из величайших противоречий, порою кажется, что он бьется в логической их безысходности, словно в тенетах.
«И за такое дело мне еще взяться? — восклицает сорокашестилетний Вагнер, взволнованно изъяснив духовные и символические вехи своего замысла «Парсифаля».— Да еще написать музыку к этому? — Покорнейше благодарю! Пусть этим занимается кто хочет; я уж лучше буду держаться подальше!» — Надо вслушаться в звучание женского кокетства в этих словах, полных трепетной страсти созидать, полных сознания, что ему не уйти от этой задачи, и вожделеющего отнекивания! Мечта отделаться от искусства, обрести вместо обязанности творить право жить, быть счастливым вновь и вновь встречается в его письмах; слова «счастье», «благородное счастье», «благородное наслаждение жизнью» проходят в них как представление, контрастирующее с представлением о бытии художника, — проходят наряду с пониманием искусства как способа замены всякого непосредственного наслаждения. На тридцать девятом году жизни он пишет Листу: «Я с каждым днем приближаюсь к верной гибели; я живу неописуемо презренной жизнью. Истинное наслаждение жизнью мне совершенно незнакомо; для меня наслаждение жизнью, любовью (это слово им подчеркнуто) существует лишь в моем воображении, но не в моем опыте. Вот почему моему сердцу пришлось вселиться в мой мозг, моей жизни — стать сплошь искусственной; лишь как поборник искусства, как «художник» могу я еще жить, «художник» поглотил во мне «человека». Нужно признаться, что никогда еще искусство так резко, в таких сильных словах, с такой исполненной отчаяния откровенностью не было охарактеризовано как наркотическое средство, гашиш, paradis artificial («искусственный рай», франц.). И на Вагнера находят приступы бурного возмущения против этого искусственного бытия, как, например, в письме к Листу, написанном в день, когда ему исполнилось сорок лет. «Я хочу вновь принять крещение; не хочешь ли быть моим восприемником? Я хотел бы, чтобы мы оба затем немедленно удрали отсюда куда глаза глядят!.. Пойдем со мной бродить по белу свету, хотя бы даже нам пришлось погибнуть в буйном веселье, разбиться насмерть, ринувшись в бездну!» Вспоминается Тангейзер, крепко обхватывающий руками Вольфрама, чтобы увлечь его за собой в грот Венеры, ибо в самом деле — здесь фантазия, распаленная лишениями, представляет себе мир, «жизнь» как подлинный грот Венеры, как царство сплошного в богемном вкусе и гибели в бешеном разгуле, — словом, всего того, чему заменой, как это ни «презренно», должно служить искусство.
Но наряду с этим или, вернее, в странном сплетении с этой ролью искусство предстает ему в совершенно ином свете, а именно: как средство избавления, успокоительное лекарство, как состояние чистого созерцания и безволия, ибо так философия научила его взирать на искусство, а он с духовной покладистостью и готовностью поучаться, свойственными людям искусства, охотно следует за ней. Разумеется, он идеалист! Смысл жизни не в ней самой, а в чем-то высшем, в созидательной задаче, в творчестве, и то, что ему приходится «непрестанно, вечно вести борьбу за самое необходимое», что он «нередко в течение долгих периодов вынужден думать лишь о том, как обеспечить на ближайшее время покой вовне и средства к существованию и для этого, наперекор себе, подделываться под воззрения тех, кто могут помочь мне устроиться, казаться им совсем иным, чем я есть на самом деле, — это ведь, в сущности, возмутительно... Все эти заботы вполне естественны и легко переносимы для тех, кто на жизнь смотрит как на самоцель и для кого забота о добывании всего необходимого — самая лучшая приправа к призрачному наслаждению тем, что они с таким трудом добывают; вот почему никто не может вполне уразуметь, отчего такому человеку, как я, все это так абсолютно противно, хотя оно и является общим уделом, законом жизни для всех. Но кто же способен по-настоящему с полной ясностью понять, что изредка встречаются люди, взирающие на жизнь не как на самоцель а как на неизбежное средство к достижению высшей цели?» (Письмо к Матильде Везендонк из Венеции, октябрь 1858 года.) И в самом деле, позорно и крайне унизительно быть вынужденным так ожесточенно бороться за жизнь и выпрашивать на нее подаяние, когда смысл жизни видишь отнюдь не в ней самой, а в ее высшей, вне ее и над нею лежащей цели, в искусстве, в творчестве, ради которого необходимо завоевать себе мир и спокойствие и которое в свою очередь представляется художнику озаренным светом мира и спокойствия. Но когда ценою больших усилий наконец обретена свобода для самого важного — для работы, требующей известных, нелегко выполнимых условий, тогда лишь начинается подлинный, неустанный добровольный труд высшего порядка, труд творческий — борьба в искусстве, сущность которого для художника во время низменной борьбы за жизнь была окутана обманными иллюзиями философии, ибо оно отнюдь не является дарующим избавление познанием и чистым «представлением», а высшим, судорожным напряжением воли, подлинным, истинным «колесом Иксиона».
Чистота и покой, — глубокое томление по ним живет в груди Вагнера, дополняя в нем жажду жизни, и в те периоды, когда оно, как реакция на тщетное его стремление к непосредственному наслаждению жизнью, берет верх, искусство — этим его отношение к нему еще более усложняется — начинает казаться ему главным препятствием к спасению. Здесь в силу внутреннего сродства повторяется толстовское осуждение искусства, жестокое отрицание собственного природного дара во имя «духа». Ах, это искусство! Как прав был Будда, когда называл его наивернейшим путем к погибели! В письме к Матильде Везендонк из Венеции, от 1858 года, Вагнер, поведав ей о своем замысле буддийской драмы «Победители», пространно и взволнованно это излагает. Буддийская драма — вот в чем загвоздка. Здесь налицо contradictio in adjecto («противоречие между определяемым словом и определением», лат.) — это он осознал, увидев, как трудно дать драматургическое, а главное — музыкальное воплощение человека, достигшего полной свободы, отрешившегося от всех страстей, каким является Будда. То, что чисто, свято, умиротворено познанием, то мертво для искусства, святость и драматическое действие несовместимы — это ясно! И счастье, что Шакьямуни Будде, если верить источникам, приходится разрешить последнюю проблему, пройти через последний конфликт: преодолев самого себя, он, отказавшись от суровых своих правил, решается принять девушку-чандалку Савитри в общину святых. Благодарение богу, — этим создается возможность использовать Будду для искусства. Вагнер ликует — и в ту же минуту начинает испытывать муки совести от сознания тесной связанности искусства с жизнью, силы его соблазна. Разве он сам себя не уличил в том, что стремится к созданию драмы, а не к достижению святости? Если б не искусство, он мог бы стать святым; не отрешившись от искусства, он никогда им не станет. Каких вершин познания, каких глубин прозрения он бы ни достиг, они лишь будут обогащать его как поэта, как художника, они предстанут перед ним в чарующих образах, исполненные увлекательной наглядности, и он не сможет устоять против искушения воссоздать их. Мало того, сама эта бесовская антиномия является для него источником наслаждения! Она омерзительна, но приковывает его интерес, немедленно возбуждает в нем сильнейшее желание воплотить ее в психологически- романтической опере, тут же, в письме к Матильде Везендонк, довольно отчетливо им намечаемой. Письмо является эскизом этой оперы. Гете сформулировал положение: «Ничто так прочно не отрешает от мира, как искусство, и ничто так прочно с ним не связывает, как искусство». Посмотрите, во что это проникнутое бесстрастной признательностью утверждение превратилось в мозгу романтика!
Но чем бы, в сущности, ни было искусство, какой бы обманчивой заменой подлинного чувственно полного счастья и в то же время помехой спасению души оно ни являлось, творческая работа Вагнера благодаря той могучей упругости, которою он сам в душе не может не восхищаться, непрестанно подвигается вперед: партитуры громоздятся друг на друга, — вот что важно. Этот человек так же мало ведает, как по настоящему следует жить, как и все мы; жизнь движет им и вымогает у него то, что ей от него нужно, — его творчество, нимало не тревожась о том, как бьется он в тенетах своих мыслей. «Дитя! Этот «Тристан» будет страшен! Последний его акт!! Боюсь, что оперу запретят, если только плохое исполнение не превратит ее целиком в пародию, — лишь посредственные представления могут меня спасти! От подлинно хорошего исполнения люди должны обезуметь, иначе я себе этого не могу представить! Вот до чего я дошел! Горе мне! А ведь работа сейчас шла так хорошо! Прощай!» Это — записка к Везендонк. Записка отнюдь не буддийская; в ней слышатся раскаты хохота, исступленного, полного ужаса перед злодейственной силой воплощаемого художником опьянения жизнью. В этом рыхлом меланхолике, чья болезнь, в сущности, являет собой лишь небюргерскую разновидность здоровья, таятся огромные запасы веселости, неистощимой жизненной силы. Какое живительное обаяние должно было исходить от этого человека, о личном общении с которым Ницше до конца своих дней неизменно говорил как о счастливейшем событии всей своей жизни! Прежде всего он обладает драгоценной способностью отбрасывать пафос и тешить себя банальным; по окончании напряженнейшей работы целого дня он любил объявлять, что веселость, свойственная человеку, вступает в свои права, — объявлял об этом в Байрейте неизменным возгласом: «А теперь— ни одного серьезного слова!», обращенным к сотрудникам-артистам, людям сцены, нужным ему для театрального воплощения его созданий и с которыми он, сам насквозь проникнутый духом театра, хороший товарищ по колеснице Феспида, отлично ладит, несмотря на большую интеллектуальную между ними дистанцию. Его простодушный мангеймский друг Геккель, первый пайщик Байрейта, весьма красочно рассказывает об этом. «Очень часто,— пишет он,— в личном общении Вагнера с его артистами проявлялась самая непринужденная веселость; во время последней репетиции под рояль в зале гостиницы «Зонне» он из озорства прямо-таки стал на голову». Это снова напоминает о Толстом, — я имею в виду эпизод, когда престарелый пророк, душевно сокрушающийся христианин, из озорства, вызванного избытком жизненных сил, вскакивает на плечи своего шурина Берса. Как все теноры и рассыпающие соловьиные трели певицы, что величают его «маэстро», он — человек искусства, то есть человек по своему внутреннему складу веселый и готовый увеселять других, устроитель развлечений и празднеств, тем самым являющий глубокую и весьма полезную для собственного здоровья противоположность тому, кто стремится к познанию истины, постигает ее и судит, кто ко всему относится абсолютно серьезно, как Ницше. Следует согласиться с тем, что художник, даже если он обитает в самых возвышенных сферах искусства, никогда не бывает абсолютно серьезным человеком, что для него важно впечатление, производимое на других, забава высокого свойства, и что трагедия и фарс имеют один и тот же корень. Внезапный поворот, перемена освещения превращают одно в другое: фарс скрыто воплощает трагическое, а трагедия в конечном итоге — возвышенная шутка. Серьезность художника — тема, наводящая на размышления. Она может показаться и несколько щекотливой, а именно — поскольку сомнению подвергается интеллектуальная серьезность человека искусства, подлинная искренность отношения его к истине, ибо художественная его серьезность, знаменитая «игра всерьез» — самая чистая, самая трогательная форма величия человеческого духа — не подлежит сомнению.
Но что следует думать о том другом ее виде, например об интеллектуальной серьезности учения, которыми он проникся и которые проповедовал в старости, эта зиждущаяся на причащении философия святости, достигаемой воздержанием от «угождения плоти» в каком бы то ни было смысле, эти идеи и убеждения, «воплощением» которых является драма о «Парсифале» и сам «Парсифаль», — несомненно, коренным образом отрицают, вычеркивают и опровергают ту пронизанную полнотой чувственного восприятия революционность молодого Вагнера, которою определяются атмосфера и идейное содержание «Зигфрида». Она уже не существует, не должна была бы существовать. Если бы художник относился с подлинной интеллектуальной серьезностью к этим новым, поздно им постигнутым, воспринятым, вероятно, как конечные, истинам, его произведения более раннего периода должны были бы им быть признаны ошибочными, греховными, тлетворными — и посему быть отвергнуты им и сожжены собственной рукою творца, дабы человечество отныне никогда уже не подвергалось их воздействию, препятствующему его спасению. Но он и не помышляет об этом. Ему и в голову это не приходит! Кто бы решился уничтожить такие прекрасные творения? Все они продолжают сосуществовать, все они по-прежнему исполняются, ибо художник чтит свою биографию. Он отдается на волю различных физиологических настроений, соответствующих различным возрастным периодам, и воплощает их в творениях, которые духовно противоречат друг другу, но все прекрасны и заслуживают быть сохраненными. Постижение новых «истин» для художника означает лишь новые импульсы в игре его творческих сил, новые возможности выражения. Он верит в них, принимает их всерьез ровно настолько, насколько это нужно, чтобы дать наивысшее их воплощение и таким образом достичь наиболее сильного воздействия. Следовательно, его отношение к ним очень серьезно — серьезно до слез: но все же не до конца, а посему — ничуть не серьезно. Его серьезность как художника несомненна, это «игра всерьез» — и она абсолютного свойства. Его серьезность как мыслителя не абсолютна, ибо она — серьезность в целях игры. Вот почему художник в среде приятелей обнаруживает готовность трунить над своей торжественностью — до такой степени, что Вагнер оказался способным послать Ницше «Парсифаля» с надписью: «Рихард Вагнер, непременный член духовной консистории». Но Ницше не умел по-приятельски и по-художнически относиться к таким вещам; подобная добродушно подмигивающая покладистость не могла поколебать его смертельно-скорбной, абсолютной серьезности, примирительно ее настроить по отношению к подлаживающейся под католицизм христианственности творения, о котором он сказал, что оно является дерзновеннейшим вызовом музыке. Когда Вагнер в ребяческой ярости швырял брамсовскую партитуру с рояля на пол, Ницше подобные вспышки вражды художника к другому художнику и желания властвовать над всеми воспринимал с глубокой болью и говорил: «В эту минуту Вагнер не был велик!» Когда Вагнер, чтобы дать себе роздых, ударялся в тривиальность, дурачился и рассказывал саксонские анекдоты, Ницше краснел за него, и мы понимаем стыд, который в нем вызывало это быстрое изменение духовного уровня, хотя что-то в нас, быть может наша причастность к искусству, настойчиво твердит, что нам не следует так уж близко принимать это к сердцу.
.
Знакомство с философией Артура Шопенгауэра является решающим событием в жизни Вагнера: ни одна из предшествовавших духовных встреч, хотя бы даже с Фейербахом, не может с ней сравниться ни в плане личного, ни в плане исторического ее значения; ибо для него, кому она была «предуказана» в подлинном смысле этого слова, она означала высшее утешение, глубочайшее самоутверждение, духовное избавление, и несомненно лишь она дала его музыке смелость окончательного становления. Вагнер не очень-то верил в существование дружбы; в его глазах и в согласии с его опытом, грани индивидуализации, разобщающие души, делали одиночество непреодолимым, исчерпывающее понимание — невозможным. Здесь он чувствовал себя понятым и сам понимал до конца. «Мой друг Шопенгауэр» «Дар небес моему одиночеству», «Но есть у меня Друг, — так он пишет, — которого я люблю все больше и больше. Это мой старый, такой угрюмый на вид и все же столь глубоко любвеобильный Шопенгауэр! Какую ни с чем не сравнимую отраду я испытываю когда, раскрыв эту книгу, внезапно, в какие бы дали, в какие бы глубины меня ни завлекли мои чувствования, целиком нахожу себя отображенным в ней, вижу себя в ней предельно понятым, ясно выраженным — но только на том совершенно ином языке, который быстро превращает страдание в предмет постижения... Это — прекраснейшее взаимное воздействие, взаимопроникновение, дарующее величайшее счастье; и это воздействие вечно ново, ибо оно все усиливается... Как хорошо, что старик ничего не знает о том, чем он является для меня, чем я благодаря ему стал для себя самого».
Для людей творческих счастье такого взаимного узнавания возможно лишь тогда, когда они говорят на разных языках; иначе оно становится катастрофой, гибельной альтернативой: «либо он, либо я». В такой связи, как в данном случае, — между двумя разными категориями, между образом и мыслью, — исключено соперничество, обычно возникающее при смежности, при тождестве душевных конституций. Изречение: «Pereant qui ante nos nostra dixerunt» («Да погибнут сказавшие наши слова раньше нас», лат.) здесь так же утрачивает силу, как и вопрос художника у Гете: «Что за жизнь, коль есть другие?» Напротив —то, что этот другой живет, воспринимается как помощь в злосчастье, как благостное, нежданное подтверждение и разъяснение собственного бытия. По всей вероятности, никогда во всей летописи душ человеческих потребность смятенного, терзаемого человека—потребность художника — в духовной поддержке, в оправдании и наставлении мыслью не была удовлетворена столь чудесным образом, как это выпало на долю Вагнера благодаря Шопенгауэру.
«Мир как воля и представление»! Сколько воспоминаний о собственном, юношеском опьянении духа, о собственном, пронизанном меланхолией и благодарностью, счастье восприятия вызывает мысль о связи творчества Вагнера с этой мир критикующей и мир упорядочивающей книгой, этой поэмой постижения и художественной метафизикой инстинкта и духа, воли и умозрения, этим изумительным этически-пессимистически-музыкальным созданием мысли, столь глубоко родственным, по времени и по сущности, партитуре «Тристана»! Вновь звучат старые слова, которыми юноша в романе описывает соприкосновение своего героя с Шопенгауэром:
«Неведомое чувство радости, великой и благодарной, овладело им. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение, узнавая, как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь, — покорил, чтобы осудить. Это было удовлетворение страдальца, до сих пор стыдливо, как человек с нечистой совестью, скрывавшего свои страдания перед лицом холодной жестокости жизни, страдальца, который из рук великого мудреца внезапно получил торжественно обоснованное право страдать в этом мире — лучшем из миров, или, вернее, худшем, как неоспоримо и ядовито доказывалось в этой книге». Они вспоминаются вновь, старые слова благодарности и восхваления, обращенные к тому, что, однажды осчастливив нас духовно, с тех пор продолжало в нас трепетать, — к пробуждению среди ночи, в блаженном, внезапном испуге, от недолгого глубокого сна, — ощущая при этом зерно зароненной в душу метафизики, в которой «я» предстает как нечто призрачное, смерть — как освобождение от несовершенства этого «я», мир —как порождение воли, навечно ей принадлежащее, покуда, безраздельно себя постигнув, она не придет к отрицанию самой себя и ей не откроется путь от заблуждения к сладостному покою. Это — послесловие, учение о мудрости и о спасении, присовокупленное к философии воли, по всей своей концепции имеющей мало общего с мудрой умиротворенностью и покоем; выработать такую концепцию могла лишь натура, терзаемая своей необузданностью, натура полевая и увлекающаяся, в которой, правда, влечение к очищению, одухотворению, познанию было столь же сильно, как и темное влечение, ее обуревавшее; это эротическая концепция мира, настойчиво объявляющая пол средоточием воли, проповедующая эстетическое отношение к вещам, бескорыстное, чистое созерцание их как единственную возможность на время избавиться от пытки страстей. Волею, вожделением вопреки разумению порождена эта философия, являющаяся интеллектуальным отрицанием воли, и в этом ее аспекте Вагнер — глубоко, братски родственная творцу ее натура — воспринял ее и с величайшей признательностью освоил как выражение его собственного «я», целиком его воспроизводящее. Ведь его натура тоже слагалась из бурно влекущей, мучительной воли к могуществу и наслаждению — и стремления к нравственному очищению и спасению, из страстей — и жажды покоя; и философская система, представляющая собой своеобразнейшую смесь тяготения к покою и героики, вещающая, что «счастье» — химера, и заставляющая понять, что самое высшее, наиболее достойное устремления — это жизнь героическая; каким блаженством должна была она явиться для Вагнера, какое подлинное, словно для него созданное отображение самого себя он должен был в ней усмотреть!'
У присяжных исследователей творчества Вагнера встречается высказываемое ими совершенно всерьез утверждение, будто философия Шопенгауэра не оказала влияния на «Тристана». Это свидетельствует о поразительном отсутствии понимания. Правда, в архиромантическом прославлении мрака, которым проникнуто это творение — возвышенно-болезненное, истомляющее и чарующее, глубоко пронизанное всеми самыми пагубными и самыми высокими тайнами романтики, — нет ничего специфически шопенгауэровского. Чувственно-сверхчувственные интуиции «Тристана» имеют более отдаленные истоки; они восходят к томимому страстью, больному чахоткой Новалису, который пишет: «Тот союз, что переходит за грань смерти, есть брачный союз, дарующий нам подругу для мрака ночного. В смерти любовь всего слаще; для того, кто любит, смерть — брачная ночь, тайна сладостных мистерий»; Новалису, кто в «Гимнах к ночи» печально вопрошает: «Ужель всегда должно к нам утро возвращаться? Ужель земного власти нет конца? И никогда любви сокрытой жертва не возгорится пламенем навек?» Тристан и Изольда называют друг друга «обреченными ночи» — дословно как у Новалиса; он говорит о тех, кто «ночи обречен». Но еще более удивительна в плане истории человеческого духа, еще более характерна для происхождения, для эмоциональной и идейной основы «Тристана» его связь с книжкой, пользующейся дурной славой, — с «Люциндой» Фридриха Шлегеля, где сказано: «Мы бессмертны, как сама любовь. Я уже не могу сказать «моя любовь» или «твоя любовь», ибо они одинаковы и слиты воедино, являясь в равной мере любовыо — и взаимностью. То брачный союз, единение и слияние навеки наших душ, не только для того, что мы называем этим миром, или же тем, иным, но для мира истинного, неделимого, безыменного, беспредельного, для всего нашего бессмертного бытия и вечной жизни»...
Вот духовное выражение волшебного, смертоносного напитка любви: «И поэтому я был бы готов, если бы мне показалось, что тому пришло время, так же радостно и так же легко осушить с тобой чашку лавровишневой воды, как последний бокал шампанского, который мы выпили вместе с тобою, с теми же, мною произнесенными словами: «Так выпьем же остаток нашей жизни!» — И мысль о смерти в любви здесь выражена: «Я знаю, и ты не захотела бы меня пережить, ты последовала бы в могилу за опередившим тебя супругом, из любви и страсти к нему ринулась бы в пылающую бездну, куда ввергает индусских женщин изуверский закон, грубой преднамеренностью и насилием оскверняя и разрушая хрупкие святыни доброй воли». Есть и упоминание об «энтузиазме сладострастия», что является подлинно вагперовским определением. Есть тут —
В прозе — эротически-квиетистское восхваление и превозношение сна, райского покоя, священной тишины бездеятельности, в «Тристане» претворившееся в нежно убаюкивающий мотив валторны, в пение разделенных на партии скрипок. И разве не сделал я ценной находки для истории литературы когда в молодые еще годы, подчеркнув в любовном диалоге Люцинды и Юлиуса пронизанную экстазом реплику «О вечное томление! Но придет наконец время, когда бесплодная тоска, призрачный блеск дня потускнеет и угаснет и в великой ночи любви наступит вечный покой!» — написал на полях: «Тристан». Мне и по сей день неизвестно, было ли еще кем-нибудь отмечено, в качестве бессознательной реминисценции, это дословное заимствование, это повторение тождественного, так же как мне неизвестно, знают ли филологи, что заглавие «Веселая наука» взято Ницше из шлегелевской «Люцинды».
В своем культе ночи, в своем отвержении дня «Тристан» и помимо воздействия Шопенгауэра предстает нам как творение романтическое, глубоко связанное с мироосмыслением и мироощущением романтиков. Ночь — родина и область романтики, ею открытая; всегда романтики противополагали ее как истинное благо мишурному блеску дня — царство чувствительности противопоставляли разуму. Никогда не забуду впечатления, которое на меня при первом моем посещении дворца Линдергоф, любимого местопребывания душевнобольного и алкавшего красоты короля Людвига, произвело это преобладание ночи, выраженное там в пропорциях покоев. Жилые, предназначенные для дневного пребывания помещения небольшого дворца, расположенного в чудесном горном уединении, невелики и сравнительно скромны, заурядные комнаты. Лишь один зал в нем, огромных сравнительно размеров, отделан позолотой, обтянут шелком обставлен с громоздкой пышностью. Это — спальня с увенчанной балдахином, роскошно убранной кроватью, по обе стороны которой высятся золотые канделябры: настоящий дворцовый зал для празднеств, посвященных ночи. Это подчеркнутое преобладание «более прекрасной половины суток», ночи, исконно, подлинно романтично; романтика связуется со всеми проявлениями материнско-мифического культа луны, который с самой ранней поры человечества противостоит почитанию солнца — религии мужского, отцовского начала; и вагнеровский «Тристан» вовлечен в обширный круг этих магических соотношений.
Но если те, кто пишут о Вагнере, утверждают, что «Тристан и Изольда» — любовная драма и как таковая выражает высшее утверждение воли к жизни, а посему не имеет ничего общего с учением Шопенгауэра; если они настаивают на том, что ночь, воспетая в «Тристане», — ночь любви, когда «нас услаждает страсти нега», и что, если уж в этой драме и заключена какая-либо философия, она — прямая противоположность учению об отрицании воли, а посему это творение Вагнера совершенно независимо от метафизики Шопенгауэра, — то все это свидетельствует о разительном отсутствии психологического чутья. Отрицание воли — нравственно-интеллектуальный компонент философии Шопенгауэра, не имеющий существенно важного в ней значения, являющийся второстепенным. Система Шопенгауэра — философия воли, эротическая в своей основе, и, поскольку она такова, «Тристан» весь насыщен, весь пропитан ею. Факел, угасание которого в начале второго действия мистерии акцентируется в оркестре мотивом смерти; экстатический возглас влюбленных: «Даже тогда я есмь мир», с мотивом томления взмывающий ввысь из глубин психологически и метафизически живописующей музыки, — разве все это не от Шопенгауэра? В «Тристане» Вагнер поэтизирует миф в той же мере, как и в «Кольце»; в драме любви он тоже дает воплощение мифа о сотворении мира. В I860 году он пишет из Парижа Матильде Везендонк: «Нередко я с тоской взираю на страну Нирваны. Но из Нирваны быстро передо мною вновь возникает Тристан; вы знаете буддийскую теорию возникновения мира: легкое облачко омрачает ясную гладь небес», — тут он вписывает те четыре хроматически устремляющиеся ввысь ноты, которыми начинается и на которых замирает его opus metaphysicum («метафизический труд», лат.): gis-a-ais-h... — «Оно ширится, сгущается, и наконец весь мир вновь предстает мне плотной, непроницаемой массой». Это — та символически выраженная в звуках мысль, которую принято называть «мотивом томления» и которая в космогонии «Тристана» знаменует собой праначало всего, как знаменует его в «Кольце» es-dur'ный мотив Рейна. Это — «воля» Шопенгауэра, воплощенная в том, что Шопенгауэр называл «средоточием воли», в любовном вожделении. И это мифическое отождествление сладостно-мучительно-творческого начала, впервые омрачившего пустынную гладь небес, с половым влечением — настолько подлинно шопенгауэровское, что упорное отрицание этого приверженцами Вагнера становится чудаческим упрямством.
«Как могли бы мы умереть, — спрашивает Тристан в первоначальном, еще не облеченном в стихотворную форму наброске, — что можно было бы в нас умертвить, что не являлось бы любовью? Разве не все в нас дышит любовью? Разве может когда-нибудь прийти конец нашей любви? Разве мог бы я разлюбить любовь? И если б я захотел умереть — могла бы умереть во мне любовь, когда в любви все наше бытие?» Здесь безусловное поэтическое утверждение тождества воли и любви. Любовь здесь взята взамен воли к жизни, воли, которую смерть не обрывает, а освобождает от давящих оков индивидуации. Кстати, весьма интересно проследить, в какой духовной неприкосновенности миф о любви воплощен в Тристане, как он оберегается от какого бы то ни было замутнения и искажения моментами историческими и религиозными. Такие обороты, как «Да будет он низвергнут в ад или вознесен на небеса», имеющиеся в наброске, при разработке его отпадают, В этом, несомненно, выражается сознательное затенение всего исторического, но лишь в духовно-философском его аспекте и ради него. Это затенение изумительным образом сочетается с интенсивнейшей яркостью в живописании ландшафта, народности, культуры, с невероятной по верности ощущения и мастерству выполнения стилистической спецификой; нигде вагнеровское искусство мимикрии не торжествует столь таинственным образом, как в стилесозидании «Тристана»: оно не ограничивается областью языка, не исчерпывает себя в речевых оборотах, подсказанных духом рыцарской эпики, а в силу некоей интуитивной гениальности искуснейшим образом внедряет кельтское начало, англо-нормано-французскую атмосферу в словесно-звуковой комплекс, пронизывает его ими насквозь с интенсивностью вчувствования, позволяющей нам постичь, какими тесными, родственными узами душа Вагнера связана с Европой периода, предшествовавшего образованию национальных государств. Только в плане спекулятивной мысли Вагнер, служа эротическому мифу, лишает его историчности и своевольно его очеловечивает. Ради мифа он исключает небо и преисподнюю. Отсутствует христианство, которое в соответствии с исторической обстановкой должно было быть дано. Совершенно отсутствует религия. Нет и бога — никто его не называет, никто не взывает к нему. Есть одна лишь эротическая философия, атеистическая метафизика, космогонический миф, в котором мотив томления созидает мир.
Здоровые формы, в которых проявляется болезненность натуры Вагнера, болезненные формы, в которых проявляется ее героизм — лишь один из примеров всей противоречивости и сложности этой натуры, ее дву- и многозначности, обнаружившейся для нас уже в слиянии столь, казалось бы, противоположных по существу своему начал, как мифичность и психологичность. Понятие романтического в конечном счете наиболее подходит для приведения всех этих черт к одному знаменателю; но именно это понятие столь сложно, отливает таким множеством красок, что скорее означает отказ от определения, нежели само определение.
Только у романтиков совершается слияние народности с предельной изысканностью, изощреннейшим «коварством» (любимое выражение Э.-Т.-А. Гофмана) приемов и воздействий, только романтизм делает возможным то «двойное видение», о котором по поводу Вагнера говорит Ницше и которое способно воздействовать и на самые грубые, и на самые утонченные натуры — (конечно, бессознательно, пошлостью было бы приписать это спекулятивному расчету), — с тем результатом, что создания, подобные Лоэнгрину, способны приводить в восхищение такие умы, как творца «Цветов зла», и вместе с тем непритязательно служить возвышению сферы народного, наподобие Кундри вести двойную жизнь — в качестве опер, исполняемых по воскресеньям, и как предмет нежной любви многоопытных, душевностраждущих и переутонченных людей. Романтическое, особенно в союзе с музыкой, к которой оно испытывает глубочайшее тяготение, без которой не могло бы предельно себя проявить, не знает исключительности, «пафоса дистанции». Оно никому не заявляет: «Это не для тебя»; какою-либо из своих сторон оно доступно самому последнему из людей, и пусть не говорят нам, что так обстоит дело со всяким великим искусством. И в других случаях великому искусству удавалось соединить наивное с возвышенным; но умение осуществить сочетание простодушно-сказочного с предельно-изощренным, мастерски воплотить в оргию чувственного опьянения и сделать «всенародной» высшую духовность, облечь глубокую гротескность в таинство причащения и бряцающее волшебство превращений, в дерзновеннейшей эротической опере слить воедино искусство и религию и создать в центре Европы для подобных благочестиво-нечестивых действ некий театральный Лурд и грот чудес для удовлетворения религиозной похоти позднего, упадочного мира,— все это мог сделать только романтик, в сфере классически гуманного, подлинно благородного искусства это было бы совершенно немыслимо. Перечень действующих лиц «Парсифаля» — что за компания, как посмотришь! Какое нагромождение предельной, предосудительной необычайности! Волшебник, оскопленный собственной рукой; необузданнейшее, двойственное существо, помесь искусительницы и кающейся Магдалины, в каталептическом состоянии переходящее из одной формы своего бытия в другую; томящийся в любви верховный жрец, чающий, что девственный отрок принесет ему искупление; этот отрок, наконец, блаженный и нищий духом, совершенно иного склада, чем бойкий юноша, пробудивший от сна Брунгильду и в своем роде тоже являющий нам некую разновидность причудливого своеобразия, — все они напоминают жуткую мешанину, сваленную в пресловутой карете Ахима фон Арнима, где есть и странная колдунья-цыганка, и мертвец Медвежья Шкура, и Голем в образе женщины, и фельдмаршал Корнелий Непот, являющий собою корень, выросший под виселицей Альрауны. Сравнение это покажется кощунственным — и все же проникнутые торжественностью персонажи «Парсифаля» восходят к тому же приверженному крайностям романтическому вкусу, что и диковинные существа, выведенные у Арнима; в новеллистическом оформлении это легче было бы распознать. Музыка, наделяющая их мифичностью и святостью, маскирует это родство, и, будучи порождено патетическим ее духом, это творение предстает нам не в обличье жуткого и шутливого озорства, как у писателей-романтиков, а как некое высокорелигиозное, священное действо.
Раздражение, вызываемое отливающей всеми цветами радуги проблемой искусства и артистичности, меланхолическая восприимчивость к искоркам иронии, перебегающим от сущности художественного творения к его воздействию, — все это типично для юных лет, и мне вспоминается ряд связанных с этим юношеских моих высказываний, характерных для моей, прошедшей сквозь критику Ницше, страсти к Вагнеру, — высказываний, продиктованных тем «омерзением постижения», которое, как наиболее родственное юности, заимствовалось мною у Ницше. Он заявляет, что к партитуре «Тристана» относится с «некоторой опаской». «Кто, — восклицает он,— кто осмелится назвать то слово, которым подлинно определяются «ardeurs» («пыл», франц.) музыки «Тристана»? Сейчас несколько стародевичий комизм подобной постановки вопроса гораздо острее ощущается мною, чем в ту пору, когда мне было двадцать пять лет. Ибо какая же тут требуется особая «смелость»? Чувственность, безграничная, спиритуализованная, мистически претворенная и выраженная с предельным натурализмом, неутолимо алкающая чувственность — вот оно, это слово, и невольно спрашиваешь себя, откуда вдруг взялась у «свободного, столь свободного духом» Ницше эта ненависть к половому влечению, на которое он в своем вопросе намекает в порядке психологического доноса? Разве тем самым не выпадает он из взятой на себя роли защитника жизни против нравственности? Разве это не выдает в нем с головою пасторского сына, моралиста до мозга костей? К «Тристану» он применяет созданную мистиками формулу «сладострастия ада». Что же, достаточно сравнить мистику «Тристана» с мистикой гетевского «блаженного томления» и его «высшего соития», чтобы убедиться в том, как мало у Вагнера общего со сферою Гете. Но насколько более страждущим душевное состояние Запада стало за девятнадцатый век по сравнению с эпохой Гете — этому, в конечном итоге, сам Ницше не менее наглядный пример, чем Вагнер. Воздействие того же порядка, что и музыка Вагнера, наркотизирующее и вместе с тем возбуждающее, оказывает ведь на нас и море, и, однако, никто не счел бы уместным перед лицом моря вдаваться в психологические разоблачения. То, что дозволено великой стихии, должно быть дозволено и великому искусству, и когда Бодлер, далекий от позитивной нравственности, с простодушным восхищением художника говорит о том «экстазе, слиянии воедино блаженства и постижения», в который его повергает вступление к «Лоэнгрину», когда он прославляет «грезы, подобные сновидениям после опия», и «неизъяснимое упоение, царящее в этих возвышенных сферах», он, несомненно, проявляет гораздо больше свободомыслия и жизненной отваги, чем Ницше с его сомнительной «опаской». Правда, его определение вагнеромании как некоей «не слишком тяжелой эпидемии чувственности, которая не сознает своей природы», остается в силе, и, быть может, именно это «неосознание своей природы» является тем, что при мысли о романтической популярности Вагнера раздражающе действует на некую нашу потребность в ясности, — является, быть может, причиной решения: «лучше держаться подальше».
.
Драматургическая одаренность Вагнера, его способность в одном и том же образе сочетать воедино народное и изощренно-духовное ярче всего проявляется в герое революционного периода его жизни, в Зигфриде. «Трепетный восторг», который будущий директор байрейтского театра, как он сам рас« сказывает в своей статье «Об актерах и певцах», однажды испытал на представлении театра марионеток,— этот восторг принес свои плоды, нашел выражение в инсценировке «Кольца», являющегося благодаря своему незатейливому герою идеалом народного увеселения. Кто может отрицать разительное сходство Зигфрида с размахивающим дубинкой миниатюрным персонажем наших ярмарочных балаганов? Но в то же время он ведь сын небесного светила и олицетворение северного мифа о солнце, что, однако, не мешает ему являть собой, в-третьих, нечто весьма современное, принадлежащее девятнадцатому веку, а именно — свободного человека, разбивающего древние скрижали и обновляющего развращенное общество, быть Бакуниным, как не обинуясь всегда его называет веселый рационалист Бернард Шоу. Да, он ярмарочный скоморох, бог солнца и революционизирующий общество анархист в одном лице — большего театр не может требовать; и это искусство запутывания выражает лишь природу самого Вагнера, запутанную и во всех отношениях поддающуюся весьма различным истолкованиям. Он не поэт и не музыкант, он — нечто третье, в чем оба эти свойства сливаются так, как это ни до, ни после него не встречалось: он Дионис театра, умеющий и поэтически обосновывать и как бы рационализировать грандиозные события, им воплощаемые. Но поскольку он, следовательно все же художник слова, он является им не в современном его значении, не как носитель культуры и литератор, не благодаря своему интеллекту и сознанию, а в ином, гораздо более задушевном и сокровенном смысле: его силами, через его посредство творит душа народа, он лишь ее рупор и орудие, лишь «чревовещатель господень», как удачно сострил Ницше. Во всяком случае, таково правильное и ортодоксальное понимание его поэтического творчества, и некая огромного размаха неуклюжесть, под углом зрения культуры и литературы в нем обнаруживающаяся, как будто подтверждает это понимание. Однако при этом он способен был написать: «Нельзя недооценивать значение мысли; произведение, творимое бессознательно, принадлежит периодам, весьма от нас отдаленным; произведение периода наивысшего расцвета образованности не может быть создано иначе, как сознательно». Это сокрушительнейший удар, нанесенный теории чисто мифического происхождения его творений, и в самом деле, в них наряду со всем тем, что отмечено печатью вдохновения и слепо-блаженного восторга, столько глубоко и тонко продуманного, насыщенного намеками, сознательно сплетаемого воедино; наряду с титаническим зодчеством, зодчеством богов, — столько умного, кропотливейшего труда, что вера в созидание им в трансе, вслепую, оказывается совершенно несостоятельной. Тот исключительный ум, что проявляется в его критических работах, правда, служит не подлинно интеллекту, «не истине», не отвлеченному познанию, а его собственному творчеству, которое ему надлежит разъяснить, оправдать, которому он должен проложить путь, вовнутрь и вовне, — но тем не менее ум этот является неоспоримым фактом. Возможно еще предположение, что в процессе творчества ум был совершенно выключен, уступил место нашептываниям «души народа». Но чувство, говорящее нам, что не могло этого быть, находит подтверждение в целом ряде более или менее достоверных данных о его жизни, свидетельствующих о том, что очень часто упорству приходилось заступать место вдохновения, что, по собственному его признанию, лучшее из всего, им написанного, ему удалось создать лишь с помощью размышления; это же подтверждается и приписываемыми ему высказываниями такого примерно содержания: «Ах, я делал попытку за попыткой, думал, размышлял без конца, пока наконец не достигал того, что мне было нужно».
Словом, его творчество как поэта и художника находится в соприкосновении с периодами, «весьма от нас отдаленными», а вместе с тем — принадлежит временам, когда большие полушария мозга давным-давно уже прошли путь развития, приведший к современному интеллекту. Этому соответствует являющаяся подлинной его сущностью нерасторжимая слитность демонизма с бюргерством, как и у Шопенгауэра, который именно в этом отношении особенно близок ему и по эпохе, и по всему своему складу. Небюргерская приверженность его натуры к крайностям, которую он старается приписать музыке, говоря: «Она-то и превращает меня в человека, выражающегося возгласами, и восклицательный знак, в сущности — единственный знак препинания, способный меня удовлетворить, когда я покидаю мир звуков!»— эта приверженность сказывается в восторженном характере всех его душевных состояний, в частности депрессивных; она обнаруживается вовне, в его судьбе (ведь судьба — лишь выявление характера) — в его разладе с миром, его истерзанной, гонимой, судорожной, из стороны в сторону швыряемой жизни, драматико-лирическнй рассказ о которой он вкладывает в уста Зигмунда, глашатая его страданий: «Меня влечет к мужчинам, к женщинам влечет; сколько их ни встречал, где бы их ни находил, друга ли, жену ль обрести хотел — всегда впадал в немилость, злосчастье тяготело надо мной. Какой бы ни дал правильный совет — всегда недобрым он другим казался; в чем зло, погибель видел я — другие с радостью к тому стремились. Куда бы в странствиях своих я ни пришел — везде вражда меня встречала; везде одну я злобу находил. Блаженства я алкал и пробуждал страданье...» Здесь каждое слово подсказано личным опытом и нет ни одного, которое в точности не подходило бы к его собственной жизни; в прекрасных этих стихах высказано то, что он в прозе пишет Матильде Везендонк: «... ибо мир, в сущности говоря, не хочет меня принять». Или ее мужу: «...мне так трудно устроиться в этом мире, тут не обойтись без тысячи ошибок... Трудно со мной... Вот почему мир и я, — мы противостоим друг другу', как два туполобых упрямца, и, конечно, тот из нас, у кого череп послабее, должен им платиться, отчего, вероятно, и происходят частые у меня нервные головные боли». Эта проникнутая отчаянием шутливость дополняет его облик. Лет сорока восьми он упоминает о той «необузданной веселости», которою в Веймаре тешил всех, — «по той простой причине, что стоит ему только стать серьезным, как он немедленно обмякает, впадает в расслабленность». «Это — дурное свойство моего темперамента, приобретающее надо мной все большую власть; пока я еще сопротивляюсь ему изо всех сил, ибо у меня ощущение, что когда-нибудь я неминуемо изойду слезами!» Какое излишество в слабости! Какая эксцентричность в духе капельмейстера Крейслера! Страстные взлеты и падения своей личности, буйный, трагический ее пафос он, стилизовав их в мрачнейших тонах, придав им черты обреченности и мучительной тоски по искуплению и покою, рельефнее всего отразил в «Летучем Голландце», чудесно их использовав для оживления этой фигуры и придания ей красочности; большие интервалы, на которых построена партия «Голландца», уже сами по себе, и притом характернейшим образом, создают впечатление волнения и смятенности.
Нет, этот человек — не бюргер в смысле какой-либо размеренности и приспособленности. И все же его окружает атмосфера бюргерства, атмосфера его века, та, что окружает и Шопенгауэра, философа капитализма: морализирующий пессимизм, настроение распада, под звуки музыки совершающегося, подлинно характеризующие девятнадцатый век и сочетающиеся в нём с монументальностью, с большими масштабами, словно величие – неотъемлемая принадлежность морали. Повторяю, его окружает атмосфера бюргерства, притом не только в этом общем её значении, но и ещё в другом, гораздо более личном плане. Я не буду настаивать на том, что в 1848 году он выступал как революционер, как поборник интересов среднего класса, был, следовательно, бюргером политически активным; он был таковым на свой особый лад – как художник и в интересах своего творчества, творчества революционного, для которого он от ниспровержения существующего строя ждал идейных выгод, улучшения условий своей деятельности. Но, при всей его гениальности и одержимости, в некоторых более интимных чертах его личности ясно обнаруживается бюргерское, – так, например, когда он после переезда в приют на зелёном холме, близ Цюриха, с большим удовлетворением пишет Листу: «Всё устроено на долгий срок, сообразно моим желаниям и потребностям, все вещи размещены так, как нужно. Мой кабинет обставлен с известной тебе педантичностью и элегантным комфортом; рабочий стол стоит у большого окна…» Как педантичный порядок, так и элегантность окружения, необходимые ему для работы, соответствуют тому элементу обдуманности и мудрого усердия в созидании, которого его творчество, при всём своём демонизме, отнюдь не лишено и который является подлинно бюргерскою его чертою; более поздняя его самоинсценировка в облике «немецкого мастера» с дюреровским беретом на голове внутренне, по природному его складу была вполне оправдана, и было бы несправедливо за всем тем вулканическим, огненно-расплавленным, что раскрывается нам в его творчестве, недооценивать старонемецкий его элемент, восходящий к старинным нашим мастерам, – простосердечное терпение, преданность своему ремеслу и вдумчивую усидчивость, которые в нем также налицо и столь же для него существенны. Он пишет Отто Везендонку: «Сообщу вам вкратце о ходе моей работы. Когда я взялся за неё, я был исполнен надежды, что смогу весьма быстро её закончить… Но отчасти я был настолько поглощён всевозможными заботами и огорчениями, что неоднократно и подолгу не в состоянии был работать; отчасти же я вскоре так глубоко и незыблемо проникся своеобразным отношением к нынешним моим работам (которые я никак не могу выполнить на скорую руку, а лишь постольку могу испытывать от них удовлетворение, поскольку каждая мельчайшая их деталь исходит из удачного замысла и соответствующим образом мною разработана), что мне пришлось отказаться от того поспешного, эскизного выполнения, которое представлялось единственно возможным в такой краткий срок». Это та самая «честность и добросовестность», которые Шопенгауэр, как он утверждает, унаследовал от своих предков-купцов и перенес в сферу духовных ценностей. В этом сказываются та основательность, та бюргерская аккуратность работы, что выражена и во внешнем виде вагнеровских партитур, не впопыхах набросанных, а чрезвычайно тщательно и разборчиво написанных, в частности – в партитуре самого экстатического его творения, «Тристана», являющейся образцом чёткого, искусного письма.
Нельзя, однако, отрицать, что пристрастие Вагнера к бюргерской изысканности с течением времени извращается, начинает принимать характер, уже ничего общего не имеющий с немецким шестнадцатым веком, с духовным укладом старинных мастеров и дюреровским беретом, а показывающий нам девятнадцатый век в дурном его интернациональном выражении, короче говоря: характер буржуазности. Его личность как человека и художника отмечена не только старо-бюргерскими, но и современно-буржуазными свойствами: тяготением к изобилию и роскоши, к богатству, к шелкам, к бархатам, к пышности эпохи грюндерства – черта прежде всего частной его жизни, но сильно сказавшаяся в сфере духовного и художественного. В конце концов вагнеровское искусство и макартовский букет (с павлиньими перьями), украшавший обтянутые шелком, раззолоченные гостиные буржуазии того времени, – явления одной и той же эпохи, восходящие к одним и тем же эстетическим воззрениям; известно ведь, что Вагнер намеревался заказать Макарту декорации своих опер. В письме к госпоже Риттер он пишет: «С недавних пор мною снова овладело пристрастие к роскоши (правда, те, кто могут себе представить, что именно она призвана мне заменить, сочтут меня очень нетребовательным); по утрам я располагаюсь посреди всей этой роскоши и работаю; это – самое необходимое, и утро без работы для меня как день в аду…» Не знаешь, что тут более бюргерское: любовь к роскоши – или же то, что утро без работы кажется таким невыносимым.
Но здесь мы уже приближаемся к тому пределу, за которым буржуазное перерождается в нечто жутко-артистичное, дерзновенное, предосудительное, принимает характер трогательной, возбуждающей почтительный интерес болезненности, к которой слово «бюргерское» никак уж не применимо, – приближаемся к своеобразнейшей области стимуляции, которую Вагнер в письме к Листу описывает иносказательно, в очень сдержанных выражениях: «Ибо меня обуревает истинное отчаяние каждый раз, когда я вновь берусь за искусство; но уж если это так, уж если я снова должен отрешиться от действительности, снова броситься в волны художественного вымысла и находить удовлетворение в мире, созданном моей мечтой, то по крайней мере моя фантазия должна обрести помощь, моё воображение должно найти опору. Не могу я при такой работе жить как собака, спать на соломе и услаждать себя сивухой. Я должен испытывать ласкающие меня ощущения, для того чтобы мой дух мог совершить мучительно трудное дело – сотворить несуществующий мир. Когда я теперь вновь взялся за план «Нибелунгов» и окончательное их воплощение, многое должно было соединиться, чтобы привести меня в необходимое, артистически-блаженное настроение; я должен был получить возможность жить лучше, чем жил в последнее время». Формы его «пристрастия к роскоши», «ласкающие ощущения», которые должны служить опорой его воображению, хорошо известны. Это те подбитые гагачьим пухом шёлковые халаты, в которые он кутается, те атласные, отделанные позументом и расшитые гирляндами роз одеяла, под которыми он спит, – осязательные проявления расточительной пышности, ради которой он влезает в многотысячные долги. Пёстрые атласные одеяния – вот та роскошь, которою он облекается, прежде чем сесть за работу, за своё мучительно тяжёлое дело. Нарядившись в них, он обретает «артистически-блаженное настроение», необходимое ему для воссоздания подлинной героики Севера, возвышенной символики природы, для воплощения златокудрого, солнцеподобного отрока-храбреца, у раскалённой наковальни кующего меч победы, – картины, пробуждающей в сердцах немецких юношей энтузиазм, горделивое чувство доблести и мощи.
Этот контраст ровно ничего не доказывает. Гнилые яблоки в столе Шиллера, от запаха которых Гёте едва не лишился чувств, ни для кого не являются аргументом против подлинного величия его творчества. Условия, в которых нуждался для своей работы Вагнер, случайно требовали бОльших затрат, – впрочем, можно себе представить иные способствующие созиданию костюмировки, хотя бы монахом или солдатом, более подходящие для сурового служения искусству, чем атласные халаты. И как здесь, так и там мы имеем дело с проявлениями жуткой, но безобидной патологической артистичности, только мещан способной приводить в смятение. Правда, есть и разница, отрицать которую невозможно. В творениях Шиллера нет следа тех гнилых яблок, чей отзывающий тленом запах стимулировал его. Но кто может отрицать, что атлас так или иначе ощущается в творениях Вагнера? Бесспорно: в воздействии, оказываемом творениями Шиллера, в том, как они овладкли человечеством, идеалистическая воля Шиллера проявляется более целостно и однозначно, чем отразились в характере воздействия произведений Вагнера этические взгляды их творца. Его убеждения как реформатора в области культуры были враждебны искусству как роскоши, направлены против роскоши в искусстве; он провозглашал очищение, одухотворение оперы, в его понимании целиком покрывающей понятие искусства вообще. Он презрительно именовал Россини «сладострастным сыном Италии, блаженно улыбающимся в лоне величайшей роскоши», итальянскую оперную музыку называл «непотребной женщиной», французскую – «кокеткой с холодной улыбкой на устах». Но разве эта обусловленная художественными и поэтическими мотивами ненависть, это отвращение нашли себе вполне соответствующее выражение в самом его искусстве и в приёмах его воздействия, в том, посредством чего оно пленило и подчинило себе буржуазное общество Европы и всего мира? Разве не было всё то сладострастно-упоительное, чувственно-ранящее, чувственно-томящее, дурманящее, гипнотизирующе-обволакивающее, плотно и пышно простёганное – словом, всё то изысканно-роскошное, что есть в его музыке – разве не было всё это именно тем, что так неудержимо привлекало в нём буржуазную публику? В своей песенке об удалых парнях, один из котрых губит себя разгульной жизнью, Эйхендорф, желая красочно охарактеризовать обаяние соблазна, говорит о «волнах, утехи сулящих, что рокочут в блистающей бездне морской». Это великолепно сказано. Только романтик способен так выразительно живописать грех, и в этом отношении Вагнер в «Тангейзере» и «Парсифале» сравнялся с ним. Разве его музыка – не такая же «блистающая бездна», откуда, подобно вертопраху Эйхендорфа, восстаёшь, «как старец дряхл и истомлён»?
Если на эти вопросы приходится хоть частично давать утвердительный ответ, от, очевидно, здесь налицо то, что называют «трагической антиномией» – один из тех контрастов, одно из тех сложно переплетённых противоречий личности Вагнера, уяснить которые мы стремимся. Этих противоречий много; а так как немалая их доля касается взаимоотношения между воззрениями и воздействием, то весьма важно заранее подчеркнуть полную, достойную уважения чистоту и идеальность его художественной личности, оградить её от всяческих кривотолков, могущих возникнуть в силу массового характера успеха его творчества, волшебного действия его на массы.
Всякая критика, даже та, что исходила от Ницше, склонна приписывать воздействие художественного творения сознательным, обдуманным намерениям художника, намекать на некий расчёт, что совершенно ошибочно и в корне неверно. Как будто художник не творит именно то, чем он сам является, что ему самому кажется благим и прекрасным, как будто возможно творчество, воздействие которого на других служило бы для художника предметом насмешки, а не было бы воздействием, прежде всего им самим на себе испытанным! Быть может, слово «безвинность» менее всего применимо по отношению к искусству, и всё же художник безвинен. Такой грандиозный успех, какого «сумела добиться» музыкальная драма Вагнера, никогда вообще не выпадал на долю большого искусства. Через пятьдесят лет после смерти великого мастера земной шар ежевечерне окутан звуками его музыки. Это искусство театрального воздействия и потрясения масс содержит в себе элементы империалистического стремления к покорению мира, элементы мощно возбуждающие, деспотические, демагогически подстрекающие, наводящие на заключение, что подлинным их источником является честолюбие, безграничная кесарская воля к власти. В действительности дело обстоит иначе. «Одно лишь скажу вам, – пишет Вагнер из Парижа любимой женщине, – только в чувстве моей чистоты я черпаю силу. Я чувствую себя чистым: в глубинах моей души живёт сознание, что я всегда творил для других, никогда – для себя; свидетели тому – нескончаемые мои страдания». Если это не правда, то во всяком случае настолько правдоподобно, что скептикам остаётся только умолкнуть. Он не знает честолюбия. «Величию, славе, народовластию – всему этому, – уверяет он Листа, – я не придаю ровно никакого значения». Даже народовластию? Народовластию, быть может, и да, – в том смягчённом облике народности старонемецких мастеров, в каком оно в плане идеала, блаженной мечты, романтически-демократической настроенности художника и художества так простосердечно, с такой искренней напыщенностью выражено в «Мейстерзингерах».
Да, народность Ганса Закса, против которого «вся школа» бессильна, ибо весь народ носит его на руках – блаженная мечта. В «Мейстерзингерах» налицо заигрывание с народом как верховным судьёй в делах искусства, заигрывание, являющееся прямой противоположностью аристократической строгости суждений и характерное для вагнеровского демократически-революционного толкования искусства, для его концепции искусства как звучащего полным голосом призыва к народному чувству – концепции, резко отличной от прежнего классически-придворного, надменного его понимания, которое Вольтер выразил словами: «Когда чернь начинает рассуждать – всё пропало». И этот художник при чтении Плутарха испытывает, в противоположность Карлу Моору, отвращение к «великим людям» и ни за какие блага не согласился бы быть одним из них. «Гадкие, мелкие, приверженные насилию натуры, ненасытные, ибо они лишены всякого внутреннего содержания, а потому вынуждены беспрерывно искать пищу вовне и пожирать всё, что их окружает. Пусть не морочат мне голову этими великими людьми! Я стою за изречение Шопенгауэра: «Не тот достоин преклонения, кто завоевал мир, а тот, кто преодолел его!» Избави меня бог от этих «великих» натур, всех этих Наполеонов и ми подобных». Но кем был он сам – тем, кто преодолел мир, или тем, кто его завоевал? Что выражено в его акцентированной темой мировой эротики формуле: «Даже тогда я есмь мир», – завоевание или преодоление?
Всякая попытка приписать ему честолюбие в том или ином ходячем его значении оказывается несостоятельной уже потому, что по условиям и обстановке того времени он первоначально творил без малейшей надежды оказать немедленное воздействие, без всяких на то перспектив, творил в созданных его фантазией просторах, для воображаемой идеальной сцены, об осуществлении которой в то время и думать не приходилось. Поистине, не о тонком расчёте, не о честолюбивом использовании реальных возможностей свидетельствуют признания вроде тех, что содержатся в письме к Отто Везендонку: «Мне стало ясно: только когда я творю, я полностью есмь то, что я есмь. Постановка моих произведений будет уделом иного, более просветлённого времени, которое мне ещё надлежит подготовить моими страданиями. Даже наиболее родственным мне друзьям, людям искусства, последние мои работы внушают одно лишь изумление: для надежды ни у кого из них, близко стоящих к сценической жизни нашего искусства, не хватает мужества. Я встречаю у них лишь грусть и сострадание. И ведь они совершенно правы. Ничто так, как они, не убеждает меня в том, как чудовищно я опередил всё меня окружающее». Никогда одиночество гения, его оторванность от действительной жизни не были выражены такими за душу хватающими словами. Но разве мы, люди последних десятилетий девятнадцатого века и первой трети двадцатого, эпохи мировой войны и начала разложения позднего капитализма, мы, живущие в дни, когда искусство Вагнера владеет театром большого масштаба и в совершеннейшем исполнении восторжествовало во всех центрах цивилизованного мира – разве мы можем считаться представителями того «более просветлённого» времени, которое ему надлежало «подготовить своими страданиями»? Разве человечество периода, простирающегося с 1980 по 1933 год, стоит так высоко, что грандиозный успех, искусством Вагнера у него обретённый, может служить показателем величия и истинности этого искусства?
Не будем задавать вопросов. Проследим, как величие этого искусства проявляется в том, что оно пытается пойти навстречу притязаниям реального мира, приноровиться к нему – и не может этого достичь. Задумает ли он, себе и людям для отдыха и забавы, в искреннем стремлении к лёгкости и удобопонятности, незначительную комическую оперу, сатировскую игру к «Тангейзеру», – она перерастёт в «Мейстерзингеров». Возьмётся ли за создание оперы в итальянском духе, мелодичной, лирически-напевной, с немногими действующими лицами, несложной по инсценировке, – замысел, казалось бы, легко осуществимый, под его рукой претворяется в «Тристана». Не может художник умалить себя, даже если он того хочет, не может он себя изменить; он творит то, что он собою являет, и искусство являет нам правду – о художнике.
.
Итак, грандиозная мировая действенность этого искусства, поскольку речь идёт о личности Вагнера и об истоках этой действенности, подлинно духовного и возвышенного свойства. Такова она прежде всего в силу высокого уровня этого искусства, ничего так глубоко не презирающего, как эффект, как «действие без причины», а затем – потому, что всё то империалистическое, демагогическое, подчиняющее себе массы, что в нём есть, прежде всего следует понимать полностью вне жизненной практики, отвлечённо, как осуществимое лишь при коренном, революционном изменении реальных условий, и в особенности проявляется эта художественная «безвинность» там, где сложно инструментированная воля к воодушевлению выражена в призыве к нации, в виде восхваления и превозношения немецкого духа, как это делается хотя бы в «Лоэнгрине» через посредство «немецкого меча» короля Генриха, или в «Мейстерзингерах» – в форме простодушных речений Ганса Сакса. Совершенно недопустимо истолковывать националистические жесты и обращения Вагнера в современном смысле – в том смысле, который они имели бы сегодня. Это значит фальсифицировать их и злоупотреблять ими, пятнать их романтическую чистоту.
Идея национального объединения в ту пору, когда Вагнер включил её в качестве глубокого объединяющего элемента в своё творчество, иначе говоря – до того, как она претворилась в жизнь, – пребывала в героической, исторически оправданной стадии своего существования, была прекрасна, жизненна, подлинно необходима, проникнута поэзией и разумом, имела ценность для будущего. Когда в наши дня басы с целью произвести, кроме музыкального, ещё и патриотическое впечатление, тенденциозно подают прямо в партер стихи о «немецком мече» или же веские, суммирующие всю оперу заключительные слова «Мейстерзингеров»: Пускай падёт союз имперский весь – немецкий дух в искусстве будет жив», – это демагогия. Именно эти слова, которые сразу же вполне определились и имеются уже в конце самого раннего, мариенбадского наброска оперы от 1845 года, свидетельствуют о подлинной духовности вагнеровского национализма, о его чуждости политике, о совершенно анархическом равнодушии к государственности, только бы сохранилось одно: духовно-немецкое – «немецкое искусство». Что при этом он имел в виду не столько немецкое искусство вообще, сколько своё собственное музыкально-театральное творчество, отнюдь не чисто немецкое, претворившее в себе не только Вебера, Маршнера и Лорцинга, но и Спонтини, и «большую оперу» – это дело другое. В глубине души он, быть может, думал то же самое, что, как укоризненно утверждал Берне, думал Гёте, чуждый патриотизму, как никто другой: «Чего немцам нужно? Ведь они имеют меня!»
Как политик Рихард Вагнер всю свою жизнь был скорее социалистом и утопистом в области культуры, стремившимся к бесклассовому, основанному на любви, освобождённому от роскоши и от проклятия золота обществу, в его мечтах представлявшим собой идеальную публику для его искусства, нежели патриотом, стремящимся к созданию сильного государства. Душою он был с бедными против богатых. Своё участие в революционном движении 1848 года, за которое он поплатился двенадцатилетним мучительным изгнанием, он впоследствии, презрев «постыдный свой оптимизм и, насколько это было возможно, отождествив непреложную данность, империю Бисмарка, с осуществлением своих мечтаний, – всячески старался преуменьшать и отрицать. Он проделал путь немецкого бюргерства: от революции к разочарованию, к пессимизму, к смирившейся духом внутренней жизни под защитой власти. И однако в его сочинениях мы находи следующее, в известном смысле отнюдь не немецкое высказывание: «Кто увиливает от политики, тот сам себя обманывает». Человек, одарённый умом столь живым, столь смелым, не мог не осознавать единства проблемы гуманизма, неразрывной взаимосвязи духа и политики. Он не разделял иллюзий немецкого бюргерства, обманывавшего себя утверждением, что можно быть человеком культурным и в то же время аполитичным – глубочайшее заблуждение, явившееся причиной всех бедствий Германии.
До того, как была провозглашени империя, и до обоснования в Байрейте отношение его к отечеству было отношением человека одинокого, непонятого, отринутого, – было пронизано критикой и насмешкой. «Ах, какой энтузиазм во мне вызывает Немецкий союз германской нации! – пишет он в 1859 году из Люцерна, – Только бы святотатец Луи Наполеон не приложил руку к любезному мне Немецкому союзу! Я слишком огорчился бы, превратись он во что-то иное!» Тоска по родине, терзавшая его в пору изгнанничества, по возвращении, под влиянием личного опыта, сменяется горьким разочарованием. «Жалкая страна, – восклицает он, – и прав некий Руге, сказавший: немец – подлое существо!» Нужно, однако, считаться с тем, что эти злобные отзывы вызваны исключительно нежеланием немцев уверовать в его искусство: они глубоко, по-детски личного свойства. Германия хороша или плоха постольку, поскольку она признаёт его – или отказывает ему в признании. Но ещё в 1875 году он на званом вечере, в ответ на лестное замечание, что немецкая публика ещё никому не оказывала столько внимания, как ему, с желчным юмором сказал: «Как же! На паи подписались султан и египетский хедив».
То, что он всё же, в противоположность Ницше, сумел в совершившемся вследствие бисмарковских войн восстановлении империи усмотреть исполнение своих желаний как немца; то, что «империю», для которой Ницше не находил достаточно страстных выражений хулы, он был согласен и способен считать подлинной, настоящей почвой для своей созидательной работы – делает честь его сердцу художника. Воскрешение, в масштабе малой Германии, древнегерманской империи – событие, свидетельствовавшее о небывалом в истории успехе, укрепило в Вагнере, по словам его друга Геккеля, веру в развитие подлинно немецкой культуры и искусства, иными словами – в возможности воздействия его художественного творчества, сублимированной оперы. Эта вера вызвала к жизни «императорский марш», вызвала стихотворение, обращённое к немецкой армии, стоявшей на подступах к Парижу – и свидетельствующее лишь о том, что Вагнер без музыки не поэт; вызвала невероятно безвкусную, во всех отношениях выдающую его с головой сатиру на агонизирующий Париж 1871 года, под названием «Капитуляция». Но самым знаменательным ее порождением был манифест «О постановке торжественно-сценического представления «Кольцо нибелунга», в ответ на который последовало одно-единственное заявление о вступлении в число ревнителей Байрейта – всё того же Геккеля, владельца магазина роялей в Мангейме. Противоборство стремлениям и притязаниям Вагнера, боязнь открыто стать на его сторону по-прежнему были сильны; однако с периодом основания империи совпало и основание первого «Вагнеровского общества» и выпуск паёв для финансирования байрейтского театра, началось осуществление задуманного, претворение его в жизнь, изобиловавшее, как это всегда бывает, компромиссами.
Вагнер был в достаточной мере политиком, чтобы связать своё дело с империей, созданной Бисмарком: он видел беспримерный успех, присовокупил к нему свой, и европейская гегемония его искусства стала, в сфере культуры, необходимой принадлежностью политической гегемонии Бисмарка. Великий государственный деятель, с чьим созданием он соединил своё, ровно ничего не смыслил в его творчестве, никогда им не интересовался и считал Вагнера человеком свихнувшимся. Но старик император, тоже ничего во всёмэтом не смысливший, посетил Байрейт и сказал Вагнеру: «Я не думал, что Вы добьётесь своего». Творчество Вагнера было объявлено национальным делом, стало официальной принадлежностью империи и в известной мере осталось связанным с этой чёрно-бело-красной империей, хотя по своей подлинной сущности и даже по своеобразию немецкого духа оно имеет весьма мало общего с каким бы то ни было государством, воплощающим силу и воинственность.
Говоря о противоречивости натуры Вагнера, о сложном сплетении в ней противоположностей, нельзя не коснуться того великого сочетания, сплетения в нём немецкого и всемирного, которое является неотъемлемой чертой этой натуры, абсолютно неповторимой её особенностью, дающей пищу для размышлений. Всегда существовало, существует и теперь немецкое искусство высокого разряда – в частности, я разумею здесь область литературы, – столь безраздельно принадлежащее интимной, родной нам Германии, столь сокровенно, глубинно-немецкое, что оно только в сфере этого «родного» способно, притом весьма благородным образом, воздействовать и вызывать ревностное почитание – и лишено этого свойства в европейском, в мировом масштабе. Это его судьба, как любая другая, и она отнюдь не определяет его ценности. Гораздо менее значительные произведения – изделия демократические, годные всем и всем потребные, с лёгкостью переходят все рубежи, и, поскольку они всем доступны, их повсюду хорошо, слишком хорошо понимают. Но и в произведениях, по достоинству и значению своему стоящих ничуть не ниже этого сокровенно-родного искусства, иногда оказывается капля демократически-европейского елея, открывающая перед ними весь мир, обеспечивающая им понимание во всём мире.
Искусство Вагнера именно таково, с тою лишь разницей, что этого елея в нём не одна лишь капля, а оно пропитано им насквозь. Искусство это – глубоко, мощно, неоспоримо немецкое искусство. Только в недрах немецкой жизни из музыки могла родиться драма, как это, по крайней мере единожды, на вершине творчества Вагнера, в чистейшей, чарующей форме совершилось в «Тристане и Изольде». И немецкими в самом высоком смысле этого слова надлежит назвать поразительную углублённость этого творчества, его склонность к мифичности и тяготение к метафизичности, а главное – глубоко-вдумчивое восприятие им себя самого, высокое и торжественное понимание искусства – вернее сказать, театра – которого оно исполнено и которое от него исходит. При всём том оно доступно всему миру, отвечает запросам всего мира в той степени, в какой никогда ещё не отвечало немецкое искусство высокого разряда, и, из эмпирического явления делая вывод о «воле», в нём обнаруживающейся, о его характере, мы пребываем в кругу излюбленных мыслей творца.
Мне уже приходилось раньше упоминать книгу под названием «Рихард Вагнер как явление культуры», автор которой – иностранец, швед Вильгельм Петерсон-Бергер – высказывает по этому поводу чрезвычайно интересные мысли. Он говорит о национализме Вагнера, о национально-немецком характере его искусства, и попутно делает замечание, что немецкая народная музыка – единственная область, остающаяся вне его синтеза. Правда, продолжает он, иногда Вагнер, как в «Мейстерзингерах» и в «Зигфриде», в целях рельефной характеристики обращается к народному искусству; но оно не является основой и отправной точкой его музыкального творчества, в противоположность Шуману, Шуберту и Брамсу, чьё творчество берёт начало в народной стихии, непосредственно из неё выливается. Необходимо, утверждает Петерсон, проводить различие между искусством народным и искусством национальным: первое характеризуется направленностью вовнутрь, второе – направленностью вовне. Музыка Вагнера более национальна, нежели народна; конечно, многое в ней воспринимается, особенно иностранцем, как немецкое, но при всём том на ней, по выражению шведского критика, несомненно лежит отпечаток космополитизма…
Здесь, как мне кажется, весьма тонко подмечено и истолковано своеобразие немецкого элемента у Вагнера. Да, Вагнер – выражение немецкого, выражение национального, показательное, быть может – слишком показательное. Ибо сверх того, что его творчество является стихийным откровением немецкого духа, оно даёт и сценическое его воплощение, притом своею интеллектуальностью и плакатной действенностью доходящее до гротеска, до пародийности и словно предназначенное для того, чтобы исторгать у трепещущей от жуткого любопытства публики всего мира возглас: «Вот уж это подлинно немецкое!» Итак, при всей мощности и правдивости воплощения Вагнером немецкого склада, он предстаёт в его искусстве по-современному изломанным и распадающимся, пышным, аналитичным, интеллектуальным, и в этом источник его завораживающей силы, присущей ему способности мирового, планетарного воздействия. Искусство Вагнера являет нам самоотображение и самокритику немецкого духа, наиболее сенсационные, какие только можно себе представить; оно способно даже у самого тупого иностранца возбудить интерес ко всему немецкому, и страстное углубление в это искусство всегда в то же время является и страстным углублением в этот дух, критически и вместе с ним пышно им восславляемый. В этом заключается его национализм, но национализм этот до такой степени насыщен европейской артистичностью, что совершенно не поддаётся какому-либо упрощению, иначе говоря – опошлению.
«Вам дано служить делу того, кто в будущем станет знаменитейшим из всех мастеров». Эти слова Шарль Бодлер в 1849 году написал молодому немецкому музыкальному критику, восторженному почитателю Вагнера. Это предсказание изумительно по своей прозорливости и вызвано пламенной любовью, вызвано страстью, порождённой внутренним сродством. И то, что Ницше, не подозревавший о проявлениях этого сродства, сумел его распознать, свидетельствует о его гениальности как критика. В своих «Материалах по делу Вагнера» он пишет: «Если в своё время Бодлер был первым пророком и глашатаем Делакруа, то теперь он, быть может, стал бы первым «вагнерианцем» Парижа. В Бодлере есть многое от Вагнера». Лишь спустя много лет ему попадается на глаза письмо, в котором Вагнер благодарит французского поэта за выраженное им восхищение, и Ницше торжествует. Да, Бодлер, самый ранний поклонник Делакруа, этого Вагнера живописи, и в самом деле оказался первым вагнерианцем Парижа и одним из первых подлинных, глубоко захваченных и проявивших наибольшее понимание вагнерианцев вообще. Его статья о «Тангейзере», появившаяся в 1861 году, была первым решающим, сделавшим эпоху высказыванием о Вагнере и в историческом аспекте осталась самым из них важным. То счастье узнавания самого себя в творческих устремлениях другого художника, которое Бодлер обрёл в музыке Вагнера, он испытал ещё один-единственный раз – когда впервые ознакомился с творчеством Эдгара Аллана По. Оба они, Вагнер и По, божества Бодлера – странное для немецкого слуха сопоставление! Это соседство внезапно показывает нам искусство Вагнера в новом свете, вскрывает ряд духовных взаимосвязей, распознавать которые нас не приучили патриотические его истолкователи. При звуке этого имени перед нами встаёт мир красочный и фантастический, влюблённый в смерть и красоту, мир западно-европейской романтики в последнюю пору её расцвета, мир пессимизма, искушённости в редчайших наркотических снадобьях, мир переутончённой чувственности, упивающийся мыслями о внутреннем единстве разнородных эстетических впечатлений, мечтами Гофмана-Крейслера о взаимосоответствии и сокровенной связи цветов, звуков и ароматов, о мистическом преображении чувств, слитых воедино… В этом мире надо представить себе Рихарда Вагнера, в этом окружении его понять. Он – прославленнейший собрат и товарищ всех этих, от жизни страждущих, приверженных состраданию, алкающих экстаза символистов и поклонников art suggestif («искусства, основанного на внушении», франц.), прихотливо перемешивающих все искусства, испытывающих потребность d'aller au del, plus outré que l’humanite («очутиться по ту сторону, за пределами человеческого», франц.), как сказал Морис Баррес, последний из тех, кто крещён этой водой – поклонник Венеции, Тристанова города, певец крови, сладострастия и смерти, националист в конце своего пути, вагнерианец с начала своей жизни и вплоть до её конца.
То волна ли / вся в сияние?
Иль клубится – благоуханье?
Что-то веет / и колышет…
Глаз ли видит, / слух ли слышит?
Полной грудью / пить ли счастье.
Иль, исчезнув, / млеть в бесстрастье?
В тех созвучьях, / звонких лучах,
Во вселенских / дивных мирах
Разлиться – / расплыться –
День забыть, / ночь любить!
(перевод Вс. Чешихина)
Таково предельное, высшее воплощение этого мира, завершение его и торжество, проникнутое, насыщеннок его духом, чью европейскую, мистически-чувственную артистичность Вагнер и ранний Ницше стилизуют, придавая ей окраску немецкой просвещённости, связывая её с трагедией, вершины которой для них – Эврипид, Шекспир и Бетховен. В более позднее время Ницше, раздражённый некоторой неясностью немецкого мышления в области психологии, покаянно корректировал это толкование, чрезмерно подчёркивая европейскую артистичность Вагнера и высмеивая немецкое его мастерство. Это несправедливо. В Вагнере очень силён подлинно немецкий дух. И то, что романтическое достигло вершины и возымело мировой успех в немецком своём выражении и в обличье преданного своему делу мастерства, было ему предуказано внутренним его складом.
В заключение – ещё несколько слов о Вагнере как мыслителе, о его отношении к прошлому и будущему, ибо и здесь в его характере наблюдается двойственность, сплетение мнимых противоречий, соответствующее контрасту в нём немецкого и европейского. Есть в личности Вагнера черты реакционные – черты, свидетельствующие о тяготении к прошлому и тёмном культе минувшего; пристрастие к мистическому и мифически-пралегендарному, протестантский национализм «Мейстерзингеров» и подлаживание под католицизм в «Парсифале», влечение к средневековью, к рыцарству и придворному кругу, к чудесам и религиозному восторгу – могут быть истолкованы в этом смысле. И однако для того, кто в какой-либо мере ощущает подлинную, сокровеннейшую сущность этого искусства, мощно устремлённого к новаторству, к к изменению, к освобождению, совершенно недопустимо понимать его речь и манеру выражаться буквально, а не как то, что они есть: это – наречие художника, язык иносказательный, сплошь и рядом служащий для выражения совершенно иных, революционных мыслей. Не может дух, обращённый вспять, к благочестивому ли, к жестокому ли прошлому, притязать на этот, при всей своей отягощённости и связанность со смертью, насыщенный жизнью, бурно-прогрессивный творческий дух – на того, кто воспел разрушителя мира, рождённого в свободнейшем любовном союзе; на дерзновенного музыкального новатора, а «Тристане» одной ногой уже ставшего на почву атональности, кого в наши дни, несомненно, назвали бы большевиком в области культуры; на человека, принадлежащего народу, всю свою жизнь искренне отрицавшего власть, деньги, насилие и войну, и свой театр для торжественных сценических представлений, пусть и превращённый эпохой в нечто совсем иное, задумавшего как театр бесклассового общества. И в то же время на него может притязать каждый, чья воля устремлена в будущее.
Но праздное занятие – вызывать великих людей из небытия в современность, дабы узнать предполагаемое их мнение о проблемах нашей жизни, перед ними не стоявших и духовно им чуждых. Как отнёсся бы Рихард Вагнер к нашим вопросам, тревогам и задачам? Это «бы» – бессодержательно и призрачно; мышление в такой форме невозможно. Мнения – дело второстепенное даже в ту пору, когда они высказываются, а тем более впоследствии! Остаётся человек и продукт его борьбы – его творчество. Удовлетворимся тем, что будем почитать творчество Вагнера как келикое, многосложное явление немецкой и всей западноевропейской жизни, которое во все времена будет мощно стимулировать искусство и пытливую человеческую мысль.
1933
А. В. Луначарский. Путь Рихарда Вагнера (к 50–летию со дня смерти)
Статья впервые опубликована под заголовком "Рихард Вагнер" в журнале «Советская музыка», М., 1932, № 3, май—июнь.
Переиздана в газете «Известия», № 43, 13 февраля 1933 г.
.
Вновь и вновь ставится перед всем человечеством вопрос о Рихарде Вагнере в связи с 50–летием со дня его смерти.
Но для нас уже слишком ясно, что решать этот вопрос с точки зрения «современного человечества» никоим образом нельзя, ибо никакого такого целостного современного человечества не существует. Решать вопрос приходится по–новому — уже постольку, поскольку дело идет о переоценке Вагнера с точки зрения побеждающего пролетариата и создаваемой им новой социалистической культуры.
Попробуем в сжатом итоге отдать себе отчет в нашем отношении к этому гениальному и сложному мастеру.
I
Часто и справедливо говорят о гипнотизирующей, обвораживающей силе музыки Вагнера.
Ни один композитор до Вагнера не обрушивался на восприятие слушателя таким водопадом звуков, такой широчайшей рекой гармонии, такими пронзающими мелодиями. Вагнер сам назвал свою музыку бесконечной мелодией. Это можно понимать не только в точном смысле, то есть в смысле непрерывно развертывающейся музыкальной ткани, но и в том смысле, что мелос Вагнера как бы создает вокруг себя какое–то магнитное поле, широко распространяющееся во вселенной, а в особенности во внутреннем мире слушателя.
Громы и крики его литавр, его колоссальные ансамбли, его подхватывающие и уносящие унисоны — весь этот организованный шумный вихрь звучаний — потрясает. Но почти так же силен Вагнер, когда он хочет действовать подкупающе, когда он подкрадывается к нашему сознанию. Тогда он пользуется тончайшими отмычками, чтобы проникнуть как можно глубже в наше сердце.
Когда говорят, что Вагнер прежде всего был человеком воли, что он прежде всего жаждал власти, то нельзя не согласиться с этим. Действительно, музыка является для него словно каким–то сонмом духов, которых он собирает и отправляет в поход для того, чтобы они завоевали ему миллионы человеческих личностей.
Но музыка Вагнера отнюдь не есть просто организованное звучание. Это даже не превращенные в звуки чувства. Ницше упрекал Вагнера в том, что он, в сущности, не музыкант, а мим–актер, театральный человек. Стремление поработить публику, внушить ей свои идеи, быть ее учителем, ее руководителем, пророком выражалось у Вагнера именно через эту активную театральность.
«Волшебным» в Вагнере было именно его актерство. Действительно, вагнеровская симфония может действовать и сама по себе, в концертном исполнении, но подлинное свое значение она приобретает только на сцене. Оговорюсь, впрочем: может быть, сцена пока еще не поднялась до тех требований, которые ставил перед нею Вагнер.
Так, Толстой, когда ему захотелось посмеяться над условностями оперы, рассказывает с внешним простецким добродушием о раскрашенных людях в картонных латах, которые не говорят, а поют, широко открывая рты, о бутафорских драконах и т. п. дешевой кукольной комедии.*
Толстой, конечно, неправ, поскольку он пытается атаковать условность театра вообще. Это еще вопрос, что нормальнее для человека, переживающего высокий подъем, для захваченного исключительными, большими событиями человека — разговаривать ли, может быть, еще пришепетывая и заикаясь, или петь, ковылять ли, спотыкаясь, или танцевать. Но, конечно, Толстой прав, когда он отмечает декоративную убогость современной оперной сцены по сравнению с грандиозностью замысла Вагнера и с грандиозностью самой его музыки.
Однако в том–то и дело, что музыка Вагнера немыслима без зрелища и слова, составляющих с нею единство.
Ведь это именно под влиянием Вагнера Ницше писал о двух началах театрального: начале дионисовском и начале аполлоническом. Дионисом является здесь сама музыка, само это кипение сил и страстей, сама динамика и пафос. Но из этого кипения поднимаются как бы голубые пары, которые сгущаются в облака и, наконец, в человеческие образы аполлонийского значения. Музыкальный замысел воплощается в виде человеческих фигур, чувств, мыслей, поступков, слов, взаимоотношений, судеб, побед и поражений. Так рождается трагедия, театр. Быть может, самый идеальный слушатель–зритель Вагнера — это как раз тот, который, хорошо зная вагнеровское либретто и, может быть, увидев два–три раза намек на вагнеровское видение через посредство слабого сценического выполнения, может, закрыв глаза, видеть по–настоящему все изысканные образные находки Вагнера, возникающими в стройном хороводе под звуки роскошного в своем обилии и разнообразного в своем течении оркестра, включающего и человеческий голос.
II
Образы Вагнера общи, это образы–мифы. Тангейзер в сияющей пещере Венеры, в тоске рвущийся прочь из сладостных объятий богини; девушка, обвиненная в страшном преступлении, брошенная без помощи, на защиту которой в последний час приплывает на гигантском лебеде окруженный сиянием святой рыцарь; дочери Рейна, с песнями снующие, как золотые рыбки, в блистательных пучинах метафизической реки вокруг золотого клада; крылатые валькирии в тучах и молниях, со своим бешеным кличем «Гойотого» несущиеся на стихийных конях; меркнущий свет мира и грустный одноглазый гигант бог, который не может отвратить смерть от себя и своих; любовь, раздирающая с такой силой сердца людей, что она нечувствительно переходит в смерть и делает смерть подобной себе; умирающие, чьи глаза полны тоски и мистического наслаждения; раненный копьем Амфортас, гнойная язва которого не заживает, и лучезарный золотой Грааль, исцеляющий все страдания, и т. д. и т. д. Написаны сотни картин на вагнеровские сюжеты, и, может быть, еще будут написаны сотни.
Но Вагнер — не только музыкант и актер (чем уже обусловлены предпосылки для создания им настоящего музыкального театра). Вагнер еще и глубокий мыслитель. Ему важны не данная ситуация, не данный герой сам по себе. Сквозь образы лиц и их взаимоотношения хочет он показать внутреннюю сущность жизни. Желая быть пророком, он не может ограничиться тем, чтобы волновать публику изображением событий. Он хочет, захватив этими событиями сознание человека, вырвать его из обыденности и взметнуть на высоту, с которой перед ним откроется смысл бытия.
Вот почему такое огромное, хотя и придаточное значение имеет у Вагнера слово. Оно оразумливает, уточняет музыку. Вагнер–поэт — и крупный поэт — необходимый сотрудник и помощник Вагнера–композитора.
Таков, в общем, Вагнер–художник. Он необыкновенно содержателен, многообразен, един в своем многообразии, мощен.
Он труден для понимания. Он требует работы, вникновения. Недаром Ницше говорил, что он бывает в поту после того, как прослушает оперу Вагнера. Слушать Вагнера для развлечения, перед ужином — это величайшая безвкусица и варварство, мысль о котором приводила самого Вагнера в бешенство.
Вместе с тем, остаются в значительной степени правильными упреки Ницше в том, что общая архитектоника произведений Вагнера перегружена и бароккально тяжела, что самое звучание их носит в себе нечто надрывное, сплошь экстатическое, насилующее наше сознание, выворачивающее, как говорится, душу наизнанку.
III
Каждая гениальная личность всегда является результатом и отражением какого–нибудь глубокого социального сдвига. Какое же общественное явление вызвало к жизни такого великана, как Рихард Вагнер?
Рихард Вагнер начал свою музыкальную деятельность в тридцатых годах прошлого века. Кульминационным пунктом его творчества было то, что он создавал свои произведения в период, непосредственно примыкающий к 1848 году. Но вслед за тем мы видим поворот в мировоззрении Вагнера. Вагнер меняет свои убеждения. Он становится совсем иным человеком.
Великие социальные явления, которым отвечала творческая фигура Вагнера, — это сперва возникновение и рост демократии в Германии, а затем срыв демократического движения. Он мечтал о самой полной, о самой законченной демократии. Его демократия переходила в бесклассовое общество, в социализм. Обо многом он думал приблизительно так, как у нас десятью–двадцатью годами позднее думал Чернышевский.
Владимир Ильич сказал как–то, что люди разных социальных групп и прослоек идут к пролетарской революции разными путями.**
Полный свет на тогдашнего, «первого» Вагнера проливают его теоретические работы, в особенности его книжка «Искусство и революция». Вагнер шел не от революции к искусству, а от искусства к революции. И это хорошо. Это значило, что он шел к революции из внутренних потребностей своего дарования и своей специальности.
Вагнер с ужасом смотрел на то, во что превращала буржуазия свой театр. Театр становился местом легкого развлечения, театр становился коммерческим предприятием. Это внушало Вагнеру настоящее омерзение. Припомните, что он с самого начала был человеком воли, мечтал стать пророком и пророчески, через художество, властвовать над своим веком. Он хотел быть учителем своего века, он понимал крупного художника только как учителя века. Он думал, что пришло время, когда такой учитель должен осознать свою миссию, когда художник должен стать учителем не случайно, а сознательно. А поэтому и театр должен сделаться новым храмом. Это тут, в театре, народ должен создавать свои новые мифы, то есть воплощать в образы свои убеждения, свои цели, выковывать себя для борьбы, праздновать свои победы, учиться мужественно переносить временные поражения. Художник–творец являлся, по Вагнеру, основным элементом театра. Но и все исполнители должны быть проникнуты величайшим сознанием серьезности искусства. Театр не есть символ фривольности, легкомыслия и времяпрепровождения. Театр есть в самом высоком смысле средоточие сознательной жизни народа — то место, в котором лучшее, чем он располагает, превращается в чистый металл образов и обратно влияет на него, организуя его силы.
Таково необычайно высокое представление Вагнера о театре.
Опера «Риенци» была написана под сильным влиянием этих идей. Вагнер был еще в значительной степени абстрактен и искал весьма общих образов для выражения своих идей. «Тангейзер» и «Лоэнгрин» не сразу раскрывают свою прогрессивную сущность. Тем не менее, при некоторой темноте этих опер, они все же действуют на нас и сейчас.
Вслед за ними Вагнер задумывает грандиозное произведение. Он берет за материал основной миф древнегерманской литературы, миф о Нибелунгах. Он, однако, идет против того смысла, который вложила в этот миф создавшая его интеллигенция старых времен. Корнями миф уходит, по–видимому, действительно в самые глубины первобытных верований. В основе его лежит судьба солнца с его постоянными помрачениями и воскрешениями. Если вы опишете эту судьбу, начиная с рождения солнца и до его смерти (с утра до ночи или с весны до зимы), то вы получите прообраз мира пессимистический. Если же вы сделаете обратное, то есть начнете с описания процесса увядания солнца и дойдете до его нового воскрешения (появление победоносного сына, лучезарного героя, победа над смертью) — тогда вы получите оптимистический извод всей вообще жизни, всей философии бытия.
Вагнер замыслил первоначально свою тетралогию в оптимистическом изводе. Основными величинами, которые противопоставлялись друг другу, были миф фатальный, миф, в котором все связано судьбою, даже сами боги, — и постепенное развитие свободного человека, рожденного от свободной любви, выпавшей из рамок узаконенного брака (Зигмунд и Зиглинда), развивающейся при особых обстоятельствах, закаляющих его самостоятельную волю. Этот самостоятельный человек, который слушается только своей собственной натуры, оказывается тем винтом, на котором можно повернуть все судьбы мира. Это он может сокрушить, в конце концов, железную цепь судьбы, может принести в жизнь вновь молодость, радость и свободу.
Но Вагнер живет в капиталистическом мире и в ту революционную пору ненавидит крупную буржуазию, начинающую все больше и больше прибирать к рукам мир. Золото кажется ему настоящим ядом. В этом отношении он стоит на той же точке зрения, которую Маркс отмечал и хвалил у некоторых античных поэтов, у Шекспира и т. д.*** Судьба — это прежде всего общая жажда золота, подчиненность людей этой жадности. Свобода Зигфрида — это прежде всего то, что он становится выше золота, выше жадности. Вот почему он приобретает не только черты анархической свободной личности, но и черты героя, освобождающегося от ига капитала.
IV
Энгельс роняет в одном месте, критикуя Штирнера, такое замечание: то, что Рафаэль смог развернуть все свои дарования, — это зависело от общественных условий его эпохи.**** Это замечание, конечно, относится ко всякому художественному гению, в том числе и к Вагнеру. Вагнеру не суждено было развернуть свое дарование по той линии, на которую он вступил. Нося в себе с самого начала мещанскую натуру, он, благодаря огненному дыханию революции, поднялся на значительную высоту, и если бы это благоприятное революционное лето продолжалось, то, вероятно, созрели бы и все плоды, уже начинавшие наливаться на ветвях этого могучего дерева. Под влиянием революции Вагнер писал бы, главным образом песни борьбы и победы, песни, славословящие жизнь в этой борьбе, благословляющие природу и человека, ибо революционер — оптимист; революционер влюблен в природу и человека, в бытие; революционер — это тот, кто хочет и может переделать мир, то есть доделать его по–человечески, сделать из этой возможной арены счастья действительную его арену. Но это не дано было сделать Вагнеру. Вагнер перешел на сторону реакции.
Тринадцать лет жил он в изгнании. Тринадцать лет колебался, все больше и больше, однако, омрачаясь. Революция лежала на земле со сломанными крыльями. Титаны, безмерно превышающие Вагнера силами своего духа, не растерялись, они уже видели, что не мелкому мещанству, а только пролетариату предстоит настоящая победа. Они уже чувствовали, где родился Зигфрид. Они уже слышали, как на растущих заводах ковал он меч своей грядущей мести, как просыпался в его разуме ключ к пониманию «песен птиц», вещих песен о законах социальной природы и о путях обновления бытия.
Таковы были Маркс и Энгельс, но не таков был Вагнер.
Однако вместе с тем, Вагнер был человеком дела; это был человек ненасытной жажды славы, власти, влияния и, наконец, связанных с этим богатства и почета. Оправдывая самого себя всевозможными ухищрениями, старея, внутренне искажаясь, переживая глубокий, так сказать, молекулярный процесс перерождения, Вагнер шел по своему новому, ложному пути. На этом ложном пути много позора ждало Вагнера. Победившая крупная буржуазия создавала мощную Пруссию с ее капиталом и армией. Она шла навстречу победе над Францией, навстречу годам грюндерства, навстречу пышному расцвету милитаристического империализма, навстречу всем чванным триумфам вильгельмиады. И Вагнер становится националистом. Он пишет меднозвучные марши в честь победителей, и сама тяжеловесная форма его музыкальных произведений идет от той же самой пышности победоносного капитала, которая наложила свое тяжелое клеймо на многие улицы и площади Берлина.
На этих путях Вагнера ждало полное примирение с самым реакционным полюсом культуры — с правоверным католицизмом. Если Ницше страдал от этого и вновь возвращался к борьбе с Вагнером, стараясь объяснить причины падения своего былого кумира, то Маркс ограничивается, если не ошибаюсь, только одной, случайно оброненной фразой по поводу байрейтских празднеств — «тупого торжества в честь казенного музыканта».*****
V
Вагнер стал ренегатом. Ренегатство Вагнера есть тот перелом в его развитии, который вызван был переломом общественного развития. Общественные условия не позволили Вагнеру развернуть все свои дарования. Весь Вагнер второго периода, подаривший миру столько шедевров, есть на самом деле искалеченный Вагнер, отравленный Зигфрид.
Но ренегат ренегату рознь. Есть легкомысленные, веселые ренегаты. Они охотно надевают золоченую ливрею нового господина.
Нет, Вагнер был не таков. Пойдя на службу к буржуазии и присмотревшись к новому миру, который открылся ему теперь с вновь занятых позиций, он ужаснулся.
Да, буржуазия победила. Но почему же излюбленный философ буржуазии — Артур Шопенгауэр — оказался пессимистом? Почему Гегель, стоявший в преддверии буржуазной эпохи, столько труда положил на то, чтобы доказать, что прусская государственная действительность совершенно соответствует разуму, а Шопенгауэр, обложивший Гегеля самыми презрительными ругательствами, стал доказывать, что вообще весь мир есть абсолютно неразумное? Это объясняется тем, что наиболее чуткие люди буржуазии прекрасно чувствовали того червя, который точил ее сердце.
Принципом буржуазии была жадность, жажда гешефта, жажда накопления. Принцип буржуазии — всеобщая конкуренция и растаптывание существований, расширение границ, нагромождение миллиардов на миллиарды.
Метафизическая «воля» Шопенгауэра есть лишь модель капиталистического духа. И Шопенгауэр учит, что эта воля никогда не знает удовлетворения. Она не знает наслаждения, она не знает отдыха. Либо она томится жадностью, либо она томится скукой. Ей нужно мучительное дело, напряженное, болезненное стремление, иначе она ввергается в чуждую ее природе апатию и томится оцепенением.
Но, учит Шопенгауэр, можно вырваться из этого ужаса. Вырваться можно через уничтожение всяких человеческих чувств в себе, через индусское стремление к нирване, и лучшим помощником в этом отношении является искусство, в особенности же — музыка. Музыка есть точное отражение мира во всей его сущности. Когда мы глубоко воспринимаем это отражение, мы освобождаемся от самой сущности. Искусство расколдовывает для нас мир. Сладостно погружаясь в искусство, мы тем самым погружаемся в смерть, в отдых от бытия, которое есть ад. Искусство — искупитель.
Быть может, Вагнер и сам пришел бы к весьма близким к этому выводам, но Шопенгауэр был налицо, и Вагнер примкнул к нему.
Чем же стал для него мир? Мир, несомненно, осужден на гибель. Это, несомненно, — траурное шествие к какому–то черному концу. Это шествие, полное взаимной борьбы, коварства, жадности, преступлений. Появляются и светлые личности, но они тоже осуждены на гибель. Они ничего не могут поделать с фатальным ходом событий. Но подготовить торжественную смерть, победить бытие и в величавой, хотя и горестной задумчивости отойти в ничто может лишь человек, просвещенный мудростью искусства.
Вагнер берется за такое дело искупления. Нет, не от зимы к весне пойдет теперь его тетралогия. Она кончится затмением солнца, она кончится гибелью мира. Свободный человек не сумел победить. Злые силы, оказывается, торжествуют. Но они торжествуют фактически, а морально, музыкально торжествует одно сознание фатума, покорность перед ним и жажда уйти от него, уйдя вместе с тем от жизни.
Еще надрывнее, еще ядовитее гласит об этом опера «Тристан и Изольда». Яд этот чрезвычайно сладок. Вагнер дает людям фиал любви и смерти, который является средоточием самой оперы. Мы все выпили из кубка жизни — и вот живем. Жизнь сладостна. Вершина ее — любовь. Она полна очарования, которое только художник может открыть для нас. Только художник может научить тому, как велик соблазн жизни, как непомерен увлекательный обман, который, как солнце, светит в призрачном мире бытия. Но честный художник должен открыть нам также, что любовь есть смерть, что все бытие, как воронка водоворота, устремляется к уничтожению. Художник должен не ужаснуть нас этой перспективой, а заставить нас благословить ее как исход.
Такова индусская, такова христианская, такова азиатская художественно–музыкальная моральная проповедь Вагнера. Таково черное, губительное «пророчество» нового Вагнера. И он еще ставит точки над «і», когда, постарев, опускается, по выражению Ницше, к подножию креста, когда он в «Парсифале» создает вариант католической мессы.
Круг завершен. Революционер стал реакционером. Взбунтовавшийся мещанин целует туфлю римского папы, стража порядка.
VI
Как же нам отнестись к Вагнеру? Быть может, нам отбросить его, раз он реакционер? Быть может, нам сказать: от сих пор до сих пор? Некритически принять первого Вагнера, забыв, сколько в нем примесей и незрелости? Или нам совершенно выбросить второго Вагнера, забыв, какую мощь музыкальной фактуры, какое красноречие в выявлении чувств, какое яркое искусство создал этот попавший в плен реакции гений?
Ни то, ни другое. Нам не простилось бы, если бы мы не умели анализировать, если бы мы выбросили богатый золотом песок только потому, что на первый взгляд золотых крупиц там очень мало. Нам не простилось бы, если бы мы приняли за вполне пригодный материал кусок металла, внутри израненный и нечистый. Наш анализ не может манипулировать целыми творцами, целыми опусами. Мы должны идти глубже. Дело социалистического освоения Вагнера — чрезвычайно тонкое дело. Горе тому, кто обеднит мир, перечеркнув Вагнера цензорским карандашом. Горе тому, кто впустит этого хитрого волшебника, этот талант, заболевший дурною болезнью, в наш лагерь и кто позволит чумному титану, как Альманзору в известном стихотворении Гейне, прижаться своими устами к лицу молодой пролетарской культуры.
Осторожность! Карантины! Внимательная проверка багажа! Уяснение, что к чему! Ни тени механицизма! Химическое разложение! Умение указать, как сплетено противоречивое! Умение с силой физиологически здорового организма отделить питательное от безразличного и вредоносного!
Мы должны в этом смысле, иной раз пользуясь как раз юбилеями, судить строгим и проницательным пролетарским судом все прошлое и всех великих творцов тех ценностей, наследниками которых мы являемся.
Здесь мы найдем самые разнообразные взаимоотношения. Мы встретим в прошлом великих наших предшественников и учителей, которым только время от времени незрелость их эпохи мешала подняться до всей полноты понимания, которые с весьма небольшими изменениями могут быть целиком и со славой допущены к сотрудничеству живых.
Здесь могут повстречаться мнимые великаны, величие которых является либо пустым и надутым, либо находящимся в связи со служением таким классам, успехи и интересы которых были прямо враждебны развитию человечества. Мнимая слава подобных знаменитостей будет сорвана с них суровым и правдивым историческим анализом.
Но чаще всего мы встретим как раз такие смешанные величины, как Вагнер, в которых положительное и отрицательное тесно переплетено и как бы вошло в химическое соединение одно с другим.
Здесь работа, конечно, наиболее трудна. Здесь наиболее легко ошибиться в ту или другую сторону. Эта работа требует знания дела и в смысле знаний исторических и культурных, и в смысле знаний специфики той области, в какой работал данный мастер.
Я, разумеется, и не думаю пытаться здесь произвести такого рода анализ. Для этого нужна огромная работа специалиста. Мне хочется лишь наметить кое–что из очевидных плюсов и минусов великого немецкого музыканта.
Прежде всего — самое звучание вагнеровской музыки, насыщенность, богатство, мужественность, разнообразие, страстность, психологическая и акустическая пленительность его музыкальной ткани. Тут можно многому учиться у Вагнера. До него мы редко находим такую интенсивность и щедрость, такую глубину и густоту музыкального потока. После него мы редко находим такую целостность, такое единство, охватывающее целые огромные музыкальные миры, редко находим такую продуманность и прочувствованность каждой музыкальной фразы, каждого аккорда. Виртуозная нарядность, скажем, у Рихарда Штрауса больше, чем у Вагнера; сложность созвучий и тембров, скажем, у Малера еще изощренней. Но как будто вершина патетической музыки миновала, словно эти музыканты только подражают настоящей жизни.
Музыка Вагнера носит необыкновенно величественный плащ. Плащ крупнейших патетиков после Вагнера еще величественней, но под этим плащом нет больше богини, которая жила под ним у Вагнера. Это богатство, серьезность и — в смысле музыкальных идей — осмысленность музыки завещаны Вагнером дальнейшим векам.
Так же точно соединение в Вагнере мыслителя–музыканта и мыслителя–поэта, притом именно драматурга, сделало из него до сих пор, по–видимому, высочайший образец глубокой слиянности музыки и литературы. А это нам тоже нужно. Это нам будет очень и очень нужно.
Свою высокую музыкально–драматическую силу Вагнер мог иногда отдавать на служение идеям неправильным, даже вредоносным, делая тем самым эту силу ядовитой, — но он никогда не принижал ее до отражения мелочного, никогда не унижал ее до тривиального, до случайного.
Изображал ли он любовь или бешеную ненависть, жадность и властолюбие или полет к свободе и т. д., — он вкладывал все это в импонирующе большие образы и возвышал до таких обобщений, которые делали изображаемые им чувства общезначимыми. Такое умение подымать искусство, подымать театр до высокой значительности и художественной абстракции — но абстракции не тощей, а охватывающей конкретность, суммирующей ее, делающей ее понятной и важной, — это умение весьма нужно и нам, а мы обладаем им в очень малой мере, что, прежде всего, доказывается тем, что нашим поэтам и композиторам не удалось еще дать крупную оперу наших революционных страстей, нашей мировой борьбы.
________________________
* Имеется в виду начало статьи Л. Н. Толстого «Что такое искусство».
** Ленин. Речь на VIII съезде РКП(б).
*** Маркс «Капитал», т. I, отдел первый, гл. 3 («Деньги или обращение товаров»)
**** Штирнер Макс (наст. имя Иоганн–Каспар Шмидт, 1806—1856) — левогегельянский философ, теоретик индивидуалистического анархизма. Имеется в виду один из наиболее неглупых наскоков Маркса и Энгельса на Штирнера в посвященной ему части «Немецкой идеологии» под названием «Святой Макс».
***** Письмо Маркса к Энгельсу от 19 августа 1876 года: «…собрались люди со всех концов света, направляющиеся в Байрейт на дурацкое празднество государственного музыканта Вагнера».
________________________
От модератора:
Статья найдена уважаемой Olgoy на сайте о Луначарском. Большое спасибо первоисточнику, после них ничего не пришлось править, это редкость - я только отредактировала источники и ссылки.
Библиографический указатель из книги Р.Грубера "Рихард Вагнер"., ОГИЗ, 1934.
Библиография взята из книги Грубера "Рихард Вагнер". Мы публикуем ее, во-первых, потому, что она дает неплохое представление о дореволюционной библиографии о Вагнере, и во-вторых, комментарии характеризуют отношение советской власти к Вагнеру до Сталина.
Задача настоящего, намеренно краткого, указателя, точнее, “Путеводителя по вагнеровской литературе”—ориентировать широкого читателя, равно как и лиц, желающих приступить к более специальному изучению Вагнера, в необозримое материале “Вагнерианы”, выделив ряд основных работ и снабдив некоторые из них сжатой аннотацией.
В конце наименования редких изданий- помещено указание книгохранилищ Москвы и Ленинграда, имеющих в своем составе данные, издания, чтобы облегчить читателю их нахождение.
Вот перечень принятых сокращений:
Гос. Публичная библиотека—ГПБ (Ленинград). Библиотека Академии наук—БАН. Библиотека Инст. Маркса—Энгельса—Ленина—ИМЭЛ. Библиотека Лен. гос. унив.—ЛГУ.
Библиотека Моск. гос. унив.—МГУ.
Библиотека Лен. консерватории—ЛГК.
Библиотека Моск. консерватории—МГК.
Библиотека Гос. Акад. искусствознания—ГАИС.
А. На русском языке.
Перевод на русский язык сочинений самого Вагнера носил до сих пор совершенно случайный характер. Неудивительно поэтому, что нельзя говорить не только о полном собрании литературных, работ Вагнера, в русских переводах, но и о наличии в русском переводе хотя бы основных его теоретических статей и материалов глубоко принципиального значения.
В некоторой, правда, далеко не достаточной, степени этот пробел будет восполнен находящимся в настоящий момент в печати собранием новых переводных статей и материалов Вагнера (см. № 12 по указателю)
Ниже даны переводы вагнеровских литературных работ, расположенных в порядке их написания:
1. “Паломничество к Бетховену” (1840 г.). Новелла, перевод, предисловие и примечания Е. Браудо, изд. “Начатки знаний”, ПБ, 1922.
2. “Вибелунги” (1848 г.). Всемирная история на основании сказания, пер. С. Шенрока, пояснит. ст. Эмилия Метнера и Макса Ценкера, изд. “Муса-гет”, М., 1913.
3. “Революция” (1849 г.), пер. В. Попова, в сборн. Гос. театра оперы и балета: "3олото Рейна”, Лгр., 1933.
4. “Искусство и Революция” (1849 г.). Существует несколько переводов: Эллена, изд. “Горизонт”, СПБ, 1906; И. Ю-са, изд. С. Грозмана, СПБ, 1908;
И. М. Каценеленбогена с пред. А. В. Луначарского, изд. Наркомпроса ПБ, 1918.
Все они далеко не безупречны в смысле точности и полноты (опущен ряд мест, зачеркнутых Вагнером при переиздании этой своей работы.) Сверенный с первым изданием (1849 г.) перевод с восстановленными купюрами печатается в собрании литературных работ Вагнера в изд. Музгиза (см. ниже № 13).
5.“Художественное произведение будущего (1849 г.), пер. А. Коптяева, “Рус. муз. газета” за 1897—98 гг.).
6. “Опера и драма” (1851 г.), пер. с 2 немецк. издания А. Шепелевско-го и А. Винтера, с пред. А. Шепелевского, изд. Юргенсона, М., 1906.
7. “Обращение к друзьям” (1851 г.), пер. Славянской, изд. “Грядущий день”, СПБ 1911.
8. “Об увертюре”, пер. В. Э. Шольца, “Русск. муз. газета” за 1898 г.
9. О дирижировании” (1869), пер. А. Коптяева, “Русск. муз. газета” за 1899 г. (отд. изд. 1900 г.).
10. “Бетховен” (1870 г.), пер. и пред. В. Коломийцева, изд. С. и Н. Кусевицких, М., 1911.
11. “Пapcифаль”. Эскиз драмы-мистерии” пер. и пред. В. Коломийцева, изд. А. Зилоти, СПБ, 1911.
12. Статьи и материалы, под. ред., со вступ. статьей и коммент. Р. Грубера, изд. Музгиза (в печати).
13. Из многочисленных комментариев самого Вагнера к своим произведениям упомянем переводы: объяснит, замечаний об увертюре к “Моряку-скитальцу” (“Русск. муз. газета” за 1894 г.), о вступлении к “Лоэнгрину” (там же), а также разбор Героической симфонии Бетховена (“Русск. муз. газ.” за 1899 г.).
Автобиографические материалы, письма, дневники:
14. “Автобиографический набросок” (“Русск. муз. газ. за 1896 г.).
15. “Моя жизнь”. Два изд.: “Сфинкс” и “Грядущий день”, СПБ. 1911—12 г.
16. Письма (к Листу, Рекелю, Матильде Везедонк и др.), дневники, с примеч. Евг. Браудо, изд. “Грядущий день”, СПБ—I911.
Б. На немецком языке.
Говорить об академическом полном собрании сочинений Вагнера до тех пор, пока доступ в фамильный архив в Байрейте не будет полностью открыт и все имеющиеся там вагнеровские материалы не будут опубликованы, не приходится.
Из известных нам, имеющихся в СССР, относительно полных, собраний сочинений Вагнера назовем:
1. Richard Wagner. Sammtliche Schriften und Briefe, hrs. von Julius Kapp (1914). Hesse u. Beeker, Leipzig (личное собрание Б. С. Пшибышевского).
2. Richard Wagner. Sammtliche Schriften. Volksausgabe Breitkopf u. Har-tel, Lpz. (включая мемуары “Моя жизнь”—библ. ГАИС и ЛГК).
3. Первое издание собрания сочинений Вагнера, выходившее при его жизни (1871—1873), Verlag Frietzsch (библ. МГК).
4. Не представляют редкости дальнейшие издания этого собрания, далеко не полные.
Полного издания писем Вагнера в наших книгохранилищах нет. Лишь в библиотеке ИМЭЛ есть два первых тома (по 1849 г.) начатого издания полного собрания писем:
1. Richard Wagner, Gesammelte Briefe, hrsg. von Julius Kapp und Emerich Kastner, Bd. I—II. Verl. Hesse u. Becker, Lpz. 1914.
Из отдельных собраний, писем Вагнера назовем:
2. Brief wechsel zwischen Wagner und Liszt (библ. МГК).
3. Briefe an Uhlig, Fischer und Heine (библ. ИМЭЛ).
4. Briefe Rocket (библ. ИМЭЛ).
5. Briefe Theodor Apel (библ. МГК).
6. Briefe Mathilde Wesendonk (библ. МГК).
7. Briefe Otto Wesendonk (библ. МГК).
8. Briefe Minna Wagner (библ. ИМЭЛ, ГАИС).
9. Familienbriefe (библ. ИМЭЛ).
Из имеющихся в СССР известных мне первоизданий принципиально значительных литературных работ Вагнера укажу на:
1. “Kunst und Revolution > Verl. Otto Wigand, Lpz., 1849 (библ. ИМЭЛ, ГПБ, ЛГУ).
2. “Das Kunstwerk der Zukunft”, Verl. Otto Wigand, Lpz., 1850 (библ. ИМЭЛ).
3. “Eine Mitteilung an meine Freunde”, 1851 (личное собрание Р. И. Грубера).
4. “Zukunftsmusik”, 1861 (личное собрание Р. И. Грубера).
А. На русском языке.
1. Капп, Ю., Рихард Вагнер, Российск. муз. изд. М., 1913.
Работа эта, принадлежащая одному из больших знатоков Вагнера, является лучшей из биографических работ о Вагнере на русском языке в отношении группировки материала, наглядности изложения, сжатого объема и удобства пользования.
2. Ф е р м а н, В. Э., Рихард Вагнер, изд. Муз. сектора ГИЗА, М., 1929
Сжатый, серьезно задуманный опыт социологического освещения жизненного и творческого пути Вагнера.
3. Из других биографических очерков упомянем брошюру Е. Браудо (П. 1922 г.) и его же статью в БСЭ.
4. Лиштанберже, Рихард Вагнер, как поэт и мыслитель, пер. со втор. французск. изд. С. Соловьева, изд. “Творческая мысль”, М., 1905.
Несмотря на идеалистическую установку автора и на расплывчатость изложения, может быть использована критически для знакомства с содержанием теоретических работ Вагнера.
5. Ромэн Роллан, Музыканты наших дней, пер. Ю. Л. Римской-Корса-ковой, под ред. А. Н. Римского-Корсакова, изд. “Мысль”, Лгр. 1923.
Одна из статей сборника посвящена Вагнеровскому “Зигфриду” и “Тристану”.
6. Не потеряли значения и статьи о Вагнере Серова:
А. Н.Серов. Собрание статей, СПБ. 1894, особенно “Лоэнгрин”, “Нибелунгов перстень”, “Рихард Вагнер и его реформа в области оперы” (в III томе).
В связи с юбилеем (50-летие со дня смерти) в периодической печати и отдельно появился ряд статей и работ, из которых укажем следующие:
7. Луначарский, А. В., Путь Рихарда Вагнера (“Известия за 13 февраля 1933 г.).
8. Луначарский, А. В., Рихард Вагнер (“Советская музыка”, № 3 за 1932 г.).
9. Грубер, Р. И., Скованный гений (в “Советск. искусстве” за 8 февраля 1933 г.)
10. Грубер, Р. И. “На Дрезденских барикадах” (там же).
11.Грубер, Р. И. “Рихард Вагнер к проблема его творческого метода” (“Советская музыка” № 2 за 1933 г.).
12. Иоффе, И. И., Рихард Вагнер (ст. в брошюре “Кольцо Нибелунгов”), изд. “Гос. Эрмитажа”, Л., 1933.
13. “Золото Рейна”, сборник статей Бухштейна, Богоявленского, Глебова, Дранишникова, Рабиновича, Радлова—к премьере, изд Гос. театра оперы и балета, Ленинград, 1933 г.
Кроме работ общего характера имеются во множестве работы, посвященные отдельным произведениям Вагнера, как то: переводы “лейтмотивных” путеводителей Шопа, очерки В.Г.Вальтера, Виктора Коломийцева, Свириденко, Финдейзена и др. о “Кольце”, “Мейстерзингерах”, “Тристане”, “Парсифале” и т. д.
Из работ этого типа выделим:
Каратыгин, В. Г., “Парсифаль”. СПБ., 1914 г.
Б. На немецком языке.
а) Общие:
G1asеnарр, С.F., Das Leben Richard Wagners in 6 Bd. Verl. Breitkopf u Hartel, Lpz., 1905-11 (есть ряд. след. изд).
Самая значительная в отношении объема, тщательности и обилия подбора фактического материала биография Вагнера, чрезвычайно перегруженная, однако, несущественными подчас деталями, лишенная каких-либо целостных обобщений.
2. Chambеrain, H. S., Das Leben Richard Wagner'(ряд изд. на нем., фр. и др. языках).
Сугубо реакционная по своей идейной направленности работа одного из “столпов” расовой теории. Снабжена (в последующих изданиях) богатым иконографическим материалом.
3. Istel, Das Kimstwerk Richard Wagners. Серия “Aus Natur und Geistzswelt”, № 330, Verl. Teubner, Lpz. u. Berl. 1918 (библ. ИМЭЛ).
Одна из лучших сжатых монографий о Вагнере, дающая конспективный, но содержательный, стоящий на уровне современных данных, обзор жизненного пути и творчества Вагнера.
4. Walzel, Oskar, Richard Wagner, Munchen, 1913 (библ. ИМЭЛ).
Представляет интерес, как попытка известного германского литературоведа-формалиста дать очерк и оценку творчества Вагнера и наметить соответствие его с основными литературными направлениями периода деятельности Вагнера.
б) По отдельным этапам:
1. Kietz, Richard Wagner in den Jahren 1842—49 und 1873—75, Dresd. 1907 (библ. ИМЭЛ, лгу).
Представляет ценность для характеристики двух "полярных") этапов жизни Вагнера, связанных в первом случае с революцией 1848—1849 г., во втором—с периодом после Франко-прусской войны.
2. Mulleг, О. H., Richard Wagner in der Mai-Revolution, 1849, Verl. Oskar Laube, Dresd., 1919 (библ ИМЭЛ).
Наиболее полное, последовательное, насыщенное фактическим материалом, изложение роли Вагнера в подготовке и осуществлении дрезденского восстания (с начала 1849 по июль 1849 г.)
3.Lippert, Woldemar, Richard Wagners Verbannung und Ruckkehr 1849—62. Dresd., 1927 (библ. ИМЭЛ).
Работа представляет ценность главным образом ввиду публикации ряда неизданных материалов дрезденского государственного архива, среди которых имеется официальный акт по делу Вагнера об участии в дрезденском восстании, а также целый ряд писем Вагнера к саксонскому королю и другим высокопоставленым лицам с просьбой о помиловании.
4. G у s i, Fritz, Richard Wagner und die Schweiz. Frauenfeld—Lpz., Verl. Huber, 1929 (библ. ИМЭЛ).
Представляет интерес лишь в части, касающейся пребывания Вагнера в Швейцарии (Цюрих, Трибшен...); дает характеристику ряда цюрихских друзей и знакомых Вагнера, сообщая неизвестный материал в этом плане.
1. W a g n е г-L еxikоn, Zusammengestellt von С. F. Glasenapp u. Heinrich von Stein, Verl. Cotta, Stuttgart, 1883 (библ. ИМЭЛ).
2. Wagner-Encyklopedie. 2 B-de Zusammengestellt vonC, F. Glasenapp (ГПБ).
Весьма тенденциозный подбор цитат из разных работ Вагнера, сгруппированных в порядке чрезвычайно узко и односторонне составленного предметного указателя.
3. Altmann, Wilhelm. Richard Wagners Briefe nach Zeitfolge und Jnhalt. Verl. Breitkopf u. Hartel, 1905 (Библ. МГК, Ленинская библ.).
Полезное справочное издание, сжато излагающее cодержание вагнеровских писем, хронологически расположенных.
4. Кastner, Emerich, Wagner-Katalog, Chronologisches Verzeichniss der von und uber Richard Wagner erschienenen Schriften, Musikwerke etc. Offenbach a. M. Andre 1878 (библ. ИМЭЛ).
1. Dinner, Hugo, Richard Wagners geistige Entwicklurig, Lpz., 1892. (Библ. ИМЭЛ ЛГУ).
Одна из лучших из числа немарксистских работ этого типа, ярко излагающая эволюцию философских взглядов Вагнера; устанавливает непосредственную связь их с младогегелианской философией, в частности с Фейербахом.
2. Louis, Rudolf, Die Weltanschauung Richard Wagners, Lpz., 1898 (Библ.МГК).
3. Moos, Paul, Richard Wagner als Asthefiker. Verl. Schuster u. Loeffler, Berlin, 1906 (Библ. МГК).
4. Luck, Rud., Richard Wagner und Ludwig Feuerbach, Breslau, 1905 (Diss) (Библ. ИМЭЛ, ЛГУ).
5. Giesser, Willy, Das Mitleid in der neuern Ethik mit besonderer Rucksicht auf Nietzsche, Wagner u. Tolstoi. Halle, 1903 (Библ. ИМЭЛ).
6. Grlesser, Luitpold, Nietzsche und Wagner. Wien-Lp.z., 1923 (Библ. ИМЭЛ).
7. Кnорf, Kurt, Die romantische Struktur des Denkens Richard Wagners, Jena, 1932 (Diss.) (Библ. ЛГУ).
1. Kurt, Ernst, Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners “Tristan”. Berl, Max Hesse, Berlin, 3 Aufl. 1923.
Исходя из своего, методологически порочного “энергетического” метода, Курт дает, однако, ряд ценнейших наблюдений в отношении музыкальной специфики творческого метода Вагнера, главным образом в плане гармоническом, намечая его генезис и наглядно демонстрируя процесс распада так наз. “функционального гармонического мышления”.
2. Lorenz, Alfred, Das Geheimniss der Form bei Richard Wagner: “Der Ring des Nibelungen”—1924 (личное собрание Б. С. Пшибышевского); “Tristan und Isolde”, Verl, Max Hesse, Berlin 1926 (там же); “Die Meistersinger von Nurenberg” (там же); 1931 “ Parsifal” (личное собр. Р. И. Грубера).
При всей формалистичности и фанатической склонности к внешне-конструктивным подсчетам, моментами сближающей подход Лоренца с “метротектонизмом” Конюса, работы Лоренца сильно двинули вперед анализ музыкальной специфики вагнеровского “симфонизма” и принципов его драматургического развертывания (в частности, по линии соотношения тональных планов, развернутого анализа так наз. “Barform” в ее многоразличных проявлениях и т. д.) и дают богатейший материал для критического освоения в плане марксистского анализа вагнеровского творческого метода.
3 Wolzogen, Musikalisch-dramatische Parallelen. Feitrage zur Erkenntniss von der Musik als Ausdruck. Verl. Breitkopf u. Hartel, Lpz. 1606 (Рибл. МГК).
Ценность этой работы Вольцогена—пионера “лейтмотивных” вагне-ровских анализов—в попытке (одной из первых) установить музыкальную специфику отдельных моментов драматургического развития вагнеровской музыкальной драмы
Ряд ценных статей по отдельным специальным вопросам находится в Wagner-Jahrbuch (за 1906 г.—в ГПБ. за 1912 г. № 4—в МГК, за целый ряд лет - в личном собрании И. И. Соллертинского в Ленинграде) в специальных выпусках муз. журн. “Die Musik”, посвященных Вагнеру, в “Bayreuther Blatter” и т. д.
Лосев А.Ф. Исторический смысл мировозрения Рихарда Вагнера
В 1918 году А. Блок писал: "Возвратить людям всю полноту свободного искусства может только великая и всемирная Революция, которая разрушит многовековую ложь цивилизации- и поднимет народ на высоту артистического человечества". Для А. Блока это не было просто торжественными и пустыми словами. Он имел в виду совершенно определенную музыку, совершенно определенного композитора (или во всяком случае совершенно определенный тип его) и специфически настроенную публику, слушателей такой музыки. Речь у А. Блока шла здесь именно о Рихарде Вагнере.
"Вагнер все так же жив и все так же нов; когда начинает звучать в воздухе Революция, звучит ответно и Искусство Вагнера; его творения все равно рано или поздно услышат и поймут; творения эти пойдут не на развлечение, а на пользу людям; ибо искусство, столь "отдаленное от жизни" (и потому—любезное сердцу иных) в наши дни, ведет непосредственно к практике, к делу; только задания его шире и глубже заданий "реальной политики" и потому труднее воплощаются в жизни".
По мнению А. Блока, Вагнеру были глубочайше известны идеалы духовной свободы. Но в то время как европейское мещанство всегда губило такого рода художников, как раз этого оно и не достигло в случае с Вагнером. Блок спрашивает: "Почему Вагнера не удалось уморить голодом? Почему не удалось его слопать, опошлить, приспособить и сдать в исторический архив, как расстроенный, ненужный более инструмент?"
Оказывается, Вагнер, по Блоку, не только создавал красоту и не только любил ее созерцать. Он еще отчаянно сопротивлялся превращению этой красоты в мещанскую и бытовую пошлость. Он умел не только любить, но он умел еще и ненавидеть. "Вот этот яд ненавистнической любви, непереносимой для мещанина даже "семи культурных пядей во лбу", и спас Вагнера от гибели и поругания. Этот яд, разлитый во всех его творениях, и есть то "новое", которому суждено будущее" .
Эстетика Вагнера и есть эстетика революционного пафоса, который он сохранил на всю жизнь и который с молодым задором выразил еще в 1849 году в статье "Искусство и революция". Идеалом Вагнера, несмотря ни на какие жизненные коллизии, всегда оставалось "свободное объединенное человечество", неподвластное, по словам композитора, "индустрии и капиталу", разрушающим искусство. Это новое человечество, по мнению Вагнера, должно быть наделено "социальным разумом", овладевшим природой и ее плодами для всеобщего блага. Вагнер мечтает о "будущих великих социальных революциях", путь к которым указывает преобразующая роль искусства. Он уповает на человеческую природу, из глубин которой в необъятные просторы "чистой человечности" вырастает новое художественное сознание. Он возлагает надежды на силу "божественного человеческого разума" и вместе с тем на веру в Христа, пострадавшего за людей, и Аполлона, давшего им радость. Подлинная революционность Вагнера в музыке наряду с этими противоречивыми, но устойчивыми мечтаниями, а также его глубокий антагонизм с буржуазно-торгашеской действительностью привели к борьбе вокруг творчества великого композитора, не утихавшей более ста лет.
Ведь никто не мог так виртуозно бороться с пошлостью в музыке и искусстве, как это удавалось Вагнеру. Мещанин никогда не простит того убийственного для него внутреннего надлома, который был совершен творчеством Вагнера. В этом смысле Вагнер никогда не мог стать музейной редкостью; и до сих пор всякий чуткий музыкант и слушатель музыки никак не может отнестись к нему спокойно-академически и исторически-бесстрастно. Эстетика Вагнера—всегда вызов всякому буржуазному пошляку, все равно — музыкально образованному или музыкально необразованному.
Таким образом, нам предстоит сейчас кратко, но по возможности в ясной форме, вскрыть существо эстетики Вагнера и отметить в ней некоторые, хотя и немногочисленные, но все же основные черты.
Прежде чем это сделать, напомним читателям некоторые главные биографические данные Вагнера. Эти данные для наших целей должны приводиться не просто фактографически, но с определенной тенденцией, а именно, в целях выяснения исторического смысла важнейших эстетических устремлений Вагнера. А они были связаны у Вагнера с неудачами и гибелью революционного движения 40-х годов и романтическими представлениями о какой-то другой, отнюдь не буржуазной, но той революции, что обновит и преобразит человечество с помощью нового искусства.
Лосев. Глава 2
Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге в семье полицейского чиновника, умершего в год рождения сына. Семья Вагнера, его брат и сестры — все были страстными любителями театра, актерами и певцами. Отчим — Л. Гейер, сам актер, художник и драматург,— поощрял театральные интересы мальчика. Детство композитора проходит в Дрездене, где обосновалась его семья, а в Лейпциг он вернулся только в 1828 году, чтобы продолжать учебу в гимназии и затем в университете. Именно здесь Вагнер начинает серьезно заниматься теорией музыки, гармонией, контрапунктом, готовясь к композиторской деятельности, результатом которой явились его ранняя симфония (1832), первая опера—"Феи" (1833—1834), и пишет статью "Немецкая опера" (1834), в которой уже чувствуются раздумья Вагнера о судьбах оперной музыки.
До 1842 года жизнь Вагнера крайне неустроенна. Он посещает Вену, Прагу, Вюрцбург и Магдебург, где дирижирует в оперном театре и встречает актрису Минну Планер (1817—1866), ставшую в 1836 году его женой. Вагнер дирижирует в театрах Кенигсберга и Риги, лелея мечту о создании грандиозной оперы на романтический сюжет. В 1840 году он завершает свою оперу "Риенци", посвященную драматической судьбе героя, пытавшегося создать республику в средневековом Риме XIV века. Вагнер тщетно пытается поставить ее в Париже, где он появился впервые в 1839 году, после того как ему пришлось тайно, без паспорта покинуть Ригу из-за тяжелых материальных обстоятельств (большие долги и театральные интриги).
Честолюбивые мечты Вагнера завоевать Париж не осуществились. Но зато летом 1841 года он написал там "Летучего голландца", где разработал старинное сказание о вечно странствующем и напрасно ищущем искупления моряке. И хотя возвращение в Дрезден вместе с женой (1842) без малейших средств и на грани катастрофы было достаточно плачевным, все-таки его оперы "Риенци" и "Летучий голландец" были поставлены в Дрездене (1842—1843).
Увлечение Вагнера романтической оперой на этом не кончается. Наоборот, от декоративной героики "Риенци" и фантастики "Летучего голландца" Вагнер переходит к углубленным проблемам духа, борющегося с иррациональностью губительных чувств и одерживающего победу в сиянии добра, красоты и нравственного долга. Вагнер, занявший к этому времени пост придворного капельмейстера Дрезденского театра, ставит там "Тангейзера" (1845), пишет "Лоэнгрина" (1845—1848), при постановке которого уже в Веймаре дирижирует его новый друг, знаменитый пианист и композитор Ф.Лист (28 августа 1850 года). Десятки лет рука об руку шли эти два великих художника, оказывая огромное благотворное воздействие друг на друга и на музыкальную культуру своего времени. Между прочим, симфонические поэмы Листа наряду с последними сонатами Бетховена оказали большое и уже чисто музыкальное влияние на Вагнера, о чем, к сожалению, пишут гораздо реже, чем этого заслуживает предмет.
Одержимость средневековыми сюжетами, столь любимыми у романтических поэтов (а Вагнер проявлял себя как незаурядный поэт и либреттист собственных опер), ничуть не мешает романтическому, по сути дела, увлечению Вагнера революцией 1848 года и встречам с известным русским анархистом М. Бакуниным, ниспровергавшим в своих безудержных мечтах и неосуществимых планах тиранию европейских тронов. Во имя господства высшей справедливости Вагнер участвует в дрезденском народном восстании 3—9 мая 1849 года, изгнавшем короля из Дрездена. Однако через несколько дней прусские войска разгромили восставших, временное правительство во главе с Бакуниным было арестовано; Бакунин был выдан русским властям, а Вагнер спешно уехал из Дрездена к Листу в Веймар, а затем в Иену, чтобы наконец покинуть Германию тайно, с подложным паспортом, добытым для него с помощью все того же Листа.
Так в 1849 году Вагнер очутился в Швейцарии, откуда он сразу же, хотя и ненадолго, совершил поездку в Париж. Его десятилетнее пребывание в Швейцарии (до 1859 года) оказалось чрезвычайно творческим и плодотворным.
Вагнер живет в Цюрихе, находясь в близкой дружбе с богатым коммерсантом Отто Везендонком (1815—1896) и его женой Матильдой (1828—1902), музыкантшей и поэтессой. Вагнер наезжает в Париж и Лондон (1855), дирижируя, зарабатывает на жизнь, но быстро растрачивает на прихоти и роскошь те деньги, которые добывает огромным трудом, и те, которые часто получает в виде субсидий от друзей и покровителей. Жена Вагнера, Минна, совместная жизнь с которой совсем не удалась, тяжело болеет, и болезнь усугубляется ее неуживчивым характером, ревностью к Везендонкам, которые материально помогают композитору и обеспечивают ему независимость.
Еще в начале 1852 года в Цюрихе, когда Вагнер познакомился с семьей Отто Везендонка, Матильда начала брать у него уроки музыки. Взаимоотношения учителя и ученицы постепенно переросли в настоящую дружбу, а затем в глубочайшее чувство восторженной любви. В 1853 году Вагнер написал Матильде "Сонату в альбом", представлявшую собой, по существу, фантазию на темы его опер. Оба они, однако, понимали, что любовь их должна остаться в сфере возвышенно-идеальных отношений, так как строить свое эгоистическое счастье ценой несчастья друга — Отто Везендонка и Минны, хотя и нелюбимой, но законной жены Вагнера, было невозможно и для Вагнера и для Матильды. Матильда Везендонк, примерная мать, заботливая супруга, даже и не скрывала от мужа своего преклонения перед Вагнером, но, наоборот, всячески содействовала тому, чтобы и Отто проникся самыми дружескими чувствами к гонимому композитору и иногда помогал ему денежными субсидиями. Так, например, Отто оплачивал расходы на устройство концертов, где исполнялись произведения Вагнера и Бетховена. По просьбе Матильды Отто в 1857 году купил для композитора вблизи своей виллы небольшой участок земли с домиком, который сам Вагнер назвал "Убежищем" и который предназначался для его постоянного местопребывания. В этом доме в конце апреля 1857 года Вагнер поселился с Минной, трезвая практичность которой никак не могла примириться с непостижимыми для нее отношениями Вагнера и Везендонков.
Когда 18 сентября 1857 года был закончен написанный в течение нескольких недель поэтический текст "Тристана" и Матильда, обняв Вагнера, сказала "теперь у меня больше нет желаний", для него наступил миг блаженства. Однако этому блаженству не суждено было продлиться. В начале 1858 года Вагнер отправился на краткий срок в Париж для устройства своих музыкальных дел, а по возвращении в Цюрих ею ожидали неприятности. Жена Вагнера, исполненная ревности и подозрений, распечатала одно из писем Вагнера к Матильде и грозила скандалом. Минне пришлось срочно отправиться лечиться на воды, Везендонки тоже уехали, чтобы прекратить досужие сплетни, в Италию, а Вагнер остался один в "Убежище", работая над композицией "Тристана". Но по возвращении Минны разрыв с Везендонка-ми оказался неизбежным. Вагнеру стоило многих усилий убедить Отто в том, что Минна не в состоянии понять высоких и бескорыстных отношений его с Матильдой. Правда, сам Вагнер прекрасно понимал бесполезность и запоздалость этих убеждений. Желая оградить Матильду от дальнейших житейских осложнений, он уезжает в Женеву, а затем в Венецию. Минна отправляется в Дрезден на попечение вагнеровских друзей. Вагнера посещают мысли о самоубийстве. Он ведет горестный дневник, с болью вспоминая далекую возлюбленную. и посылает ей письма, которые Матильда па этот раз возвращает нераспечатанными.
Воспоминанием о страстной любви и самоотречении Вагнера и Матильды остались "Пять песен для женского голоса", о которых сам Вагнер писал: "Лучшего, чем эти песни, я никогда не создавал, и лишь немногое из моих произведений может выдержать сравнение с ними". Вагнер положил на музыку стихи Матильды Везендонк, и эти песни можно считать преддверием к "Тристану и Изольде".
Все это время Вагнер живет "Тристаном", завершая его 8 августа 1859 года, завершая тем самым и свою личную жизненную драму с Матильдой Везендонк. Когда в этот год на краткое мгновение он встречается в Цюрихе с Матильдой, между ними, как вспоминает Вагнер, густой туман, сквозь который едва различимы голоса обоих. "Тристан", поставленный впервые в Мюнхене только в 1865 году, навсегда останется символом великой любви и великого страдания.
Еще не раз Везендонки будут по-дружески ласковы с Вагнером. Но тем не менее даже терпение любвеобильных Везендонков иногда истощалось. В 1863 году после чрезвычайно успешных концертов в Москве и Петербурге и после неуспешных концертов в Будапеште, Праге, Карлсруэ, Левенберге и Бреслау Вагнер планирует новую поездку в Россию, занимает под эту поездку много денег на отделку роскошного особняка в Пенцинге под Веной; когда же поездка в Россию расстраивается, а кредиторы грозят Вагнеру судом, композитор оказывается в небывало затруднительном положении. И вот на его отчаянную просьбу к Везендонкам приютить его те вдруг отвечают отказом. Но этот эпизод не помешал Везендонкам быть до конца своей жизни неизменными поклонниками Вагнера и чувствовать глубочайший пиетет к его творчеству. Впоследствии они будут присутствовать на открытии Байрейтского театра в 1876 году и с тех пор станут постоянными посетителями вагнеровских фестивалей в Байрейте.
Наконец, для цюрихского периода Вагнера, а в значительной мере и для дальнейшего творчества композитора имело большое значение знакомство Вагнера с философией Шопенгауэра (начиная с 1854 года). Однако тема об отношении Вагнера к философии Шопенгауэра настолько важна, что в дальнейшем мы ею займемся специально.
Только после того как миновал цюрихский период жизни и творчества Вагнера, а именно только в Париже в 1860 году, Вагнер получает разрешение жить в Германии, да и то сначала вне Саксонии. Полную же амнистию по ходатайству ряда высоких покровителей Вагнера композитор получает только в 1862 году, когда ему было разрешено жить в пределах Саксонии, где он не был целых тринадцать лет. Его "Тангейзер" скандально провалился в Париже (1861), и утешением ему служит лишь постановка "Тристана".
Среди горьких раздумий Вагнер создает текст народной немецкой оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры" (1861—1862), полной энергии и здоровой любви к жизни, в которой прославляются средневековые бюргеры и ремесленники, мастера пения, во главе со знаменитым поэтом и башмачником Гансом Саксом. Партитура этой оперы была закончена только в 1867 году, а первая постановка была осуществлена в Мюнхене. Здесь проявились любовь Вагнера к родной немецкой старине, уважение к таланту простого народа, гордость за его мастерство и неиссякаемую жизненную силу.
Оперы Вагнера становятся известны в России, куда композитор в качестве дирижера приглашен в 1863 году. Одним из пропагандистов вагнеровской музыки в России оказывается известный композитор и музыкальный критик А. Н. Серов, ставший другом Вагнера. В ближайшие годы оперы Вагнера ставятся и в России: "Лоэнгрин" (1868), "Тангейзер" (1874), "Риенци" (1879).
Вслед за успехом в России судьба Вагнера неожиданно резко изменилась. В 1864 году его посетил в Штутгарте секретарь только что вступившего на престол юного баварского короля Людвига II с приглашением прибыть в столицу Баварии Мюнхен, где Вагнеру была обещана королевская помощь и осуществление самых смелых его надежд. Людвиг II, горячий приверженец, поклонник и заочный ученик Вагнера, тотчас же после своего прихода к власти ставит его оперы, расходуя огромные средства и на строительство специального театра, и на постановку, и на подарки, и на уплату долгов композитора, составляющих к тому времени не менее сорока тысяч гульденов. В 1866 году умирает в Дрездене жена Вагнера, и он женится на дочери Листа Козиме, разошедшейся со своим мужем, учеником Листа и другом Вагнера, известным дирижером Гансом фон Бюловым.
Ганс фон Бюлов (1830—1894), преданный ученик Листа, женился в свое время по просьбе своего учителя на внебрачной дочери его и графини д'Агу Козиме, чтобы дать этому незаконному ребенку положение в свете. Бюлов был глубочайшим почитателем Вагнера и еще в 1857 году вместе с Козимой посещал его в Цюрихе. Когда дела Вагнера в связи с его дружбой с баварским королем начали поправляться и встал вопрос о постановке его опер, Вагнер в первую очередь вспомнил о Бюлове. Тот с радостью согласился приехать к Вагнеру в Штарнберг, близ Мюнхена, и послал туда жену с двумя дочерьми. Здесь и зародилось глубокое чувство, связавшее Вагнера и Козиму Бюлов. Когда враги Вагнера вынудили короля предложить композитору покинуть Мюнхен, и тот отбыл в Швейцарию, Козима, воспользовавшись отъездом мужа, посетила Вагнера в Женеве. В мае 1866 года она совсем переселилась к нему в имение Трибшен близ Люцерна, которое они подыскали совместно. Бюлов, законный супруг Козимы, оказавшийся жертвой ее безоглядной любви к Вагнеру, пережил тяжелейшую драму: враги обвиняли его в потворстве жене и в том, что он обязан своему влиянию в Мюнхене интригам Козимы, воздействующей через Вагнера на короля. К этому времени у Козимы родились от Вагнера уже две дочери — Изольда и Ева.
Лист тщетно пытался примирить всех близких и дорогих ему людей, и ему ничего не оставалось, как прекратить на несколько лет всякие отношения с Вагнером и дочерью. Зато Вагнер, сидя в Трибшене, диктовал Козиме свою "Автобиографию" (1865—1870) в трех томах и приобрел там еще одного нового поклонника—молодого профессора Базельского университета Фр. Ницше. Сюда, в Трибшен, тайно приезжал навестить друга баварский король Людвиг II. Сюда же пришло решение суда о расторжении брака четы Бюловых 18 июля 1870 года. Козима, деятельная и непоколебимая, не остановилась перед тем, чтобы перейти из католичества в протестантство ради своего нового замужества. Ее бракосочетание с Вагнером произошло 25 августа 1870 года в церкви Люцерна, в день рождения короля Людвига II. Вскоре, 4 сентября, состоялось крещение маленького Зигфрида (это был ее третий ребенок от Вагнера), а Вагнер написал в честь Козимы музыкальную поэму "Идиллия Зигфрид", которая поражает глубокой и спокойно-торжественной задумчивостью.
Годы пребывания в Трибшене (1866—1872) были важны не только для личной жизни Вагнера. В Мюнхене за это время поставили "Мейстерзингеров" (1868), "Золото Рейна" (1869) и "Валькирию" (1870). Вагнер закончил свою книгу "Бетховен" (1870) и" самое главное, завершил прерванного одиннадцать лет назад "Зигфрида", одновременно работая над "Гибелью бо;ов", последней частью тетралогии "Кольцо Нибелунга", и обдумывая замысел будущего "Парсифаля".
И вот в 1874 году вся тетралогия "Кольца" (теперь уже в составе "Золота Рейна", "Валькирии", "Зигфрида" и "Гибели богов") была завершена и стало возможно впервые в цельном виде исполнить ее в 1876 году в специальном вагнеровском театре, построенном в Байрейте, близ Мюнхена, с помощью все того же Людвига II. На это представление были приглашены изо всех стран известнейшие музыканты того времени, в том числе из России официально прибыли П. И. Чайковский и Ц. Кюи, передававшие свои корреспонденции в газеты Петербурга и Москвы.
Со времени сближения Вагнера с Людвигом II многое из его мечтаний в значительной мере осуществилось. У него была семья, любимая жена и дети. Он жил в Байрейте на вилле "Ванфрид", подаренной ему королем, бронзовый бюст которого символически возвышался перед фасадом дома. У Вагнера был свой театр, и весь музыкальный мир был изумлен величием его грандиозной тетралогии.
Вагнеру еще оставалось увидеть на сцене своего "Парсифаля" (1882), в котором со всей полнотой зазвучала тема рыцарей св. Грааля, намеченная им еще в "Лоэнгрине". Парсифаль — герой с чистым сердцем и детски наивной душой,— побеждает силы зла волшебника Клингзора, становится врачевателем физических ран несчастных и исцелителем человеческих душ, вступив в число рыцарей, преданных почитанию св. Грааля (под св. Граалем понималось копье, которым был пронзен Христос, и чаша с его кровью). Мир зла, обмана и лицемерия рушится под воздействием любви и добра, нравственного долга, ставшего реально осуществленным идеалом сердца, преодолевшего эгоистические страсти.
Вагнер, начавший свой творческий путь с красочной фантастики "Летучего голландца" и романтических порывов "Лоэнгрина", "Тристана" и "Тангейзера", после роковых страстей катастрофическою героизма "Кольца" вновь возвращается в лоно средневековой легенды, но уже преображенной светом высшей, отрешенной от земных страстей, духовной и действенно-живительной любви, в "Парсифале". Перед нами великолепное завершение драматического пути великого художника.
Нам рисуется небывалый по своей законченности имманентный для композитора круг его идейно-художественного развития. Миф о Парсифале играет основную роль уже в "Лоэнгрине" (начало 40-х годов), где сам Лоэнгрин является ни больше ни меньше, чем сыном Парсифаля. Эта же фигура не раз возникала в сознании Вагнера и во второй половине 40-х годов при изучении истории мифа о Нибелунгах. В наброске драмы "Иисус из Назарета" (1848) вагнеровскому воображению несомненно рисуется Парсифаль как предчувствие того, что в конце жизни он будет изображать в третьем и четвертом акте своего "Парсифаля".
Мысль о святом простеце Парсифале появляется у Вагнера также в 1855 году, когда составлялся первоначальный план "Тристана", в самый разгар создания "Тристана и Изольды" (а именно в третьем акте) среди всех мук и отчаяния 1858 года, потому что даже и здесь, на этой стадии глубочайшего пессимизма, жизнелюбивый дух Вагнера все еще мечтает о положительном разрешении тогдашней своей трагической ситуации. Эту мысль он, правда, отверг из-за соображений чисто художественных, чтобы не нарушать единства трагической картины "Тристана и Изольды". Однако уже к этому времени Вагнер продумал и набросал план драмы, специально посвященной просветлению грешницы Кундри и прославлению небесной чистоты Парсифаля. Имеются сведения и о занятиях Вагнера мифом о Парсифале также и в 1865 году. И только после постановки "Кольца" Вагнер целиком погружается в музыкальную мифологию "Парсифаля". Текст всей драмы был закончен и напечатан 25 декабря 1877 года; инструментовка всей пьесы завершена 13 января 1882 года. Таким образом, идейно-художественная и литературно-музыкальная мифология "Парсифаля" вместе с мифом о св. Граале переживалась Вагнером в Течение всей его жизни, начиная с периода романтического "Лоэнгринй". Поставлена драма была впервые и при жизни композитора единственный раз в Байрейте 26 июля 1882 года.
А 13 февраля 1883 года Вагнер скончался от разрыва сердца в той самой Венеции, где он когда-то глубоко пережил разлуку с Матильдой Везендонк. Вагнер умер за фортепиано, проигрывая произведения разных авторов и свои собственные,—в тот момент, когда играл партию Дочерей Рейна из "Золота Рейна".
Лосев. Глава 3
Никакой биографический обзор творчества любого великого художника не может дать представление о существе этого творчества. Тем более это нужно сказать о Вагнере, творчество которого представляется каким-то безбрежным морем, плохо поддающемся тем или другим формулировкам. Чтобы провести хоть одну мысль об этом творчестве для вмещения ее в пределы краткой статьи, необходимо ограничить эту безбрежность и выбрать что-нибудь одно, наиболее существенное.
Как мы уже сказали в начале статьи, наиболее существенным для Вагнера является то, что он в большей мере, чем все другие представители искусства XIX века, был охвачен предчувствием катастрофы старого мира. Мы сейчас остановимся именно на этой мысли, отбрасывая все прочее у Вагнера или подчиняя все именно этой мысли. Но сейчас эту мысль уже невозможно будет формулировать в общем и неопределенном виде, так что тут потребуется от нас весьма внимательный критический подход. Однако и эта центральная особенность вагнеровского творчества все еще слишком обширна и для небольшой статьи тоже требует ограничения и уточнения.
Прежде всего, нам казалось бы чрезвычайно важным сосредоточиться на эстетике Вагнера, отбрасывая многие другие, хотя сами по себе и весьма ценные, материалы. Дело в том, что Вагнер был не только композитором, но и весьма плодовитым литератором. Шестнадцать томов его литературных произведений и семнадцать томов писем свидетельствуют о том, что Вагнер с самых молодых лет и в течение всей жизни выступал как писатель по вопросам музыки, и не только музыки, но и всех других искусств. В музыкальной области он не был ни специально теоретиком музыки, ни специально историком музыки. Правда, обозрение литературных материалов Вагнера свидетельствует о его глубоких познаниях в области теории и истории музыки. Нет ни одного композитора прежнего времени, которого бы Вагнер не анализировал, высказывая не только глубокие и меткие суждения, но часто также суждения односторонние, схематические и даже поверхностные, появлявшиеся у него в связи с неимоверным увлечением своей собственной доктриной.
В советской литературе имеется довольно обстоятельное и ценное исследование музыкально-эстетических взглядов Вагнера, основанное на анализе не музыкальных произведений самого Вагнера, но именно этих, до чрезвычайности разнообразных, часто запутанных и противоречивых, литературных высказываний Вагнера о музыке. Это исследование принадлежит С. А. Маркусу. К нему и нужно обратиться тем читателям, которые хотели бы получить обзор фактических высказываний Вагнера о музыке в течение всей жизни композитора.
Что касается нас, то, учитывая всю эту литературную фактографию Вагнера, мы хотели бы вникнуть в эстетику Вагнера прежде всего на основании изучения его чисто художественных произведений музыки и поэзии. Литературную фактографию Вагнера мы, конечно, будем иметь в виду все время. И без этого никак нельзя обойтись. Однако эстетика самих музыкальных произведений Вагнера настолько своеобразна и настолько далека от его прозаических высказываний, что она требует особого внимания и ясности.
Но требовать полной ясности, теоретической или исторической, от Вагнера, пожалуй, было бы несправедливо. Никто из известных композиторов не писал так много о музыке, как Вагнер. Но в своих литературных высказываниях он является более публицистом, пропагандистом или музыкальным критиком, весьма увлекающимся и мало следящим за логикой своих высказываний. Кроме того, ему ничего не стоило и публично и в частной переписке полностью отказываться от своих прежних взглядов, часто даже и весьма недавних.
Примером такой противоречивости Вагнера может стать его отношение к Фейербаху, философией которого Вагнер был увлечен в конце сороковых годов. И это его увлечение вполне соответствовало тому страстному пылу, с которым Вагнер участвовал в революционных событиях 1849 года. Более того, одному из своих сочинений— "Произведение искусства будущего" (1850) Вагнер предпослал посвящение Фейербаху, считая, что здесь он "с искренним рвением попытался пересказать мысли" философа. Вместе с тем сам Вагнер в одном из писем упоминал, что читал, да и то бегло, лишь третий том Фейербаха. При издании же впоследствии сочинений композитора посвящение Фейербаху было вообще снято. Однако как бы ни разошлись пути Вагнера и Фейербаха (а они действительно бесповоротно разошлись), Вагнер навсегда сохранил для себя присущий Фейербаху пиетет перед величием природы, как истинной основы бытия, мечты об ее обновляющем воздействии на человека, глубокий интерес к мифу, герои которого от природы сильны своей целостностью. Если иметь в виду не случайные или поверхностные высказывания Вагнера, но его глубинное отношение к религии, то, пожалуй, влиянием Фейербаха можно объяснить неприятие Вагнером тех обязательных форм религии, которые были до него или при нем. Что же касается его подлинной и интимно переживаемой религии, то она безусловно была связана у него с чувством надвигающейся катастрофы мира денежного мешка и капитала, символами которой и были его главнейшие и центральные произведения. Однако об этом — ниже.
Наконец, сложно обстояло дело у Вагнера и с твердыми политическими взглядами, в связи с чем большинство знатоков и любителей творчества Вагнера утверждают, что сначала он был революционером, а потом стал реакционером. Это неверно не только по существу. Самое главное здесь то, что подобного рода критики Вагнера опять-таки не учитывают его небывало новаторского мировоззрения, которое никак нельзя свести к каким-либо определенным политическим воззрениям.
Не входя в подробный анализ всех подобного рода взглядов Вагнера (этот анализ читатель может найти в упомянутом выше исследовании С. А. Маркуса), укажем только на один курьез, обнаруживающийся при чтении сочинения Вагнера 1848 года о республике и короле в сравнении с его же работой 1864 года "О государстве и религии". В первом сочинении отменяются сословия и деньги, уничтожается не только аристократия, но вычеркивается и самая память о всех предках, проповедуются всеобщее выборное начало и абсолютное республиканство. И во главе подобной республики у Вагнера стоит король, который объявлен первым республиканцем. Спросим себя: такая ли уж здесь большая разница с прямым монархизмом, который проповедуется Вагнером в 1864 году? А все дело в том-то и заключается, что и республику, и отмену сословий, и уничтожение денежного хозяйства, и королевскую власть Вагнер везде понимает вовсе не в традиционном смысле тогдашних буржуазных теорий.
Так, например, чтобы судить о вагнеровской теории денег по ее глубинному существу и по ее глубинной революционной остроте, нужно читать, не только трактаты Вагнера 1848—1850 годов, а нужно читать и слушать его тетралогию 1870-х годов "Кольцо Нибелунга". Здесь вопрос ставится не просто общественно-политически, но космологически; и золото трактуется здесь не просто экономически, но по преимуществу космологически. Вот в этом-то и заключается подлинная революционная сущность вагнеровского творчества, в сравнении с чем его прозаические общественно-политические и экономические высказывания ранних лет являются только наивными попытками выразить то, что в прозаическом слове не выразимо.
Интересно отметить одно обстоятельство, которое воочию убеждает нас в полной несравнимости прозаических высказываний Вагнера с его главнейшими музыкально-драматическими произведениями. Когда в 70-х годах Вагнер заканчивал свою тетралогию "Кольцо Нибелунга" и мечтал о создании собственного музыкального театра, то объявленная по всей Германии подписка для пожертвований дала самый ничтожный результат. И характерно, что тогдашний канцлер Бисмарк никак не отозвался на ходатайство Вагнера о предоставлении ему государственных средств на построение театра. Ясно, что этого не было бы, если бы вагнеровский монархизм 1864 года на самом деле имел что-нибудь общее с тогдашними буржуазными монархическими теориями. Бисмарк прекрасно понимал, что это не имеет никакого отношения к политике и что для тогдашней восходящей Германии все эти Нибелунги не будут иметь никакого значения. И когда на средства баварского короля Людвига II был построен знаменитый Байрейтский театр недалеко от Мюнхена, то Бисмарк не явился даже и на его торжественное открытие в 1876 году с первой постановкой полной тетралогии "Кольцо Нибелунга". А вместо себя Бисмарк прислал императора Вильгельма I, который был известен своим слабохарактерным и безвольным поведением и полной зависимостью от Бисмарка Конечно, для репутации Вагнера приезд Бисмарка в Байрейт был бы несравненно более значим, чем прибытие Вильгельма 1. Но рейхсканцлер прекрасно понимал, что тут нет ни грана той монархической и пангерманистской идеи, в пользу которой сам Бисмарк работал целую жизнь. Это наилучшее доказательство того, как всегда были неосновательны обвинения по адресу Вагнера в его якобы приверженности к реакционной политике.
Была единственная коронованная особа, которая глубочайшим образом оказалась преданной творчеству Вагнера. Это — баварский король Людвиг II, настоящий энтузиаст и ревностный почитатель творчества композитора. Но преданность Людвига II Вагнеру, его самая искренняя любовь к нему носили не государственный, а чисто личный характер. Министры же Людвига II всегда возражали против траты миллионов на вагнеровское дело. Поэтому можно сказать, что нашелся только единственный король, который подружился с Вагнером, да и то независимо от всяких монархических или религиозных высказываний композитора.
Вот почему все общественно-политические теории Вагнера нужно понимать совсем не буквально; и вот почему бесчисленные их противоречия и непоследовательности не имеют никакого отношения к музыкальному творчеству Вагнера.
В религии Вагнер был таким же, как в области общественно-политической. Многие любители схем подводили "Тристана и Изольду" Вагнера под буддизм, "Кольцо Нибелунга" — под религию древнего германства, а "Парсифаль" — под католичество. На самом же деле если учесть всю глубину и многообразие художественного творчества Вагнера, то, несмотря на отдельные третьестепенные совпадения, подлинная религия самого Вагнера имеет мало общего с какой бы то ни было исторически известной религией. У него была собственная религия, непонятная буржуазному миру, да и эту религию при известной точке зрения можно даже и не именовать религией.
Споры о том, является ли Вагнер революционером или реакционером и переходил ли он от одного политического мировоззрения к другому, будут совершенно бесплодны до тех пор, покамест не будут учтены полностью его философия и его эстетика, которые даются в его главнейших музыкальных драмах. Вагнер ведь не был философом по профессии, не был он и богословом, не был эстетиком, не был он и политиком, и даже не был теоретиком музыки. Всех этих вопросов он касался только случайно, исключительно в связи с неопределенно текучей обстановкой жизни, очень часто только публицистически, мимоходом, почти всегда односторонне, а мы бы даже сказали, часто весьма наивно и поверхностно, без всякого стремления к хотя бы малейшей последовательности или системе. Это полная противоположность его чисто музыкальному миру, который он не только с необычайной гениальностью, но также с небывалой оригинальностью и железной последовательностью изображал в течение нескольких десятков лет своей творческой жизни.
Таким образом, то безбрежное море вагнеровских материалов, о необходимости ориентации в котором мы сказали выше, в настоящей работе мы намереваемся специфицировать в следующих четырех отношениях.
Во-первых, нам хотелось бы формулировать хотя бы некоторые, наиболее существенные пункты именно эстетики Вагнера. При этом эстетика Вагнера в ее подлинном значении может почерпаться не столько из его литературно-критических высказываний, сколько из его художественного творчества, из его общеизвестных, но еще до сих пор с большим трудом понимаемых музыкальных драм.
Во-вторых, как ни понимать эстетику Вагнера, она никогда не была у него абстрактной или только теоретической. Эстетика у него пронизана чувством катастрофы, которую переживала тогдашняя Европа. Революция, на подготовку которой европейское общество потратило несколько столетий, рухнула, не оставив после себя никаких достаточно глубоких следов и достаточно основательных надежд на будущее. Вагнер глубочайшим образом переживал этот крах революции, и даже больше того, он обобщал революцию до космических размеров, находил и во всем космосе такого же рода революции и с большим восторгом их отображал.
В-третьих, сам Вагнер всегда был весьма деятельной и страстной натурой. Он ни в коем случае не мог ограничиться только созерцанием краха революции и всегда искал выход из него. Но в те времена выход из крушения мелкобуржуазной революции был двойной. С одной стороны, Европа начинала лелеять мечты об идеальном социализме, который в смысле своей научной обоснованности превосходил бы все бывшие до него представления о социализме. Но Вагнер не был социалистом в смысле теории XIX века. С другой стороны, Европа быстро шла к империализму и к превращению мелкобуржуазных мечтаний в грандиозное "буржуазно-капиталистическое строение и переустройство всей тогдашней жизни. Но Вагнер не склонялся и к империализму. А выяснение того, чем он был в этом смысле, требует тщательного анализа.
В-четвертых, центральной областью творчества Вагнера оказалось изображение интимной судьбы европейского индивидуума, утерявшего прежние революционные идеалы и на первых порах не умевшего конкретно представить себе то идеальное будущее, ради которого совершались все революции, а также направление, в котором развивался исторический процесс. Душа этого индивидуума, наделенного необычайно страстной жаждой жизни, но познавшего тщету всякого внешнего устроения жизни, в условиях полной неизвестности будущности человечества—вот что привлекало в эстетическом смысле Вагнера, и вот чем Вагнер жил в период расцвета своего творчества.
Вначале он писал романтическую музыку, высшим достижением которой явились "Тангейзер" и "Лоэнгрин". Но после краха революции он перестал быть романтиком или стал романтиком совсем в другом смысле этого слова. С другой стороны, его положительные достижения, до которых он дошел в своих "Нюрнбергских мейстерзингерах" или в "Парсифале", характерны не столько для периода расцвета его творчества, сколько для его последнего периода. Поэтому его "Тристан и Изольда" и "Кольцо Нибелунга", по крайней мере в рамках нашего кратчайшего изложения, были и остаются наилучшим показателем подлинной эстетики Вагнера, по необходимости основанной не на его революционных или внереволюционных исканиях, но на его пока только еще пророчестве будущей, для него пока еще неясной, но зато обязательно всеобщей и обязательно страстно ожидаемой революции. Эта эстетика стесненного и безвыходно чувствующего себя индивидуума, распятого между двумя великими эпохами, являлась у Вагнера в первую очередь критикой давно уже дискредитировавшего себя европейского индивидуума и страстными попытками выйти за пределы всякого субъект-объектного дуализма. Попытаться хотя бы отдаленно формулировать эту бездонно трагическую эстетику нам и хотелось бы в нашем изложении.
Вот то, чем мы ограничиваем себя в настоящей работе. Этим и определяется подбор тех вагнеровских материалов, которые нам хотелось бы здесь использовать. В частности, нам придется касаться и таких материалов биографии Вагнера, которые обычно вовсе не принимаются во внимание при изложении его эстетики. А они-то как раз и являются глубоко показательными для того трагически обреченного индивидуума, величайшим изобразителем глубин которого и явился Вагнер в "Тристане и Изольде" и в "Кольце Нибелунга". При этом нечего и говорить о том, что теоретические высказывания Вагнера так или иначе должны учитываться самым серьезным образом. Мы полностью принимаем их во внимание, но эстетику Вагнера строим прежде всего на анализе упомянутых выше двух его музыкальных произведений.
Лосев. Глава 4
Если остановиться на первом литературно-критическом периоде творчества (1833—1838), его самых юношеских суждениях о музыке, то уже в первой статье, написанной Вагнером в возрасте двадцати одного года, а именно "Немецкая опера" (1834), выставляется тезис, центральный для всего творчества Вагнера и для его эстетики. В этой статье он говорит, что мастером оперы станет только тот, кто будет писать "не по-итальянски, не по-французски, а также и не по-немецки". Уже тут высказана точка зрения эстетического универсализма, с которой Вагнер никогда не расставался, в какие бы односторонности ни впадал в связи с обстоятельствами времени.
Что касается второго периода вагнеровского литературно-критического творчества, который иные называют парижским (1839—1842), то здесь мы отметили бы трактат "Паломничество к Бетховену" (1840), где Вагнер объявляет Бетховена с его Девятой симфонией предшественником своей музыкальной драмы и уже набрасывает то, что и останется навсегда в его собственной музыкальной драме.
В 1842 году Вагнер был приглашен капельмейстером ко двору саксонского короля в Дрездене. Из этого дрезденского периода творчества Вагнера (1842—1849) мы указали бы, прежде всего, на создание им четырех опер высокого художественного достоинства — "Риенци" (1842), "Летучий голландец" (1843), "Тангейзер" (1845), "Лоэнгрин" (1845—1848). Все эти оперы по своему стилю и мировоззрению мало отличаются от тогдашней традиционной романтической музыки. Однако нельзя не заметить того пристрастия к мифолого-героическим темам, которое резко отличало произведения Вагнера от всякой бытовой музыки для увеселения и поверхностной забавы. А этот мифологический героизм нес с собой далеко идущие жизненные обобщения, которые еще более восторжествуют у него в послеромантический период.
В 1848—1849 годах, в кратковременный период дрезденского восстания, Вагнер страстно увлекается революцией, предлагает разного рода неимоверные и скоропалительные реформы, а главное, выражает свой революционный энтузиазм и свои крайне наивные политико-экономические взгляды. Вот эти статьи: "Как относятся республиканские стремления к королевству?" (май 1848 г.); "Германия и ее князья" (октябрь 1848 г.); "Человек и существующее общество" (февраль 1849 г.), "Революция" (апрель 1849 г.). Сюда примыкают стихотворения "Привет венцам из Саксонии" (май 1848 г.) и "Нужда", а также письмо к интенданту королевского театра фон Люттихау. Мы обратим внимание на это письмо, написанное в середине 1848 года, между первыми указанными у нас сейчас двумя весьма радикальными трактатами, безусловно защищающими революцию.
В письме Вагнер предстает как защитник колеблющейся саксонской монархии: заверяет интенданта королевского театра в своей верности королю, опасается революционных действий масс, предостерегает от революции, сожалеет о своем участии в ней и убеждает, что больше не будет заниматься такими делами.
После знакомства с подобными материалами из биографии Вагнера периода революции, сам собой вытекает вывод о полном легкомыслии вагнеровских суждений того времени. Однако скажем об этом несколько подробнее.
Обычно исследователи выдвигают на первый план участие Вагнера в революции 1848 года. Делается это, однако, большею частью весьма малокритически. Во-первых, это была чисто буржуазная революция, а Вагнер всегда чувствовал себя гораздо выше традиционной буржуазной культуры того времени. Во-вторых же, это участие было достаточно легкомысленным. Сам Вагнер пишет о том, что в то время его волновали уличные толпы и он бросался в них, сам не зная, почему и зачем. Конечно, у него не было никакой продуманной идеологии; лишь экспансивная и легко возбудимая натура толкала его участвовать в революции, равно как и достаточно быстро от нее отходить. И все же мы должны учитывать, что участие Вагнера в дрезденском восстании 1849 года было, несомненно, реальностью; об этом можно судить по дошедшему до нас в дрезденских архивах делу под названием "Акты против бывшего капельмейстера Рихарда Вагнера в связи с участием его в местном восстании 1849 года".
Эти вагнеровские настроения были весьма кратковременными (1848—1849). По приезде в Швейцарию он стал работать над материалами для своей будущей тетралогии "Кольцо Нибелунга", а также над "Тристаном и Изольдой", музыкальной драмой, оконченной в 1859 году. И неоконченные "Нибелунги" и драма "Тристан и Изольда" не имеют ничего общего ни с какой буржуазной революцией. Здесь Вагнер проповедовал такую революцию, о которой в те времена едва ли кто-нибудь из деятелей искусства в Европе мог и мечтать.
Наконец, если угодно, то и в самый разгар своих революционных мечтаний Вагнер употребляет такие выражения и строит такие образы, которые весьма ощутимо свидетельствуют о жившем всегда в глубине сознания Вагнера чувстве грандиозности, доходящей до космических обобщений. Правда, в этот период революционных переживаний Вагнера такого рода картины могут нами трактоваться в виде каких-то поэтических метафор, и не больше того. Но если всерьез иметь в виду все последующее развитие Вагнера, его центральные музыкальные драмы, то едва ли будет правильным находить здесь только одну беспредметную поэтическую выдумку. Эти метафоры, которые мы сейчас приведем, можно сказать, почти уже не метафоры, а самая настоящая мифология, в которой все метафорическое мыслится уже не просто условно, но как подлинная субстанция жизни и бытия.
В указанной выше статье "Революция" Вагнер сравнивает революцию с какой-то высшей богиней и так рисует ее образ: "...она приближается на крыльях бурь, с высоко поднятым челом, озаренным молниями, карающими и холодными очами, и все же какой жар чистейшей любви, какая полнота счастья сияет в них для того, кто дерзает смелым взглядом посмотреть в эти темные очи! Она приближается поэтому в шуме бури, вечно омолаживающая мать человечества, уничтожая и воодушевляя, проходит она по земле... возникают руины того, что в суетном безумии было построено на тысячелетия... Однако за ней открывается нам освещенный ласковыми лучами солнца доныне невиданный рай счастья, и там, где, уничтожая, касалась ее нога, зацветают благоухающие цветы, и где еще недавно воздух содрогался от шума битвы, мы слышим ликующие голоса освобожденного человечества!"
Невероятная смесь индивидуализма, космизма и мифологии звучит в этом трактате в словах самой Революции, обращенных к угнетенному человечеству: "Я собираюсь уничтожить до основания тот порядок вещей, в котором вы живете, ибо он возник из греха, его цветом является нищета, плодом — преступление... Я хочу уничтожить господство одного над другим... разрушить могущество сильных, закона и собственности... Собственная воля пусть будет господином человека, собственное желание единственным законом, собственная сила только его достоянием... я хочу разрушить существующий порядок вещей, разделяющий единое человечество на враждебные друг другу народы, могущественных и слабых, имеющих право и бесправных, богатых и бедных, ибо он делает из всех только несчастных..." .
Грандиозность подобных "революционных" образов Вагнера мало чем отличается от грандиозности основной концепции "Кольца Нибелунга". И если говорить о революционности Вагнера, то он в течение всей своей жизни только и был революционером, хотя каждый раз и в разных смыслах этого слова.
После ознакомления со всеми этими материалами революционных увлечений Вагнера 1848—1849 годов читатель получает полную возможность сам ответить на вопрос, чем была революционность Вагнера, какие в ней буржуазные и небуржуазные черты, где в ней политико-экономическое учение, а где полное общественно-политическое и экономическое легкомыслие, где, наконец, зачатки той космической мифологии, из которой в дальнейшем и будет состоять его философско-эстетическое мироощущение.
Здесь мы хотели бы подчеркнуть только одно обстоятельство, которое ни при каких подходах к жизни и творчеству Вагнера невозможно игнорировать. Это обстоятельство заключается в том, что, несмотря на свои теоретические формулы, Вагнер всегда оставался верен какому-то абсолютному идеалу, в жертву которому он приносил как все, что творилось вокруг него, так и все свои весьма изменчивые психологические настроения. В своих революционных сочинениях Вагнер как будто бы склонен к полному атеизму и материализму, и тем не менее его вера в идеальное будущее, пусть хотя бы и земное, нисколько от этого не уменьшается, а, скорее, даже увеличивается. Его отношение к христианству до 1848 года положительное, в период 1848—1854 годов отрицательное. Тем не менее в своем эскизе 1848 года "Иисус из Назарета" он все же находит нечто реальное и для него близкое в этом образе, а именно самоотдание ввиду греховного состояния человечества. Но ведь идея самоотречения яснейшим образом выражена у Вагнера и в "Летучем голландце", и в "Тангейзере", и в "Лоэнгрине", то есть в операх 40-х годов.
Кроме того, эту же идею самоотречения мы найдем и в "Кольце Ннбелунга" и в "Тристане и Изольде", то есть в музыкальных драмах 50-х годов. Эта же идея доминирует у него вплоть до "Парсифаля", который создавался за два-три года до его смерти. Когда в окончательном варианте поэтического текста "Нибелунгов" (1852) Брингильда бросается в костер Зигфрида, а роковое кольцо возвращает в глубины Рейна, то ведь и здесь выступает яснейшим образом не только идея самоотречения, но и та идея искупления мира, которая является сущностью христианства. Что же касается концепции св. Грааля в "Парсифале", то здесь Вагнер выражает не только свое вполне благочестивое отношение к христианской святыне, но отношение это вполне благоговейное, и благоговейное в связи с такой же оценкой евангельской священной истории. Впрочем, еще в трактате "Вибелунги" (и это все в том же революционном 1848 году) легенда о св. Граале интерпретируется тоже во вполне благочестивом и даже философско-историческом духе. Точно так же в своих работах 1848— 1854 годов Вагнер проповедует примат природы как всемогущего начала и критикует теистическую философию. Но ведь это безразличное, или, лучше сказать, внеличностное, начало торжествует у него и в "Нибелунгах" и в "Тристане", то есть в драмах, противоположных всякому материализму и атеизму. Вагнер еще не расставался с учением о необходимости, принимавшим у него в период революции материалистический оттенок, но становившимся у него учением о судьбе опять-таки в этих же двух драмах.
Поэтому глубочайшим образом будет заблуждаться тот, кто среди всех бесконечных и бурных стремлений Вагнера не ощутит у него того глубочайшего единства его художественных исканий, которое, как мы увидим ниже, всегда сводилось к страстной критике субъект-объективного дуализма, то есть к критике самой основы новоевропейской культуры, и к чувству надвигающейся мировой катастрофы.
Лосев. Глава 5
Итак, после подавления восстания в Дрездене в 1849 году Вагнер ради спасения своей жизни должен был эмигрировать из Германии. Он поселился в Цюрихе, где и прошел швейцарский, или, точнее, цюрихский период его жизни и творчества (1849—1859).
В трактате 1850 года "Произведение искусства будущего" у Вагнера уже появляется ряд глубоких идей, которые скоро лягут в основу всего его музыкального творчества.
Здесь мы обратили бы внимание прежде всего на рассуждение о сущности искусства, могущего, по мысли Вагнера, полностью отразить, переработать и синтезировать всю жизнь в целом. В жизни и в природе имеется необходимость, но она дана здесь нерасчлененно и бессознательно. Искусство же вскрывает эту необходимость в полной последовательности и системе, наглядно и понятно. Художественное произведение должно быть образом универсальной жизни. Отдельные герои, изображаемые в искусстве, своими подвигами и своей логически оправданной смертью отражают целесообразность всего миропорядка и сливаются с ним. Здесь Вагнер не употребляет термина "миф". Однако ясно, что изображаемый им универсальный человек уже выявляет в себе всю сущность природы и мира и тем самым, с нашей точки зрения, а в дальнейшем и с точки зрения самого Вагнера, является не чем иным, как именно мифологическим героем.
Одной из центральных идей данного трактата является страстная проповедь единства всех искусств и их окончательного и предельного синтеза. И если сразу не понятно, как это происходит, то Вагнер делает это вполне понятным с помощью своей теории драмы. Именно в драме, где предполагаются сцена и актеры, мы находим слияние поэзии, скульптуры, живописи и архитектуры. Кроме того, настоящая драма обязательно должна быть музыкальной, потому что только музыка способна изобразить человеческие переживания во всей их интимной глубине и только оркестр может дать единую и совокупную картину всего драматически происходящего в жизни и в мире. И все подобного рода мысли Вагнера отныне останутся у него навсегда, до конца его творчества. Мы бы сказали, что, с точки зрения последующего Вагнера, музыкальная драма с ее актерами, певцами и оркестром есть не что иное, как символ всей космической жизни со всей присущей ей органической и структурной необходимостью.
Наконец, из многочисленных идей трактата можно указать еще на роль народа, которая для Вагнера является основной в совершенном искусстве будущего. "Но кто же станет художником будущего? Поэт? Актер? Музыкант? Скульптор? Скажем без обиняков: народ. Тот самый народ, которому мы только и обязаны еще и сегодня живущим в наших воспоминаниях и столь искаженно воспроизводимым нами единственным истинным произведением искусства,— народ, которому мы обязаны самим искусством".
Необходимо, однако, заметить, что если в этом трактате 1850 года и были остатки революционных воззрений Вагнера, то в письме к Берлиозу 1860 года он уже отмежевывается от революции. По этому поводу мы должны сказать, что Вагнер отмежевывается не от всякой революции вообще, но от буржуазной революции. Сам же он полон самых глубоких революционных идей, поскольку его музыкальная драма в данном трактате далеко выходит за пределы того, о чем могли мечтать самые смелые музыканты буржуазного мира. Кроме того, приоритет абсолютного искусства и концепцию народа-художника едва ли можно считать революционной идеей в смысле мелкобуржуазного восстания в Дрездене в 1849 году. Вагнер был глубочайшим революционером, но только не в смысле мелкобуржуазных революций XIX века. Его революция — революция, которая должна была смести с лица земли вообще все тогдашние общественно-политические противоречия и мыслилась как глубочайшее преобразование человеческого мира вообще.
В трактате того же 1850 года "Опера и драма" Вагнер несправедливейшим образом обрушивается на всю предыдущую историю оперы, игнорируя все нововведения Глюка и Моцарта, а заодно — на всю предыдущую симфоническую музыку, не исключая Бетховена и Берлиоза. Бетховен, кроме его Девятой симфонии, изображается у Вагнера в таких тонах, которые кажутся какими-то патологическими, а у Берлиоза чудовищно принижаются или прямо игнорируются все его роскошные романтические приемы. По Вагнеру, все это происходит только потому, что до него, до Вагнера, никто не знал, что такое музыкальная драма, и потому никто не мог ее создать.
Что же касается положительных утверждений Вагнера в данном трактате, то здесь впервые, и притом в яснейшей форме, говорится о мифологии. По Вагнеру, рассудок и чувство синтезируются в фантазии, а фантазия приводит художника к чуду; и это чудо в драме есть не что иное, как ее мифология. Конечно, эта глубочайшая, чисто вагнеровская мысль тоже выражена здесь не слишком четко в фило-софско-эстетическом смысле слова. Вагнер должен был бы говорить не о рассудке, но, скорее, о философских идеях, о широком и глубоком мышлении, а вместо чувства яснее было бы говорить о материально-чувственном или о пространственно-временном осуществлении или воплощении мысли. Термин "чудо" тоже не очень ясен. Но зато возникающее отсюда понятие музыкально-мифологической драмы выражено у Вагнера достаточно понятно, особенно если иметь в виду позднейшие и центральные для его творчества музыкальные драмы.
Особенно интересна третья часть трактата. Здесь у Вагнера много поэтических выражений и много всякого рода логических неясностей. Но если перевести все это учение Вагнера на более понятный язык логики, то можно сказать так.
Все художественное творчество и создаваемый им предмет Вагнер понимает как область любви. Мужским началом для Вагнера является здесь поэтический вымысел, или поэтический образ. Этот образ не может быть единственно решающим в искусстве, потому что он слишком абстрактен и слишком расчленен, слишком не собран в единое и нераздельное целое. Этому поэтическому образу противостоит бесконечная и никак не расчлененная стихия абсолютной музыки, которая, очевидно, тоже не может стать основой подлинного искусства. Зато это женское музыкальное начало призвано воплощать в себе поэтическую образность и тем самым лишать ее абстрактности, раздробленности и превращать в творческое становление. На первых порах этим детищем является мелодия. Она уже не есть просто поэзия, но все еще находится в горизонтах поэта. Более существенное воплощение музыкального образа происходит тогда, когда бесконечная музыкальная глубина тоже начинает воплощать в себе поэтическую образность. Но тогда вместо мелодии мы получаем уже гармонию, и не гармонию вообще, но такую, которая являет собою вертикальный разряд музыкальной глубины, просветленный и освещенный образами поэзии. Тем самым гармония являет собою уже некоторого рода соотношение мелодических элементов, а это соотношение, поэтически выраженное, есть музыкальная драма. Поэтому музыкальная драма вовсе не есть только поэзия или только искусство слова, как она не есть и просто музыкальное звучание как таковое, не оплодотворенное словом и мыслью, а способное только забавлять и увеселять. Итак, музыкальная драма есть полная нерасчленимость поэзии и музыки, это их подлинное детище, которое создается в результате акта их взаимной любви и которое есть уже нечто новое, не сводимое ни к поэзии, ни к музыке.
Это наше изложение теории Вагнера не претендует на ее буквальное воспроизведение, которое невозможно ввиду нечеткости выражений, допущенных в этом трактате. Но это есть тот наш анализ теории музыкальной драмы, который, как нам кажется, в понятной и расчлененной форме воспроизводит то, что у самого Вагнера является не вполне понятным и не вполне расчлененным. Ясно, что еще за девять лет до окончания Вагнером его первой музыкальной драмы в собственном смысле слова, то есть до "Тристана и Изольды", законченной, как мы знаем, в 1859 году, здесь, в трактате 1850 года, уже почти полностью формулировано то, что можно назвать подлинной эстетикой Вагнера, а именно его теория музыкальной драмы. С тех пор уже навсегда эстетика Вагнера останется эстетикой музыкально-драматической.
В трактате 1851 года под названием "Обращение к моим друзьям" мы находим увлекательную картину духовного развития Вагнера в предыдущие годы и разъяснение некоторых сторон его творчества, встречавших непонимание и прямую враждебность. Из этого сочинения прежде всего видно, что Вагнера интересовали в революции не просто политический переворот и не просто юридическая и формальная сторона, но только чистая человечность и художественные реформы. И когда он вскоре убедился, что буржуазная революция не преследует целей высокой и чистой человечности, то сразу отошел от революции. "Ложь и лицемерие политических партий наполнили меня таким отвращением, что я снова вернулся к полному одиночеству".
Однако никакое одиночество не может быть у художника самоцелью или последним словом. Вагнер, как он сам говорит, искал "чистой человечности", но не мог найти ее в грубых, дробных и противоречивых фактах современного ему лицемерия и постоянно колеблющихся юридических отношений. Вагнер не употребляет здесь слова "обобщение". Но когда он здесь же заговаривает о мифе, то делается понятным, что не что иное, как именно обобщенная человечность, не мелкая и всегда изменчивая, всегда ненадежная современная человечность, но именно обобщенная человечность привела его к мифу. Он обращается сначала именно к античности и сталкивается там с этой обобщенной человечностью мифа в аттической трагедии. Но то же самое искание обобщенной человечности, как говорит Вагнер, привело его к родной немецкой старине, и прежде всего—к общенародному мифу о Зигфриде. "Я сбрасывал с него (то есть с мифа о Зигфриде.— А. Л.) одну одежду за другой, безобразно накинутые позднейшей поэзией, чтобы, наконец, увидеть его во всей целомудренной его красоте. И то, что я увидел, была не традиционная историческая фигура, в которой драпировка интересует нас больше, чем ее действительные формы,— это был во всей своей наготе настоящий живой человек, в котором я различал нестесненное, свободное волнение крови, каждый рефлекс сильных мускулов: это был истинный человек вообще".
В свете искания этой чистой человечности Вагнер в данном трактате весьма подробно и интересно рисует историю возникновения его предыдущих опер, что является важным для биографии Вагнера, но второстепенным для характеристики его теоретической эстетики.
Интересно высказываемое Вагнером понимание его брошюры "Искусство и революция" в свете именно этих исканий. Оказывается, что еще до 1848 года он уже понял всю тщету современного ему искусства и все ничтожество как публики, воспринимающей искусство, так и властей, поощряющих это искусство. В этот период он уже чувствовал себя одиноким, и дрезденское восстание 1849 года только укрепило его в сознании полной необходимости духовного одиночества. Также и два других трактата 1850 года характеризуются Вагнером как результат его глубочайшего стремления отвергнуть все существующие формы искусства, и прежде всего—оперу, и набросать мысли о полном их преодолении. Вагнер здесь прямо говорит: "Я не пишу больше никаких "опер", а свой восторженно переживаемый миф о Зигфриде и Брингильде он собирается изобразить не оперно, но, как он теперь говорит, исключительно только в драме, то есть в музыкальной драме.
Весь трактат и кончается у Вагнера планом такой огромной музыкальной драмы, рассчитанной на три вечера, да еще с прологом, для которого тоже понадобится целый вечер. И хотя до последних строк трактата Вагнер не устает бранить современное ему театральное искусство и невозможность достигнуть понимания его творчества у широкой публики, он все же просит своих друзей помочь ему в этом грандиозном деле.
Остальные литературные произведения Вагнера в 50-е годы, то есть в цюрихский период его творчества, не имеют большого значения, поскольку все эти годы Вагнер восторженно предавался своему собственному литературно-музыкальному творчеству, создавая сначала "Нибелунгов", а потом "Тристана и Изольду". В эти годы Вагнер, можно сказать, почти оставляет всякую чисто литературную деятельность, и мало того, в своих письмах он сам считает все свои литературные трактаты чистейшей ошибкой и говорит, что они для него теперь просто "отвратительны". Не успев прибыть в Швейцарию, он тотчас же прекращает свою литературную деятельность, во многом связанную с революцией, в которую он теперь уже не верит, и составляет план своего грандиозного музыкально-драматического произведения "Кольцо Нибелунга".
Лосев. Глава 6
Теперь мы можем приступить к вопросу о том, какое эстетическое мироощущение лежит в основе тетралогии "Кольцо Нибелунга" и как можно было бы здесь формулировать его эстетику. Многое, как мы знаем, было сформулировано самим Вагнером в его литературных произведениях. Этого, правда, совершенно не достаточно, да и сам Вагнер отказался от этих своих литературных произведений. В своем отказе Вагнер, несомненно, слишком увлекается и преувеличивает негодность этих трактатов для понимания его музыки. Но несомненно, то, что он дал в своей тетралогии "Кольцо Нибелунга", во многих отношениях трудно даже и сравнивать с его музыкальной теорией и публицистикой. Что из этих трактатов перешло к "Кольцу Нибелунга" в качестве непререкаемой эстетической основы?
Мы уже видели, что Вагнер всегда весьма восторженно призывал к музыкальному универсализму. Уже в первой своей статье 1834 года, как мы помним, Вагнера интересует не какая-нибудь отдельная и односторонне национальная музыка. Уже здесь его интересует то, что можно назвать общечеловеческим характером музыки. Это, конечно, не мешает пользоваться теми или другими национальными сюжетами. Но они должны трактоваться, по Вагнеру, в духе общечеловеческой проблематики. Далее, в "Кольце Нибелунга", безусловно, осуществлен еще и другой принцип, который раньше противопоставлялся Вагнером фривольному, общедоступному и, как мы теперь сказали бы, мелкобуржуазному содержанию тогдашней традиционной оперы. Сюжет подлинного художественного произведения должен трактоваться в настолько обобщенной форме, чтобы речь шла не о мелочах бытовой жизни, но о предельном обобщении всей человеческой жизни, взятой целиком. По Вагнеру, это значило, что подлинное художественное произведение всегда есть произведение мифологическое. Это целиком относится к "Кольцу Нибелунга".
Далее, в этом грандиозном произведении целиком осуществились мечты Вагнера о слиянии искусств, и прежде всего — о слиянии поэзии с музыкой. В "Кольце" эта теория воплотилась с помощью использования лейтмотивов, когда каждая идея и каждый поэтический образ тут же специфически организованы при помощи музыкального мотива. Так, мы находим в "Кольце" мотив копья Вотана, данный в виде длинного ряда мощно нисходящих звуков, как бы повергающих всякое сопротивление до полного его уничтожения. Так, мы имеем в "Кольце" мотив меча, того богатырского меча, которым пользуется Зигфрид, совершая свои сверхчеловеческие подвиги; этот лейтмотив — мощное и непобедимое взмывание вверх. Он вложен в уста еще самого Вотана, в конце "Валькирии", когда усыпленная Брингильда остается на горе, окруженной огнем и доступной только Зигфриду, который с мечом пробьется через этот огонь и поцелуем разбудит Брингильду.
Обилие лейтмотивов в "Кольце" часто раздражало противников Вагнера, которые критиковали его музыкальные произведения за то, что они чересчур насыщены философией и что "Кольцо Нибелунга" будто бы вовсе не есть музыка, а только философия. А мы, говорили противники Вагнера (и говорят еще и теперь), вовсе не философы, а музыканты; поэтому мы и не обязаны разбираться во всем этом философском нагромождении лейтмотивов у Вагнера. На это нужно сказать, что вагнеровские лейтмотивы действительно не есть только музыка; и кто подходит к ним исключительно как к музыке, тот лишает себя возможности разбираться в таком произведении, как "Кольцо Нибелунга". Чтобы понимать эстетику "Кольца Нибелунга", его лейтмотивы (а их здесь более девяноста), в самом деле необходимо понимать все это не только музыкально, но и философски, а вернее, и не музыкально и не философски, но синтетически, как этого требовал Вагнер. Кроме того, противники Вагнера забывают о том, что лейтмотивы встречаются у многих композиторов и помимо Вагнера, причем у таких, мировоззрение которых не имеет ничего общего с мировоззрением Вагнера.
Так, во всех операх Чайковского и Римского-Корсакова, хотя эти композиторы и являлись противниками Вагнера, постоянно используется метод лейтмотивов; и пришли они к этому методу, конечно, независимо от Вагнера. Снегурочка у Римского-Корсакова имеет свой вполне определенный оркестровый лейтмотив, также Берендей, также Купава, Мизгирь и т. д. Разница между Римским-Корсаковым и Вагнером — только мировоззренческая, но никак не структурно-музыкальная. Поэтому ясно, что противники Вагнера в отношении критики его лейтмотивов совсем не правы.
Наконец, из предыдущих трактатов Вагнера для анализа эстетики "Кольца Нибелунга", несомненно, нужно привлечь и его теорию музыкальной драмы. Если чем композиторская практика "Кольца" и отличается от предыдущей вагнеровской теории музыкальной драмы, то только еще более интенсивным проведением его принципов музыкальной драмы, еще более насыщенным и ее содержанием, и ее структурой.
Таким образом, уже предыдущие трактаты Вагнера весьма выразительно рисуют эстетику • "Кольца Нибелунга" как общечеловеческую музыкально-мифологическую драму с последовательным и строго методическим использованием определенной системы лейтмотивов, задуманной как глубочайшее слияние поэтической и музыкальной образности с ее философской идеей.
Однако этого еще мало для понимания эстетики "Кольца Нибелун-га"; и сейчас мы увидим, что у Вагнера были некоторые основания отказываться от своих прежних музыкально-драматических теорий. Последние оказались теперь для него слишком абстрактными и, значит, малоговорящими. Новые взгляды появились у Вагнера, во-первых, в результате изучения древнегерманского эпоса, трактуемого им теперь не оптимистически, но пессимистически, и, во-вторых, в связи с эстетикой Шопенгауэра, с которой Вагнер столкнулся в 1854 году и не расставался целую жизнь или по крайней мере до 1870 года, когда в своей книге о Бетховене он все еще весьма интенсивно использует именно эстетику Шопенгауэра.
С Шопенгауэром Вагнер познакомился летом 1854 года. К этому времени, как мы знаем, текст всего "Кольца" уже был готов и начато музыкальное оформление этого текста. Уже по одному этому нужно говорить не столько о влиянии Шопенгауэра на Вагнера, сколько о самостоятельном шопенгауэрианстве Вагнера еще до всякого знакомства с самим Шопенгауэром. Правда, основное произведение Шопенгауэра "Мир как воля и представление" Вагнер читал и перечитывал много раз и был от него в невероятном восторге. Это необходимо сказать потому, что Вагнер, вообще говоря, не был особенно усердным читателем и почитателем философов. Например, заимствования, сделанные им в период революции из Фейербаха, обычно немилосердно преувеличиваются исследователями Вагнера. Доказано, что из Фейербаха Вагнер читал только "Мысли о смерти и бессмертии", да и то поверхностно. И если что имело значение из философских теорий для Вагнера в период революции, то, скорее, не сам Фейербах, но общее неогегельянское направление (Руге, Штраус, Прудон, Ламене, Вейтлинг). Но никаких неогегельянцев Вагнер и вовсе не читал; равно и мутно-анархическая проповедь Бакунина, на большом влиянии которой на Вагнера тоже настаивают исследователи, по нашему мнению, прошла для Вагнера почти бесследно.
Совсем другое — это отношение Вагнера к Шопенгауэру. И глубина этого отношения обнаруживается в том, что Вагнер вовсе не совпадает с этим философом во всех подробностях, но склонен и к критике его. Да и без этой вагнеровской критики не так трудно заметить много разных отличий вагнеровской эстетики от эстетики Шопенгауэра. В эти годы прямых печатных высказываний Вагнера о Шопенгауэре мы не имеем. Но о его восторженном отношении к этому философу явствуют письма того времени к Листу и Рекелю.
Итак, после ознакомления с философией Шопенгауэра Вагнеру нечего было менять в своем "Кольце Нибелунга", которое кончалось изображением гибели всех обладателей золота Рейна в виде кольца Альбериха и гибелью также и всех богов вместе с их Вальгаллой, поскольку боги тоже перешли к незаконному и несправедливому управлению миром при помощи золота. Тем не менее в тексте "Кольца Нибелунга", где Брингильда перед самосожжением возвращает роковое кольцо дочерям Рейна, Вагнер все-таки нашел нужным изменить оптимистический вариант слов Брингильды на пессимистический. До чтения Шопенгауэра Вагнер вложил в уста Брингильды такие слова: "Племя Богов ушло, как дыхание; мир, который оставлю я, отныне без властителя; сокровище знания моего я отдаю миру. Ни богатство, ни золото, ни величие богов, ни дом, ни двор, ни блеск верховного сана, ни лживые узы жалких договоров, ни строгий закон лицемерной морали—ничто не сделает нас счастливыми; и в скорби, и в радости сделает это только одна любовь" *. Что это за любовь — Брингильда не говорит, да и весь текст "Кольца" тоже ничего не говорит на эту тему в положительном смысле. Ясна только отрицательная сторона: новая жизнь будет строиться уже без погони за золотом.
Но вот в 1854 году Вагнер начинает увлекаться Шопенгауэром. И оптимистические слова Брингильды с упованием на любовь в будущем Вагнер зачеркивает, заменяя их следующей тирадой: "Я не поведу уже более героев во дворец Вальгаллы, и знаете ли вы, куда я иду? Я покидаю этот мир желаний; я навсегда ухожу из этого мира иллюзий; я закрываю за собою двери вечности. В тот блаженный мир, где прекращаются желание и иллюзия, к той цели, куда направляется всеобщее развитие, туда устремляется сегодня Видящая, освобожденная от необходимости снова рождаться. Знаете ли вы, как я могла добыть благословенный конец всему тому, что вечно? Глубокие страдания любви открыли глаза мне в скорби: я увидела конец мира". Эти слова Брингильды есть не что иное, как переложение мыслей Шопенгауэра, по которому в основе мира лежит бессознательная и злая воля; и, чтобы избавиться от нее, нужно от нее отречься и погрузиться в ничто.
Но здесь интересна и еще одна биографически-творческая подробность. Именно: когда Вагнер при создании своей партитуры дошел до финала "Гибели богов", то он исключил и эти слова Брингильды. И нетрудно сказать, почему. Произошло это у Вагнера, несомненно, потому, что он все время находился во власти созданного им музыкального мифа, но не во власти каких бы то ни было теорий, хотя бы и шопенгауэровских. Для чистой и оголенной теории Вагнер просто не мог найти соответствующих музыкальных приемов. А общий миф о Нибелунгах, как он был развит во всей тетралогии, был ясен и сам по себе, без этого философско-теоретического заключения Брингильды.
По поводу совпадения взглядов Вагнера и Шопенгауэра, не механического, но, как мы сказали, творческого, пожалуй, небезынтересно будет привести и мнение самого Шопенгауэра об опере. Оно во многом совпадает с мнением Вагнера. Шопенгауэр писал: "Большая опера, в сущности, не есть продукт истинного понимания искусства; она, скорее, вызвана чисто варварской склонностью усиливать эстетическое наслаждение разнообразными средствами, одновременностью совершенно разнородных впечатлений и усилением эффекта благодаря увеличению числа действующих лиц и сил,— тогда как, напротив, музыка, как самое могущественное из всех искусств, одна может наполнять открытую для нее душу. Для того чтобы воспринимать ее совершеннейшие произведения и наслаждаться ими, необходимо нераздельное и сосредоточенной настроение,— тогда только можно вполне отдаться ей, погрузиться в нее, вполне понять ее столь искренний и сердечный язык. Сложная оперная музыка этого не допускает. Тут внимание раздвояется, так как она действует на зрение, ослепляя блеском декораций, фантастическими картинами и яркими световыми и цветовыми впечатлениями, кроме того, внимание развлекается еще и фабулой пьесы. Строго говоря, оперу можно было бы назвать немузыкальным изобретением, сделанным в угоду немузыкальным людям, для которых музыка должна быть введена контрабандой".
Чтобы разобраться в эстетике Вагнера, в том, как она осуществилась в "Кольце Нибелунга", необходимо понимать, что такое эстетика самого Шопенгауэра, в каких отношениях эстетика Вагнера с ней совпадает и в каких расходится. Если говорить кратко, минуя всякие подробности и тем самым рискуя впасть в некоторого рода банальность, необходимо сказать следующее.
Шопенгауэр исходит из неумолимого и неисправимого хаоса жизни и потому считает, что всем бытием руководит мировая бессознательная воля, ничем не преодолимая и к тому же злая. Однако существует и объективация этой воли. Первой такой объективацией является мир идей, представляющих собою уже понятные разуму принципы и законы всего существующего. У Шопенгауэра это вполне платонический мир идей, на который знатоки и любители Шопенгауэра, к сожалению, обращают гораздо меньше внимания, поскольку у самого Шопенгауэра бессознательная воля, лежащая в основе мира, безусловно, изображена более ярко, чем этот мир идей, который является царством чистого интеллекта. Другая объективация мировой воли — это мир материи и все составляющие его материальные вещи. Он тоже полон хаоса и бессмыслицы, бесконечных страданий и катастроф; и в нем самое большее, чего можно достигнуть, — это лишь скука. Самоубийство не есть выход из этого мира бессознательной и злой воли, а, наоборот, только еще большее самоутверждение этой воли. Подлинный же выход за пределы мировой воли—это полное от нее отречение, полное отсутствие всякого действия и погружение только в один интеллект, созерцающий эту волю, но не участвующий в ней, то есть то, что Шопенгауэр называет представлением. Отсюда и название его главного произведения "Мир как воля и представление". Сама мировая воля ввиду своей бессмыслицы и безобразия не есть что-либо прекрасное и потому не может быть предметом искусства. Но погруженный в себя интеллект, будь то мировой интеллект или человеческий, созерцает эту мировую волю с полной независимостью от нее. И тогда она является музыкой, которая с точки зрения созерцающего интеллекта тем самым представляется основой мира, природы, общества и отдельного человека. Таким образом, музыка, как и вся мировая воля, есть чистая иррациональность. Но когда эту мировую волю созерцает интеллект, отрешенный от самой мировой воли, он испытывает эстетическое наслаждение. В эстетическом наслаждении, получаемом от музыки, человек, таким образом, обретает единственное жизненное утешение и спасение.
Имея в виду подобное содержание эстетики Шопенгауэра, не трудно дать уже в более точной форме и эстетику Вагнера в "Кольце Нибелунга".
Общим с эстетикой Шопенгауэра, несомненно, является здесь ощущение мировой основы как чего-то неблагополучного и даже бессмысленного. Общим является здесь также и необходимость отречения от этого вечного и бессмысленного волевого процесса и потому отказ и полное отречение от этой мировой воли и жизни. Общим является, наконец, и стремление найти последний выход путем погружения в чистый интеллект и в получаемом таким образом отрешенном эстетическом наслаждении в музыке. Однако многие знатоки и любители музыки Вагнера, и прежде всего сам же Вагнер, не могли свести эстетику "Кольца", а в дальнейшем также и "Тристана" только к эстетике Шопенгауэра.
Уже из упомянутых у нас разных фактов биографии Вагнера видно, что Вагнер был весьма деятельной и страстной натурой, что его музыкальные восторги и сложнейшее музыкальное творчество, всегда требовавшее от него составления огромных и сложных партитур, никогда не мешало его деятельной жизни, не мешало ему постоянно переезжать с места на место и не препятствовало хлопотам о постановке своих музыкальных драм, не мешало искать всякого рода субсидий и тут же пользоваться ими для дела. Эстетика Шопенгауэра, очень близкая ему, сердцем оценивалась им все-таки как философия пассивизма и безвыходного сидения на месте. Тем не менее Вагнер еще продолжает усиленно выдвигать понятие любви, которое сначала он был не в состоянии раскрыть, но которое все же является венцом его эстетической теории и в "Кольце" и в "Тристане".
Затем, эстетика Вагнера в "Кольце", несомненно, более конкретна, чем у Шопенгауэра, уже по одному тому, что все человеческое, да и мировое зло происходит оттого, что люди и боги строят свое благополучие на беззаконном использовании нетронутой мощи и красоты мироздания, символом чего является золото Рейна, и золотом этим овладевает один из Нибелунгов, Альберих, который отрекается от любви и проклинает ее. Эта идея уж совсем чужда эстетике Шопенгауэра. И даже когда, осознав всю пагубу золота, гибнут герои и боги, пытавшиеся основать свое блаженство на незаконном овладении этим золотом, и притом погибают в мировой катастрофе, по Вагнеру, остается еще какое-то человечество, о котором сам Вагнер пока еще ничего не может сказать положительного, но которое — и это совершенно ясно — будет строить свою жизнь уже не на погоне за золотом. Ничего подобного нельзя найти у Шопенгауэра. Таким образом, эстетика "Кольца" строится в конце концов не на отрешенном музыкальном наслаждении, но на предощущении той будущности человека, которая, по мысли Вагнера, уже лишена всякого индивидуалистического эгоизма.
Наконец, в свете предложенных у нас выше рассуждений, вопрос об иррациональности в эстетике "Кольца", на которой заостряют внимание почти все знатоки и любители Вагнера, становится весьма сложным, и тут у Вагнера тоже коренное расхождение с Шопенгауэром.
Правда, и у самого Шопенгауэра его почитатели и непочитатели обычно хватаются прежде всего за его учение о мировой бессознательной и злой воле, которая действительно трактована у Шопенгауэра вполне иррационалистически. Однако тут обычно забывают, что у того же Шопенгауэра имеется еще и учение о представлении, которое сам Шопенгауэр понимал в первую очередь как вполне осмысленную объективацию мировой воли в виде мира идей, в виде мирового интеллекта, весьма близкого к платоническому учению о царстве идей и о мировом Разуме. Поэтому историческая справедливость заставляет сказать, что даже и у Шопенгауэра нельзя находить абсолютного иррационализма. Еще менее этого иррационализма в "Нибелунгах" Вагнера.
В самом деле, судьба в "Кольце" есть и даже выступает в виде глубокого символа Эрды. Влечение богов и героев к золоту у Вагнера тоже иррационально, безотчетно и слепо. Захват золотого кольца одним существом у другого тоже происходит вполне стихийно анархо-индивидуалистически. Но все дело в том, что "Кольцо" пронизано определенной идеей, а лучше сказать—целой системой идей. Золото Рейна также далеко от абсолютной иррациональности. Это символ мировой мощи и мировой сущности, наивной, нетронутой и мудрой. Иррациональности в этом символе не больше, чем в любых мировых символах у любых поэтов и музыкантов, желавших изобразить глубочайший центр всего мироздания. Герои и боги, захватывающие это кольцо, действуют у Вагнера тоже вполне сознательно. Они знают, чего хотят, хотя и ощущают полную незаконность этого желания. Брингильда, перед смертью возвращающая золотое кольцо в недра Рейна, тоже поступает вполне сознательно и даже, можно сказать, вполне логично.
И наконец, Вотан, гораздо более центральная в "Кольце" фигура, чем Зигмунд, Зигфрид, Брингильда и прочие герои, изображен весьма глубоким и серьезным философом, прекрасно понимающим как всю гибельность индивидуалистического овладения золотом, так и необходимость собственной гибели, поскольку сам он тоже причастен ко всеобщей погоне за золотом. В этом смысле Вотан действительно является фигурой максимально трагической. Но почему же можно утверждать, что эта фигура у Вагнера только иррациональна? Рационального самосознания у Вотана не меньше, чем когда-то бывшего у него иррационального влечения к золоту. Да и сам Вагнер писал в одном из своих писем: "Вотан до мельчайших деталей похож на нас. Он — свод всей интеллигентности нашего времени".
В своей записи 1 декабря 1858 года Вагнер, между прочим, говорит о том, что гениальность нельзя понимать как разрыв между волей и интеллектом, но что ее следует понимать "скорее как подъем интеллекта индивидуума до уровня органа познания совокупности явлений, в том числе подъем воли как вещи в себе, из чего только и можно понять удивительный энтузиазм радости и восторга в высший момент гениального познания". "Я пришел к твердому убеждению,—пишет далее Вагнер в этой же записи,—что в любви можно подняться над стремлением своей личной воли, и когда это полностью удается, то воля, присущая людям вообще, достигает полного осознания, что на этом уровне неизбежно равносильно совершенному успокоению". Таким образом, о чистой иррациональности в эстетике Вагнера, так же как и о его безоговорочном подчинении Шопенгауэру, говорить не приходится. О том, что Вагнер хочет "исправить погрешности" Шопенгауэра, он сам пишет в своем дневнике 8 декабря 1858 года.
Да и вообще, весь сюжет "Кольца" нужно назвать историческим, или, вернее, космически-историческим, но уж никак не одним только иррационалистическим. Вот этого-то историзма найти у Шопенгауэра и нельзя. У Шопенгауэра мир совершенно стабилен; он действительно бурлит у него вечными стремлениями и влечениями, из которых один выход—в царство идей, или интеллекта. Но этот интеллект еще более стабилен и антиисторичен. Вообще в эстетике Шопенгауэра господствует примат природы, а не истории; а природа эта при всей своей вечной подвижности всегда является в своей последней сущности чем-то неподвижным. Поэтому в эстетике Шопенгауэра есть нечто спинознстское, но уж никак не гегелевское и никак не шеллингианское, поскольку и Гегель, и Шеллинг преисполнены чувства историзма в том или ином смысле слова. И вот этого-то историзма у Шопенгауэра нет, а в вагнеровском "Кольце" он есть.
Кроме того, если вдуматься в ту критику оперного искусства, которую мы привели выше из Шопенгауэра, то она, в сущности говоря, тоже противоречит эстетике Вагнера. Правда, с взглядами Вагнера здесь вполне совпадает шопенгауэровская критика художественной пестроты тогдашней оперы, ее составленности из отдельных изолированных номеров, ее поверхностного, забавного и увеселительного характера. Но что предлагает Шопенгауэр вместо тогдашней оперы? Он предлагает чистую музыку, лишенную всякой поэтической образности и всякой, как часто говорили и говорят, программности. Совсем другое предлагает Вагнер. Энергично отвергая вместе с Шопенгауэром слишком дробное и рационально забавное оперное искусство того времени, Вагнер твердо стоит на почве полного слияния всех искусств, и прежде всего—музыки с поэзией. И его "Кольцо" не есть ни симфония, ни соната, ни какой-нибудь торжественный, хотя бы и трагический, концерт для скрипки или фортепиано, но теоретически вполне продуманная и сознательная, а фактически без всякого уклонения в сторону осуществленная музыкальная драма. Это тоже выходит за пределы эстетики Шопенгауэра.
На основании всего этого необходимо сказать, что, несмотря ни на какой пессимизм и самоотречение, ни на какое отречение самонаслаждения и, наконец, несмотря ни на какую судьбу, велением которой творятся и погибают все эти индивидуалистически блаженствующие боги и герои,— несмотря на все это, та мировая катастрофа, о которой вещает Вагнер в "Кольце", все же открывает путь к новому развитию человечества и к новым его достижениям уже без роковой погони за золотом.
И поэтому совершенно неожиданно оказывается, что Вагнер, внешне отошедший от революции, отошел, собственно говоря, только от ее узких общественно-политических целей. Он возвел революцию в мировой принцип, в роковую причину гибели всякого мира, который пытается основать себя на беспредельном индивидуализме, на игнорировании общечеловеческого блага, на незаконном, несправедливом, жалком, хотя и художественно красивом, овладении основами мироздания отдельным и бессильным человеком и даже теми же богами, которые тоже пытаются овладеть основой мира только ради своих индивидуалистических вожделений.
Почему мы называем "Кольцо Нибелунга" пророчеством революции? Ведь всякий пророк, вещающий об отдаленных судьбах жизни, вовсе не обязан представлять новый послереволюционный мир со всей научностью, системой и полнотой. Этот мир по необходимости рисуется ему в каких-то сказочных тонах, да и сам революционный переворот тоже покамест представляется ему в наивной и мифологической форме. Поэтому, имея в виду мифологическую структуру трагедии мировой жизни у Вагнера, мы с полным правом должны назвать эту грозную весть "Кольца Нибелунга" не чем иным, как пророчеством невиданного, но по сути дела утопического переворота. Кроме того, при всех своих мифологических обобщениях Вагнер едва ли уж так целиком забывал биографически исходное для него общественно-политическое понимание революции. Во всяком случае не какому-нибудь комментатору Вагнера, а ему самому принадлежат такие слова: "Если мы вообразим в руках Нибелунга вместо рокового кольца биржевой портфель, то получим страшный образ призрачного владыки мира".
Итак, эстетика Вагнера в "Кольце" есть подлинно революционная эстетика, которой не найти у Шопенгауэра. И эту революционность Вагнера уже нельзя ставить в кавычки. В кавычках для Вагнера было то узкое и местное, а по сути своей мелкобуржуазное революционное восстание, в котором он так неудачно участвовал в Дрездене в 1849 году. Пессимистическая эстетика Вагнера, конечно, этим вовсе не отменяется, поскольку в этой гибели мира по причине его незаконного владения золотом совершенно достаточно безотрадных черт, чтобы считать эстетику "Кольца" пессимистической. Весь этот красивый героизм, эти восторги героической любви, вся прекрасная мощь мировой истории только и могут быть поняты в свете подобного глубинного пессимизма. Но выход из этого пессимизма есть. И этим эстетическим выходом окрашена вся героика "Кольца", подобно тому как она на каждом шагу окрашена и ее безвыходностью.
Лосев. Глава 7
Как сказано выше, свою работу над "Кольцом Нибелунга" Вагнер прервал в 1857 году, для того чтобы заняться "Тристаном и Изольдой", музыкальной драмой, которую он написал тоже в свои цюрихские годы (1857—1859). Часто говорят о внезапности этого перехода Вагнера к другой теме или вообще никак не мотивируют этот переход. Мотивы эти были, однако, весьма важны.
Если коснуться внешней стороны дела, то Вагнер чем дальше, тем больше убеждался в невозможности быстро поставить на сцене такое колоссальное произведение, как "Кольцо", которое потребовало бы четырех вечеров и редчайших по своему богатырскому складу исполнителей. Да и то нужно удивляться, что нетерпеливый Вагнер уже три года работал над "Кольцом" и ничего другого не предпринимал. В 1857 году он наконец решил написать что-нибудь более легкое и более доступное — и написал "Тристана и Изольду", наивно думая, что для европейской публики воспринять такую драму будет легче. Но эта драма только по своим размерам оказалась более доступной, так как требовала для своего исполнения только один вечер. Что же касается содержания, то эта новая музыкальная драма оказалась, пожалуй, еще более трудной и еще менее доступной для публики.
Сама тема сказания о Тристане и Изольде для Вагнера не была нова. Она пришла ему в голову еще в 1854 году, не только в период его увлечения Шопенгауэром, но и в разгар работы над "Нибелунга-ми". Ему не хотелось бросать своих "Нибелунгов", музыкальную партитуру которых он только что начал. Поэтому тему о Тристане и Изольде он тогда и отложил. Но к 1857 году возникли другие, внешние причины для перехода к новой музыкальной драме. Нужно сказать, что обстоятельства его жизни в Швейцарии складывались весьма неблагоприятно. Вагнер нуждался и должен был менять свое жилище, которое было слишком шумным, чтобы он мог спокойно отдаваться своему творчеству. Он чувствовал себя одиноким и несчастным, определенно скучал по Германии, а приехавший к нему его близкий друг Лист только больше пробуждал в нем стремление к нормальной для артиста музыкальной деятельности. Но, пожалуй, самой главной причиной перехода к "Тристану" были два обстоятельства, из которых одно было важнее другого.
Во-первых, Вагнер чем дальше, тем больше углублялся в философию Шопенгауэра. Ему хотелось во что бы то ни стало изобразить безнадежность всех людских стремлений и обрисовать внутреннее тождество любви и смерти. Эта тема была глубоко представлена уже и в "Кольце". Но, как мы сказали выше, "Кольцо" было по преимуществу космически-исторической драмой, а не только драмой внутренних переживаний отдельного индивидуума. Вероятно, в 1857 году Вагнер бессознательно и сам чувствовал себя еще не дозревшим до такого колоссального космического историзма, который он хотел изобразить в "Кольце". Недаром "Кольцо", как мы уже знаем, было закончено Вагнером только в начале 70-х годов. Предварительно нужно было еще вникнуть в психологию именно этого отдельного индивидуума, пока еще вне всякого историзма. Этого индивидуума нужно было творчески пережить во всей его покинутости, страданиях и во всей присущей ему необходимости, даже свои глубочайшие и наивысшие переживания любви отождествить с роковой необходимостью смерти. Как художник, переживший эту трагедию индивидуальной гибели, Вагнер смог в дальнейшем расширить эту тематику до космически-исторических размеров. Тут-то и пригодилось сказание о Тристане и Изольде.
Таким образом, если общественно-политическая обстановка является решающей для всякого художественного творчества, то эмигрантская жизнь Вагнера в Цюрихе, в одиночестве, вдали от друзей, вдали от нормальной артистической деятельности, в те моменты европейской истории, когда после крушения революции 1848 года распространялись волны политической реакции, вызывавшей пессимизм, а порой и отчаяние, естественно, вызывала такой же пессимизм и отчаяние и у самого Вагнера. Для всякого историка музыки и эстетики разработка Вагнером такой тематики, как в "Кольце Нибелунга" или в "Тристане и Изольде", оказывается и вполне естественной и вполне понятной. Но из нашего предыдущего изложения читатель мог понять, что Вагнер не был ни общественным деятелем, ни политиком по своим наклонностям, и поэтому пессимизм такого художника, конечно, надо характеризовать не только как результат тогдашней общественно-политической обстановки, но учитывать и его подлинные внутренние потребности и чисто личные философско-музыкальные искания.
Во-вторых, Вагнер, как многие считают, вполне "случайно" столкнулся с буддийскими учениями о ничтожестве человеческой личности, да и вообще всей человеческой жизни, и с необходимостью погружения в полное небытие, в нирвану. Конечно, европейский человек середины XIX века уже не мог понимать нирвану просто как небытие или смерть. Личность Вагнера была слишком сложна, чтобы он мог остановиться на этом. Эту нирвану и эту смерть Вагнер понимал как предел наивысшего напряжения жизни личности. А так как в жизни личности для Вагнера главную роль играла любовь, то нирвана и оказалась для него не чем иным, как слиянием любви и смерти. И сюжет сказания о Тристане и Изольде опять-таки подходил для этого больше всего.
Несомненное влияние на идеи, выраженные в "Тристане", оказало недолгое занятие Вагнера историей буддизма. В 1856 году Вагнер прочитал книгу "Введение в историю индийского буддизма", откуда он почерпнул для наброска своей так и не написанной драмы "Победители" интересовавший его сюжет об испытании любви и самоотречения. Этот сюжет волновал Вагнера и в дальнейшем, особенно когда ему пришлось расстаться со своей возлюбленной Матильдой Везендонк и в горестном уединении вести венецианский дневник. Именно там, 5 октября 1858 года, Вагнер опять вспоминает свои занятия буддизмом, но теперь уже в связи с "Историей буддийской религии" Кеппена. Правда, Вагнер называет этот ученый труд "неприятной книгой", полной чисто внешних подробностей об установлении и распространении буддийского культа. Насколько чужд Вагнеру был, по сути дела, именно сам буддийский культ, указывает и тот факт, что присланную ему китайскую фигурку Будды он причислил к "безвкусным", а отвращение его к подарку было столь велико, что он не мог скрыть свои чувства от приславшей этот подарок дамы; об этом Вагнер подробно пишет в той же записи.
Для Вагнера все эти буддийские реликвии есть не что иное, как "гримасы" или "карикатуры" "больного, уродливого мира". И надо приложить огромные усилия, чтобы противостоять этим внешним впечатлениям и "сохранить нетронутым чисто созерцательный идеал". Как видно, Вагнера привлекал как раз чистый, возвышенный идеал истории Будды, его ученика Ананды, возлюбленной последнего, может быть, потому, что сам композитор глубочайшим образом понял невозможность своего соединения с Матильдой в этом мире, полном зла и жизненных превратностей. Оставались мечты о единении в сфере внеличностной, внеэгоистической, возвышенно-духовной. Конечно, Вагнер сознавал, как трудно перевести на язык музыкальной драмы столь благочестивый и сакральный буддийский сюжет, да еще так, чтобы в нем были выражены обстоятельства его личной драмы.
Для самого Вагнера буддийский идеал единения с любимой оказывается абсолютно недостижимым в реальной жизни, так как он художник, который живет фактами жизни, превращая их с помощью искусства в поэтически одухотворенные образы. Вагнер — поэт, живущий настроением, воодушевлением, связан с природой и муками реального бытия. Однако, будучи художником, он не может жить и вне искусства, а значит, и достигнуть истинной свободы в нирване, которая доступна лишь тем, кто, по учению Будды, решительно отвергает все, даже и само искусство.
Поэтому Вагнер находится в плену противоречивых идей и чувств. Разлученный со своей возлюбленной, он пытается удержать хотя бы ее образ, что доступно его великому искусству. Но чем больше погружается он в создание своей художественной фантазии, тем решительнее рвутся его интимные связи с любимой, которая принадлежит миру, как принадлежит миру искусство поэта и композитора. Оказывается, что для любящих нет отречения от мира, а значит, нет ни спасения, ни единения в нирване.
Для безвыходности и драматизма жизненных отношений Вагнера и Матильды Везендонк был не пригоден буддийский путь к спасению, но тем сильнее и бесповоротнее назревал сюжет поэтической трагедии Тристана и Изольды с нерасторжимостью любви и смерти.
Необходимые фактические сведения из биографии Вагнера, которые нужно иметь в виду при анализе музыкальной драмы "Тристан и Изольда", мы в общей форме изложили выше. Сейчас нам предстоит обратить внимание на одно обстоятельство, которое у биографов Вагнера часто трактуется слишком формально и из которого очень часто не делается никаких — ни подлинно общественно-политических, ни существенно эстетических — выводов. Рассуждая формально, часто думают, что "Тристан и Изольда" есть просто результат рационального образа мыслей автора, продукт послереволюционной мрачной и пессимистической эпохи. Революция, говорят, не удалась, и потому наступило мрачное отчаяние и политическая реакция. А это и есть сущность вагнеровской драмы "Тристан и Изольда".
Такой подход к драме Вагнера необходимо считать чересчур формальным и неполно рисующим внутреннее состояние Вагнера в период написания "Тристана и Изольды", стиль самой этой драмы, ярко выраженное здесь эстетическое мировоззрение. То, что обычно говорится о неудаче мелкобуржуазных революций первой половины XIX века, о пессимизме, о невозможности для мыслящего индивидуума того времени найти точку опоры и, наконец, о политической реакции тогдашних времен,—это все совершенно правильно; об этом и в нашей работе говорится не раз. Однако было бы грубым вульгарным социологизмом сводить идейно-художественный смысл "Тристана и Изольды" Вагнера только к одним общественно-политическим событиям. Эти события еще надо перевести на язык литературно-музыкального творчества Вагнера, их надо суметь понять как страстный порыв творчества великого композитора и как живой, отнюдь не рассудочно-схематический, интимный аналог того, что совершалось и в самом Вагнере и в его пьесе.
Прежде всего, несмотря ни на какой пессимизм и даже вопреки ему, Вагнер, как, впрочем, и всегда, чувствовал внутри себя никогда не иссякавший источник жизни, никогда не угасавшую веру в жизнь, в ее прогресс и в ее достижения, какой-то бесконечный и неиссякаемый источник творчества, никогда не ослабевавшие искания и веру в любовь как в последнюю опору жизни. Поэтому при создании "Тристана и Изольды" Вагнера обуревали две страсти, которые с обычной и мелкобуржуазной точки зрения являются полными противоположностями, а для Вагнера были чем-то цельным и нераздельным.
Мы имеем в виду небывалое по своей патетичности совмещение чувства любви и чувства смерти в "Тристане и Изольде". Если не подходить к этой драме глубоко исторически и в то же время глубоко биографически, становится совершенно непонятным, что же тут общего между любовью и смертью, и из-за чего так убиваются Тристан и Изольда, и почему они не находят никакого другого выхода, кроме этого ужасающего синтеза. Но суть дела в том и заключается, что вся реальная действительность в результате общественно-политических катастроф переживалась Вагнером как нечто злое, негодное, дискредитировавшее себя раз и навсегда, от чего можно было уходить только в небытие, только отрекаться и только прятаться в какие-то никому не доступные и темные углы человеческого духа. С другой стороны, однако, Вагнер никак не мог уничтожить эту бившую ключом жизнь в глубине своего духа, это страстное желание вечно жить, вечно творить и вечно любить. Вот отсюда и вытекает вся идейно-художественная структура "Тристана и Изольды". Эту музыкальную драму только и можно понять социально-исторически. Но в эту социально-историческую картину входит также и творческая индивидуальность самого Вагнера. Не только философски и теоретически, но и вполне жизненно Вагнер понимал всю ложность европейского индивидуализма и крах субъект-объектного дуализма как результат европейского революционного движения последних десятилетий XVIII и первой половины XIX века.
В результате этого все материалы биографии Вагнера его цюрихского периода прямо-таки вопиют об его одиночестве, покинутости, о безвыходности его положения и полной невозможности создавать такие музыкальные произведения, которые могли хотя бы отдаленно поддерживать мечту Вагнера об их театральной постановке. И, повторяем, в то же самое время здесь неиссякаемая жажда жизни и неиссякаемая творческая страсть любить и быть любимым.
Вот почему личность Матильды Везендонк играла в эти годы в творчестве Вагнера такую небывалую роль. У Вагнера это был не просто бытовой роман. Таких романов можно сколько угодно найти в биографиях любых художников и нехудожников. Нет, это было не только жизненное, но даже и физически ощутимое торжество любви и смерти, которое, впрочем, и биографически принимало совершенно необычные формы. Охваченная таким небывалым чувством, Матильда сумела и своего супруга Отто Везендонка убедить в возвышенности своих отношений с Вагнером. Под влиянием Матильды и сам Отто сделался другом и покровителем Вагнера, строил для него виллы, снабжал его деньгами и вместе с Матильдой до конца своих дней остался страстным почитателем таланта Вагнера. И когда Вагнер женился на дочери Листа Козиме и, уже имея от нее детей, бывал в Швейцарии и встречался с Матильдой, это ощущение слияния любви и смерти никогда у них не иссякало и было совершенно не сравнимо ни с какими бытовыми отношениями.
В заключение этой характеристики "Тристана и Изольды" мы хотели бы отметить на основании высказываний самого Вагнера еще одно обстоятельство, которое часто тоже не выдвигается и которое как раз весьма отчетливо противопоставляет настроения Вагнера периода "Тристана и Изольды" как Шопенгауэру, так и буддизму, о связи с которыми говорят нам биографические источники.
Дело в том, что в музыкальном отношении и Тристан и Изольда изображены у Вагнера как весьма сильные, мощные личности. Это особенно нужно учесть тем, кто слишком сближает эту пьесу с древним буддизмом. Древний буддизм, не веря ни в человека, ни вообще в объективную действительность, был пронизан чувством полного ничтожества всего происходящего. Древний буддизм полностью отрицал эту ничтожную действительность, все слабые и безнадежные порывы человеческого существа, стремясь погрузить всю такого рода слабую и ничтожную действительность в одну бездну небытия. Вопреки этому при слушании музыкальной драмы Вагнера приходится прямо-таки удивляться внутренней силе этих двух героев, стремящихся к нирване, Какая же это нирвана при таком титанизме духа? Тут сказалась не нирвана, а глубочайшее и тончайшее развитие человеческой личности в новое время. Тристан и Изольда уходят в небытие не от своего бессилия, не от своего ничтожества и не от простой невозможности свести концы с концами на земле. Они уходят в это небытие, в эту вселенскую ночь с глубоким сознанием своего тождества с этой вселенской ночью и потому с глубоким сознанием своего величия. Правда, они хотят избегнуть этого противоположения субъекта объекту, на котором была основана вся европейская культура. Но это не было поражением мелкого субъекта перед великим объектом. Наоборот, это было великой победой бесконечной мощи духа над мелкой и ничтожной человеческой жизнью и богатырским слиянием с тем, что уже выше всякого субъект-объектного дуализма. Изучение дневников и писем Вагнера цюрихского периода убеждает нас, что именно в этом состояло его подлинное эстетическое мировоззрение.
Еще нам хотелось бы обратить внимание на один глубокий символ в "Тристане и Изольде" или, вернее сказать, на символический миф, тоже центральный для всей символико-мифологической концепции этой драмы. Именно: необходимо отчетливо воспринять идею любовного напитка, которая, как мы знаем, играет решающую роль в "Тристане и Изольде". Этот любовный напиток вовсе не какая-нибудь детская сказка или досужий вымысел субъективной фантастики. В нем выражено общечеловеческое, неизбывное, никакими силами не уничтожимое стремление вечно любить, вечно жить и вечно творить в любви и в жизни. Эта сила выражена здесь как вполне тотальная, даже не зависящая от разумных намерений человеческого индивидуума. Однако этот фатализм в то же самое время функционирует здесь вполне . реалистически. Ведь все законы природы тоже не зависят от отдельного человеческого индивидуума, и в этом смысле они тоже действуют вполне фаталистически. Закон падения тел, например, тоже ведь нельзя отменить, его тоже никак нельзя избегнуть. И тем не менее все механики и физики хватаются за этот закон как за последнюю истину. Вот такой же истиной является и вечное, ничем не уничтожимое стремление человека любить и действовать по законам любви. Мы бы сказали, что это—гораздо более реалистический закон человеческой жизни, чем то бесконечное море человеческих страстишек, в которых часто человек видит свою настоящую свободу. Тристан и Изольда абсолютно свободны, и их никто не принуждал любить. А так как смерть является законом для всего живого, то поэтому и нам не приходится удивляться, что любовь и смерть, взятые в своем последнем обобщении и пределе, тоже есть нечто целое и нераздельное, а к тому же еще и блаженнейшее и свободнейшее для обоих героев драмы Вагнера. Свобода, блаженство, наслаждение, смерть и фаталистическая предопределенность — вот что такое любовный напиток, так гениально изображенный у Вагнера.
В конце концов эстетика Вагнера периода расцвета его творческой деятельности или, вернее, его эстетическое мировоззрение, рассмотренное социально-исторически, есть не что иное, как исповедь души новоевропейского индивидуума, пришедшего к своей последней катастрофе в связи с катастрофой буржуазной революции. Этот индивидуум уже проделал ложный путь абсолютного противопоставления субъекта и объекта, но, преисполненный своими неосуществленными, но все еще чудовищными силами жизни, он достиг у Вагнера всеобщей сверхиндивидуальной слитости, пророчески вещающей об общечеловеческой, а не буржуазной революции.
Наша задача, выраженная темой этой работы, собственно говоря, может считаться законченной. Однако ввиду того, что мы останавливались только на самом главном, надо хотя бы кратко указать на существование еще и других вагнеровских материалов, относящихся к этой теме. Выше мы уже назвали четыре первых периода творчества Вагнера — первоначальный — (1833—1838), парижский (1839—1842), дрезденский (1842—1849) и цюрихский (1849—1859). Более полное изложение должно было бы захватить еще и годы скитания после Цюриха (1859—1865), трибшенский период (1866—1872) и мюнхенский, или байрейтский, период (1872—1883). Однако соответствующих литературных произведений Вагнера мы здесь касаться не можем в связи с планом 'настоящей вступительной статьи.
С. А. Маркус, материалы которого мы использовали выше, проделал огромную работу по формулировке не только бесконечных противоречий, неправильной самокритики у Вагнера, но и несправедливой оценки им творчества многих композиторов, которых мы теперь чтим так же, как и самого Вагнера, а кроме того, его постоянно колеблющегося, то резко отрицательного, а то и резко положительного отношения к религии, монархии и взглядов на соотношение искусства с прочими областями культуры. И тем не менее С. А. Маркус в конце концов все же не мог не сделать вывода об отвращении Вагнера к капитализму и не мог не отметить тех революционных выводов, которые сам Вагнер делал исходя из своей даже наиболее религиозной и наиболее христианской драмы "Парсифаль".
С. А. Маркус пишет: "Можно ли сказать, что как человек и как художник Вагнер под конец жизни примирился с капиталистической действительностью? Нет, этого сказать нельзя. Немецкий музыковед Вернер Вольф справедливо указал, что не только антикапиталистическая идея "Кольца Нибелунга", но и идеи "Парсифаля" были Вагнером "решительно противопоставлены основным тенденциям господствующих агрессивных кругов в Германии"... Общеизвестное высказывание Вагнера, в котором он пытался как-то объяснить свой поворот к христианской мистике "Парсифаля", содержит уничтожающий приговор капиталистическому обществу как миру "организованного убийства и грабежа, узаконенных ложью, обманом и лицемерием...".
Таким образом, вольное или невольное пророчество будущей, но уже никак не буржуазной революции при всех уклонах и шатаниях вагнеровской мысли и художественной деятельности все же остается у композитора основной и неопровержимой идеей всего его и музыкального, и поэтического, и литературно-критического творчества.
Лосев А.Ф. Философский комментарий к драмам Рихарда Вагнера
Данная работа представляет собой черновики статьи, опубликованной в сборнике "Вопросы эстетики", Вып. 8. М., 1968. В черновиках нет завершения - комментария к "Сумеркам богов", но ценность ее, по сравнению с окончательным вариантом, состоит в мыслях, которые никогда не смогли бы пробиться через советскую цензуру.
Лосев (I) Предрассудки о творчестве Вагнера. Философские влияния на композитора.
В преддверии рассмотрения философских воззрений Рихарда Вагнера следует отмести те многочисленные предрассудки, которые еще до сих пор мешают правильно оценить это небывалое творчество и всю божественную мощь его достижений. К числу таких крепко засевших предрассудков относится почти всеобщее убеждение в том, что Вагнер всегда подчинялся прежде всего своим теоретическим построениям, что он искажал свое подлинное, интуитивное творчество надуманными теориями и предвзятыми отвлеченными намерениями, что без этих теорий его произведения были бы совершеннее и понятнее, что его ум, вообще говоря, несравненно ниже непосредственной одаренности и интуитивного творческого дара. Без разрушения этого предрассудка невозможно понять всей непосредственной глубины религиозно-философских прозрений Рих. Вагнера.
Внимательное изучение жизни и творчества Вагнера приводит к совершенно противоположному взгляду. Вагнер никогда не теоретизировал для того, чтобы потом подогнать под эту теорию свое творчество. Наоборот, его теория всегда была правильным или неправильным осознанием уже наличного творчества или внутренней и тайной жизни, ведущей рано или поздно к этому творчеству. Можно было бы загромоздить статью многочисленными примерами из наиболее значительных этапов творческого пути Вагнера, подтверждающими значение теорий как осознания творчества. Но мы ограничимся небольшим числом.
Говорят об увлечении Вагнера революцией 1830 г. и идеями “Молодой Германии”. Лиштанберже говорит, что в статье “Немецкая опера”, появившейся 10 июня 1834 г. в газете “Fur die elegante Welt”, № 111, Вагнер проводит в музыке те же идеи, что и Лобе, тогдашний представитель “Молодой Германии”, в политике и морали.
Можно не спорить, что это так. “Ученость”, в которой Вагнер упрекает немцев, приведших к тому, что теперь нет ни одной немецкой оперы, всяческий педантизм и профессионализм — это все темы, несомненно навеянные тогдашним духом времени. Но стоит только внимательнее отнестись к тому, что создавал или хотел создать Вагнер до 1834 г. (период, на который, ввиду юности Вагнера, мало обращается серьезного внимания), чтобы убедиться в полной необычности и даже демонстративной революционности его творчества, далеко оставляющей за собой бранчливые упреки статьи 1834 г. К сожалению, до нас не дошли соната 1828 г. и квартет того же года, а фортепьянная обработка Девятой симфонии Бетховена 1830 г., сохраняющаяся в Ванфриде в рукописи, кажется, не представляет особого психологического интереса. Но зато более известна его увертюра с ударами литавр (B-dur) 1830 г., исполненная в этом же году в Лейпцигском придворном театре, которая, по признанию самого Вагнера, была верхом безрассудства. Достаточно указать только на то, что удар литавр в фортиссимо употребляется здесь через каждые четыре такта. Как бы критики ни упрекали другие ранние произведения Вагнера, как, например, неизданную C-dur'ную симфонию 1832 г., “Польшу” — увертюру, наброски которой относятся тоже к началу 30-х годов, или даже первую большую оперу “Феи” (1834 г.), общее впечатление от этих годов говорит о тайно бурлящем и быстро назревающем революционном творчестве, и, что бы ни думала его голова, творчество это уводило далеко вперед.
Интересно отношение Вагнера к другой революции — 1848 г. В статье “Как относятся республиканские стремления к королевской власти”, напечатанной в “Dresdener Anzeiger” 14 июня 1848 г., он не больше и не меньше как мечтает о присоединении короля к революционному движению и республиканскому строю для освобождения рода человеческого от власти золота, а в другой год, в статье “Революция” в “Volksblatter” от 8 апреля 1849 г., наивно раскрывает тайну своего романтического и ультраидеалистического отношения к революции: “Я хочу до основания уничтожить строй вещей, порожденный грехом” “Я — революция, я — вечно созидающая жизнь, я — единственный Бог, которого признает все существующее и который объемлет, оживляет и осчастливливает все сущее!”
Говорят о Фейербахе и о его влиянии на Вагнера. Мало того, что в самом Фейербахе еще не вполне перебродили черты немецкого идеализма и романтизма (обстоятельство, вообще мало учитываемое при обычных суждениях о влиянии Фейербаха на позднейший материализм и позитивизм), проникновение в душевную атмосферу Вагнера 1848—1854 гг. решительно говорит против огульного подчинения его антиметафизической природе фейербахианства. Правда, можно кое-что сказать о его работе с саксонскими социалистами, о его изгнании, о его ненависти к капитализму, даже об истолковании им своих драм 40— 50-х гг., включая “Кольцо”, в революционном духе, когда Зигфрид представлялся ему чуть ли не идеальным социалистом, а Бринхильда — образцом эмансипированной женщины, но все это, конечно, пустяки. Перед величием и мировой Революцией его драм меркнут жалкие человеческие делишки, построенные на злобе и зависти. И не в Фейербахе здесь дело, из которого до половины 1850 г. он был знаком только с “Мыслями о смерти и бессмертии”, а книгу которого “О сущности религии” захлопнул тотчас же, как его приятель Гервег в первый раз раскрыл ее перед ним. С трудом прочел он и “Сущность христианства”. “Беспомощная расплывчатость в развитии основной мысли, взгляды на религию с субъективно-психологической точки зрения — все это ощущалось при чтении,— пишет Вагнер в своих мемуарах,— как известный недостаток”. Правда. Фейербах был для него несколько интереснее, чем Шеллинг, из которого он успел усвоить лишь несколько страниц сочинения “О трансцендентальном идеализме”, “напрасно ломая голову” и “неизменно возвращаясь к Девятой симфонии”, или чем Гегель, в котором ему “очень хотелось понять суть “Абсолюта” и всего, что с ним связано”, но от которого его отвлекла революция. Однако исключительно “эстетические” впечатления от Фейербаха, заставившие его назвать “прекрасной и утешительной” ту “идею, что истинно бессмертным является лишь возвышенное деяние и одухотворенное произведение искусства”, а также и конечный суровый отзыв об общем значении для него Фейербаха заставляют рассматривать влияние последнего как нечто поверхностное и в глубочайшей мере несущественное. “Меня,— пишет он в мемуарах,— в пользу Фейербаха настроили главным образом следующие его выводы, благодаря которым он и отпал от Гегеля. Во-первых, лучшая философия — это не иметь никакой философии (этим он значительно мне облегчил задачу, ранее меня пугавшую), и, во-вторых, действительно лишь то, что дано в ощущении. В эстетическом восприятии чувственного мира Фейербах видел лишь рефлекс духа. Вот мысли, которые вместе с признанием ничтожества философии оказали огромную поддержку моей собственной концепции искусства, всеобъемлющего и доступного самому простому ощущению человека, концепции совершенной драмы, “искусства будущего”, дающего плоть нашим художественно-артистическим стремлениям”. Ясно, что философия, приведшая к отрицанию всякой философии, может говорить лишь о свободе вагнеровского творчества от всякой философии, а учение об ощущении как основе для концепции совершенной драмы в существе своем ничего общего не имеет с каким-нибудь видом сенсуализма. Это — творчество Вагнера, и только оно, до теорий и без них.
Говорят о влиянии Шопенгауэра на “Кольцо Нибелунга”. Но тут уже только простая невнимательность может быть причиной категорических суждений. Как бы близок Вагнер ни был к Шопенгауэру, ясные факты свидетельствуют сами за себя. А факты эти таковы, что текст “Кольца” весь целиком был закончен в 1853 г., тогда как первое знакомство с) Шопенгауэром произошло лишь в 1854 г., после окончания партитуры “Золото Рейна” и части “Валькирии”, да и то произошло это при содействии все того же Гервега, самостоятельно обратившего свое внимание на сходство идей “Кольца” с философией Шопенгауэра. Что же касается “Тристана и Изольды”, то надо согласиться, что Шопенгауэра в нем еще больше, чем в “Кольце”, и одновременно — что эта драма еще свободнее от каких бы то ни было влияний, еще непосредственнее и чище. Он сам говорит: “К этому произведению я могу разрешить отнестись с самыми строгими, вытекающими из моих теоретических предпосылок требованиями: не потому, чтобы я творил его по своей системе,— ведь я забыл здесь всякую теорию,— но потому, что здесь наконец с полной свободой и совершенным неуважением ко всяким теоретическим умствованиям мне удалось творить так, что я при выполнении задания был только самим собою и как бы оставил далеко за собою всякую надуманную систему. Не может быть большего наслаждения, чем полная непосредственность художника во время творческого процесса, и эту непосредственность я ощущал при создании Тристана”.
Мне кажется, можно на основании подобных наблюдений над творчеством Вагнера выставить такое общее положение о всех теоретических, и в том числе философских, взглядах Вагнера.
Философия Вагнера создавалась у него в процессе общего художественного творчества и есть не что иное, как дифференциация и осознание общего художническо-интуитивного опыта. Обычно указываемые “источники” философских воззрений Вагнера — “Молодая Германия” и Фейербах, Шопенгауэр и христианство — независимо от вопроса о фактической близости к ним подозрительны именно в качестве “источников”.
Лосев (II) Определение философии Вагнера. Отношение драмы и музыки в его творчестве.
II
Важно установить и еще одну предпосылку, без которой изложение философских воззрений Вагнера было бы недоразумением.
Именно, что понимать под философией Вагнера? Что это за “идеи” и что тут за “метод” философии? И на это возможен только один ответ. Философия Вагнера не есть какая-нибудь система понятий, но прежде всего и после всего существенный мистический символизм. Несколько слов о происхождении этого мистического символизма будут не лишни.
Детство и отрочество Вагнера полны мистическими переживаниями. “С самого раннего детства,— пишет Вагнер,— все необъяснимое, таинственное производило на меня чрезвычайное действие. Припоминаю, что даже неодушевленные предметы, как мебель, нередко пугали меня: если я долго оставался один в комнате и сосредоточивал на них свое внимание, то начинал вдруг кричать от страха, так как мне начинало казаться, что эти предметы оживают. До самой моей юности не проходило ни одной ночи, чтобы меня не посетили во сне привидения и чтобы я не просыпался с ужасным криком. Я не переставал кричать до тех пор, пока чей-нибудь человеческий голос меня не успокаивал. Самая жестокая брань и даже побои являлись для меня тогда лишь благодеянием, освобождая от невыразимого ужаса. Никто из моих сестер и братьев не хотел спать вблизи меня, и меня укладывали как можно дальше от других, не соображая, что крики о помощи становились от этого только громче и продолжительнее. В конце концов к ночным скандалам все-таки привыкли”. Было бы смешно наклеить на подобные переживания какой-нибудь латинский психиатрический термин и на этом успокоиться. В этих состояниях кроется вся мгла и бездна будущих ваг-неровских откровений.
Как известно, первые увлечения Вагнера имели своим предметом не музыку, но драму. К драме и вообще к театру Вагнер с детства питал какие-то особенные, мистические чувства. Для него театр со всей мельчайшей обстановкой его жизни был носителем каких-то небывалых и грандиозных откровений. “Меня привлекало волнующее общение с элементом, ничего общего не имеющим с обыденной жизнью, соприкосновение с до ужаса интересным миром живой фантазии. Какая-нибудь декорация, или даже часть декорации, кулиса, изображающая куст, какой-нибудь костюм, или даже одна характерная деталь такого костюма производили на меня нередко впечатление чего-то, принадлежащего к иному миру, и казались мне, таким образом, привидениями”. Все, что относилось к представлениям, было для него “окутано таинственной дымкой”, “опьяняло дух”. Весь этот “демонский мир очарований” был совершенно не похож на то, что искали и находили в театре обыкновенные его посетители. В этом для нас, конечно, разгадка всего синтетического искусства, горячим проповедником которого Вагнер был в сущности целую жизнь. Костюмы и декорации, различные детали туалета сестер-актрис производили, по его собственным словам, “тонкое, возбуждающее действие” на его фантазию. “Иногда такое прикосновение (к отдельным нежным частям театрального гардероба моих сестер) в состоянии было вызвать у меня сильнейшее, жуткое сердцебиение”.
Отношение к поэтам и музыкантам тем более носило мистический смысл. Известны увлечения Вагнера Гофманом, Вебером, Бетховеном. Беря летом 1829 г. в Лейпциге секретные уроки музыки у одного лейпцигского оркестранта. Г. Мюллера, Вагнер скоро почувствовал их сухость и недостаточность для себя, причем единственным утешителем его является в это время Гофман. “Его (т. е. Мюллера) уроки и задачи скоро вызвали во мне неудовольствие, благодаря их, как мне казалось, сухости. Музыка была и оставалась для меня демонским царством, миром мистически возвышенных чудес: все правильное, мне казалось, только уродовало ее. Более соответствующих моим представлениям указаний, чем поучения лейпцигского оркестрового музыканта, я искал в “Phantasiestucken” Гофмана. И тут-то наступило время, когда я по-настоящему погрузился в этот художественный мир видений и призраков и стал жить и творить в нем”. В Вебере, который лично посещал семью Вагнера, последний увидел опять-таки свое, мистическое и сокровенное. “В противоположность скандальной фигуре Сассароли (итальянского певца, тоже посещавшего семью Вагнера) полный нежности, страдальческий и духовно просветленный облик Вебера возбуждал во мне экстатическое участие. Его узкое, тонкое лицо, с живым и тем не менее часто затуманенным взором, неудержимо влекли меня к себе. Я часто наблюдал его из окна, когда он, сильно прихрамывая, проходил в обеденную пору мимо нашего дома, возвращаясь домой с утомительных репетиций. Эта походка рисовала в моем воображении великого музыканта, существо необыкновенное, сверхчеловеческое”.
Увлечение музыкой и ее тайнами принимало у Вагнера с ранних пор чудовищный характер. “Помню отчетливо и сейчас,— пишет Вагнер в своих записках,— волшебный, сладостный восторг, охвативший меня, когда я в непосредственной близости слушал звуки оркестра. Самое настраивание инструментов действовало на меня мистически: звуки скрипичной квинты, когда по ней проводили смычком, казались мне приветом из мира духов — и это отмечаю, между прочим, не в переносном, а в прямом, буквальном смысле. Еще когда я был совсем маленьким ребенком, звук квинты сливался для меня с таинственным миром призраков, который в то время меня волновал. Долго я не мог без жуткого чувства проходить мимо маленького дворца принца Антона в конце Osterallee в Дрездене. Здесь именно я впервые, а потом все чаще и чаще слышал совсем вблизи звуки настраиваемой скрипки, исходившие, мне казалось, от украшавших дворец каменных статуй, из которых некоторые были изображены с музыкальными инструментами в руках”. Уже здесь музыка для Вагнера не просто искусство, но и какое-то волшебное, потрясающее откровение. Она — символ неизведанных глубин и сокровенных постижений. Музыка — сладострастное откровение и ни с чем не сравнимое высшее бытие. “Кто видел, как я, будучи уже взрослым мальчиком, обвеянный чарами, бродил ежедневно после обеда в “Большом Саду” вокруг Цильмановского оркестра, тот не мог не замечать, как я ловил и впитывал в себя со сладострастным трепетом хаотические звуковые краски, долетавшие до меня из оркестра при настраивании инструментов: протяжное А гобоев, звучащее как напоминание из мира духов, как таинственный призыв ко всем другим инструментам,— это А приводило всякий раз мои нервы в лихорадочно-напряженное состояние. А нарастающее С в увертюре “Фрейшютца” как бы переносило меня непосредственно и прямо в царство сказочных ужасов”.
Наконец, стоит отметить еще отношение Вагнера к Девятой симфонии Бетховена — может быть, лучший образец вагнеровского отношения в детстве и отрочестве к музыке вообще. “Эта Девятая симфония Бетховена,— читаем мы у Вагнера,— стала как бы диетическим средоточием всех моих фантастических музыкальных мыслей и планов. О ней сложилось тогда мнение — и, наверное, не в одном только Лейпциге,— что она написана Бетховеном уже в полубезумном состоянии,— и это меня особенно к ней и привлекло. Ее считали “поп plus ultra” всего фантастического и непонятного: этого было довольно, чтобы заставить меня со страстью углубиться в это создание демонского творчества. Уже при первом взгляде на с таким трудом добытую партитуру меня как бы с роковой силой привлекли к себе протяжные чистые квинты, с которых начинается первая часть симфонии: эти звуки, которые, как я уже рассказывал, играли такую таинственную роль в моих юношеских музыкальных впечатлениях, здесь выступали для меня как призрачно-мистический основной тон моей собственной жизни. Эта симфония должна была заключать в себе тайну всех тайн, и я приложил самые напряженные усилия, чтобы списать для себя партитуру. Помню, как однажды, после целой ночи, проведенной за этой работой. серый предутренний свет так поразил меня и, при сильнейшем моем возбуждении, так на меня подействовал, что я громко вскрикнул, как бы увидев привидение, и спрятался в постель”.
Все это вполне ясно рисует отношение Вагнера к музыке в детстве. Из этого детского музыкального мистицизма и развился тот тип философствования, который нам предстоит обрисовать.
Лосев (III) Мироощущение Вагнера. “Вагнер Кольца”.
III
Ни одна драма Вагнера не терпела столь плачевной судьбы непонимания и разнотолков, как тетралогия “Кольцо Нибелунга”.
А между тем правильно понять ее — значит понять вообще самый центр вагнеровского философского миропонимания. Запутанные ситуации, сложнейшая и тончайшая символика, масса разнохарактерных действующих лиц делают эту тетралогию труднотолкуемой вообще, и, чтобы найти ясное и простое ее понимание, надо затратить буквально несколько лет, постепенно вживаясь в нее и роднясь с ее заветными идеями.
Ключом к пониманию всей тетралогии является сцена с Нормами в прологе "Гибели богов”. Известно и биографически, что эту сцену сам Вагнер рассматривал как резюме всей своей мистической философии в “Кольце”. Рассмотрим эту сцену.
При ближайшем анализе она обнаруживает трехчастное строение. Каждая часть состоит из трех партий каждой из Норн, причем заключение поется тремя вместе. Уже тут перед нами развертывается во всем своем величии грандиозная тема мистической истории мира и богов. Первая часть рисует историю мира в аспекте знания и власти; третья — историю мира в аспекте власти и любви. Средняя часть трактует о божественной Первооснове до этой истории отдельных богов и людей. Всмотримся в первую часть сцены.
И здесь царствует тройственная архитектоника. Первой Норне поручен рассказ о богах, второй — о людях, третья трактует общую трагическую судьбу богов и людей. Уже первая Норна вполне ясно обрисовывает ряд мифов, проходящих по тетралогии в довольно спутанном виде, и необходимо этот ряд твердо помнить. Вот первая мысль этой истории богов в аспекте знания и власти:
Раскинул мощно ясень мира
благостный лес ветвей.
В тени прохладной ключ журчал,
шепот мудрый плыл по волнам;
Я пела святость рун.
Тут многое пока не понятно. Однако совершенно ясно, что здесь говорится о какой-то нетронутой, первобытной мировой мощи, о каком-то целомудренно-стихийном и непорочном бытии мира, вырастающей, в мировой ясень. В нем скрытая мудрость, он сам — мудрость. Мудрость — его имманентная стихия. Не наша — дифференцированная, субъект-объектная мудрость, а мудрость как мощь, как стихия, растворенная во всем мире. Послушаем дальше — вторую мысль:
a) Отважный бог
выпил вещей воды:
за глоток он отдал глаз свой,
как вечную дань.
b) Отломил Вотан
ветвь живую от ствола;
из нее копье могучий
создал себе.
Понятной делается и эта вторая тема. Отважный бог хочет вместить в своей отъединенной индивидуальности вечную мудрость мира, вечное и всемощное мировое сознание. Из живой ветви живого мира он делает себе пространственно-временное копье, орудие его отъединенно-индивидуальной воли и — значит — насилия. Он — незаконно и греховно отпавшая от общего божественно-премудрого и стихийно-непорочного лона индивидуальность. И вот теряет свой глаз — свое великое зрение и мудрость ясеня. С этих пор он однобоко видит, отъединение живет, он — существо с объект-субъектной границей, и уже нет в нем просторов всемирно-божественной свободы и мощи первобытно-единого бытия. Что же дальше? Дальше дается мысль этой истории богов в аспекте знания и власти:
Чреда веков текла,
раненый лес погибал:
в прах падали листья,
сох дерева ствол...
В скорбной тиши
иссякал родник.
Насилие, которое так рельефно изображается в знаменитом Speer-motiv. сопровождающем конец второй мысли, сменяется Gotterdammerung-mot. Оказывается, ясень, тронутый Вотаном, иссякает, уходит весь в качестве материала для его насильственных действий; иссякает и мудрость, нецеломудренно захваченная отдельной индивидуальностью. Такова история отважного бога, мечтающего о счастье силы и всемогущества, как о том повествует Walhall-mot., сопровождающий все эти слова об отважном боге.
Но далее идет история людей — песнь второй Норны:
1. а) Мудрость рун,
b) договоров крепость
бог врезал в свой могучий жезл:
c) так взял он над миром власть.
Для этого, конечно, и брал Вотан копье. Эти
treu beratner
Vertrage Runen —
есть не что иное, как мир математически-механистического естествознания: “мудрость” — законы, “договоры” — механистические законы. Это именно Вотан противопоставил вещей мудрости первобытно-единого слабость отъединенной индивидуальности. Грех индивидуальности противопоставил он сонным грезам и всеобще нераздельному царству извечного древнего Хаоса. Этим он только и мог взять власть над миром.
2. а) Бесстрашный герой
разбил, сражаясь, копье:
Ь) святой оплот договоров
он расколол.
Тут суммарно указана величайшая трагедия человечества, символизированная в подвиге Зигфрида. Бог не может сохранить за собой насилием полученную власть. Он все время предчувствует свою гибель, свой неминуемый возврат в царство первобытно-единого Хаоса. И вот он рождает людей-героев: не сумеют ли они, свободные от “договоров” и не знающие их, удержать власть над миром? Мы, рассуждает Вотан, только и стали богами потому, что употребили насилие и оторвались от всесильной Бездны. Мы знаем, что наше бытие связано этим насилием. Или насилия нет — тогда нет и нас и только царствует одна Бездна; или мы существуем, но тогда — насилие и гордость отъединенного знания и — все-таки бессилие бороться с Бездной, требующей возврата к себе ее блудных сынов. Не спасут ли мира люди-герои, не знающие этой трагической тайны мира и сознательно никогда себя не связывавшие “договорами”? Не спасет ли богов и мира свободный герой? Да, такой герой нашелся. Силой и мощью своего творческого экстаза он, юный богатырь Зигфрид, разбивает копье, проникает за пределы вечной скованности пространственно-временного мира, неудержимо и бесстрашно рвется к Бездне, зияющей за тюрьмой видимых оформлений. И что же?
3. Послал Вотан
героев в рощу,—
велел ясень
мертвый свалить
и рубить его на поленья...
И ясень пал...
Высох навеки родник...
Увы! Органическая выросшая мощь и мудрость бытия, мировой ясень, истощивший себя на пространственно-временную историю богов и героев, уничтожается. Остатки его и его мудрости должны уйти в какую-то еще более первоначальную Бездну, откуда уже нет возврата ни к какому оформлению. Эту трагедию богов и людей, возжелавших знания и власти, и подготавливает третья Норна, а окончательно формирует вторая главная часть сцены, где каждая из трех Норн опять выскажет тайну своей матери — Ночи. Третья Норна вещает:
1. а) Я вижу зал,
твердыню богов:
средь героев священных
в сонме бессмертных
молча Вотан сидит.
Это тот самый неудачный создатель мира, польстившийся на знание и власть, ждет своей роковой участи.
b) Стеной высокой
клети дров, словно цепь,
зал окружают:
то ясень когда-то был1
Мировой Ясень, сказали мы, пошел на устройство пространственно-временного мира и должен погибнуть вместе с ним.
2. а) Если костер
вспыхнет ярким огнем,
если пожар пышный
охватит дворец,—
b) бессмертные боги узрят
свой печальный закат.
Вот, наконец, выговорено имя последней и страшной Бездны, всепоглощающей и единственно торжествующей в “Кольце”,— Огонь. Это он поглотит блестящее создание, Вальгаллу, крепость богов (при этих словах музыка своим Speer-mot. как бы говорит, что именно уничтожится, когда сгорит Вальгалла, - уничтожится сила копья). Это Огонь поглотит все, приведя и самих богов к печальному закату (при том же взаимоотношении музыки и текста здесь — Walhall-mot., рисующий эту блаженную грезу Вотана о вечном и спокойном могуществе и высоком благородстве и величии Вальгаллы).
Далее выступает вторая триада Норн, уже подробно трактующая об этой самой божественной Первооснове, которая была до всякой истории и останется навеки после нее. Это — тот вечный Хаос, древнее лоно природы и истории; всеобщий Прародитель и исток всяческой жизни и всяческого оформления. Первая Норна рисует самое Бездну, Бездну и извечный Хаос в себе:
Брезжит ли день?
Или плещется пламя?
Ослаб острый мой взор:
я смутно вижу святую Древность,
где Логе быстрый
красным пылал огнем
das Heilig Alte,
da Loge einst entbrannte
in lichter Glut.
Вторая Норна рисует эту бездну во власти копья, закона, насилия:
a) Острием копья смирил его Вотан...
b) Логе шепчется с ним...
c) Чтобы стать свободным,
хитрый советчик руны древка грызет...
d) Но, покорясь Вотана воле,
ныне он светит,
Брингильды утес окружая...
Тут со всею яркостью дана та трагическая антиномия, на которой держится Вотан и его мир. Вотан взял власть и зачеркнул знание и хочет быть отъединенной индивидуальностью. Однако этого отъединения от Бездны он может достигнуть исключительно средствами только самой же Бездны, ибо вне ее вообще нет никакой иной силы. И вот, льстивый Логе, этот всепроникающий и всезнающий, всесильный Огонь, яркую картину которого мы находим в расползающемся, пронырливом и льстивом Loge-mot., сопровождающем начальные слова второй Норны, является почти единственным помощником Вотана, как это мы увидим далее. Силою этого же Огня Вотан и сдерживает свое стремление к Огню и Бездне, когда он, временно усыпляя свою героическую волю, Брингильду, надеется на будущего свободного героя. Это — та трагическая антиномия, которая составляет собою сущность мира Вотана. Третья Норна говорит о восстановлении власти Бездны, временно отдавшейся воле героя и как будто бы смирившейся перед ним:
Вот обломки древка,
острые иглы,
в грудь Горящего
Вотан вонзит глубоко:
жаркий огонь
вспыхнет тогда,
то пламя бог
на костер бросит,
на ясень срубленный мира.
Вотан, убедившись в безысходности своей судьбы, сам зажжет созданный им мир, сам уйдет во всеобщее мировое пожарище.
Наконец, последняя триада возобновляет тему первой триады, специализируя ее, однако, на моментах власти и любви. Первобытно-единое не только сила, не только все-мудрость, но и перво-любовь, та стихийная сила всеобъемлющего Эроса, которую знали древние греки именно в космическом аспекте. И если нарушение силы привело к насилию, а прикосновение к мудрости привело к “одному глазу” Вотана, к субъект-объектной ограниченности знания, то нарушение перво-любви ведет к похоти и вожделению, к преступлению Альбериха. Таким образом, вся вообще сцена с Норнами есть изображение трагических судеб мира, сначала — в аспекте знания и власти, потом — в аспекте власти и любви. Посредине вставлены слова о все-торжествующей Бездне, из лона которой и проистекает вся трагедия мира, как и сам мир.
Первая Норна (в третьей триаде):
Из Рейна клад унес Нибелунг:
где этот светоч волн?
Это — грехопадение Альбериха, с которого начинается “Золото Рейна”. Вторая Норна — о греховной жизни:
В кольце золотом зависть и злоба дрожат:
отмщенья завет пряжи сплетенья грызет...
Из похищенного Альберихом Золота Рейна — этой невинной мировой перво-любви и перво-силы — куется кольцо, из-за обладания которым (т. е. из-за власти над миром) и возникают зависть и злоба, изображению которых посвящено все “Кольцо”. Но вот и роковой конец всей мировой трагедии. Третья Норна:
Ослабших волокн не хватит мне!
Чтобы и север нить охватила,
туго надо сплетать!..
Siegfrieds-Hornruf-mot., указывающий как бы ту степень напряжения героической воли, когда она преодолевает самое себя и экстатически сливается с самой Бездной, как раз сопровождает эти слова третьей Норны. Она “с силою натягивает нить; нить рвется”. И вот ее заключение: “Конец”, “Es riss” (т. е. “Das Seil”). Это повторяет вторая Норна, повторяет опять первая, и, наконец, в заключение всей сцены вообще все три Норны вещают языческий апокалипсис и печальный конец после мирового пожара: “Конец вечному знанью!”—Zu End'ewiges Willen! (весьма характерно, что при этом — Fluch-mot.). “Конец нашим вещим речам! О, мать! Прими нас! Прими!” — Hinab zu Mutter, hinab! (опять в высшей степени характерно сопровождение Schicksal-mot.).
Если б мы теперь захотели в немногих словах резюмировать содержание всей рассмотренной нами сцены, то нужно было бы сказать так.
Вагнер в эпоху “Кольца” — язычник. Сущность язычества — ощущение имманентности Бога и мира, безличный пантеизм. В единой Бездне слиты Бог и мир, сознание и бытие, закон и Хаос. Это — древний стихийный Хаос, всеобщая Праматерь, рождающее лоно всяческих оформлений. Бездна эта — безлика, бессамостна, слепа; она — сплошное и нерасчлененное вожделение к самой себе, самовожделение, самосознание, перво-любовь. Она — за пределами добра и зла, за пределами разумных категорий, за пределами норм. Она вечно действует и рождает, сама не зная для чего и для кого. И она вечно пожирает рождаемое. Она — безумное влечение, анархический инстинкт жизни, мучительно-сладкое наслаждение бытия самим собою, вечно страстное и неугомонное самопорождение и самоуничтожение, мучительная радость непостоянства и вожделенное самодовление в хаотическом сладострастии непостоянства. И вот эта Бездна, играя и тешась, создает, между прочим, и наш светлый и стройный оформленный мир с его богами и людьми. Боги и люди, обретая себя на лоне всепоглощающей Бездны, героически борются за свою индивидуальность, убивают друг друга, желая остаться в индивидуальном оформлении. Но, увы! Бездна ждет всех нас, и людей и богов, да и сама индивидуальная жизнь наша есть все та же мучительная и сладостная игра бытия с самим собою. Жизнь наша и мир — продолжение и этап все той же вечно играющей и вечно холодной Бездны. Бездна — Судьба. Где же правда, спасение? Почему индивидуальность — грех? Почему мир и жизнь — борьба и битва? Почему сущность мира — трагедия? Эти вопросы, можно сказать, только и задаются в “Кольце”. Но Бездна молчит. Ответа нет. Сам мир и сам человек протестуют всею своею сущностью против такого миропорядка. Они взывают к Судьбе и героически, титанически хотят завоевать тайну. Но Бездна и Судьба безмолвствуют. Ответа нет.
Таково языческое мироощущение и таков Вагнер “Кольца”.
Теперь в свете проанализированной сцены с Норнами рассмотрим детально идейное содержание тетралогии “Кольцо Нибелунга”.
Лосев (IV) Этапы содержания тетралогии
IV
О “Кольце” писано столько всякого вздору, а с другой стороны, мистически-философское содержание его настолько сложно и запутанно, что я предпочитаю помедлить несколько на первоначальных разъяснениях, прежде чем установить этапы самого содержания всех четырех драм.
Итак, общая концепция мира в “Кольце” указывает на следующие всемирно-божественные этапы.
1. До-мировое, до-логическое Ничто и Все, безликая и бессамостная Бездна. Это — Огонь (Логе) и Вода (Рейн). До всякой истории, до всяких норм и оформлений, в целомудренной нетронутости пребывает это единство всеосвещающего, всепожирающего и всесильного Огня с всенаполняющей тучной мощью бытия, Водою, в Золоте Рейна. Золото Рейна — до-мировое, в себе довлеющее бытие Всего и Ничто, свет зияющей Тьмы, живая и светлая идея безликой и вселикой Ночи Абсолюта, смысловая энергия бессмысленности, стихийных безумий. Оно вечно таится в глубине Рейна, и вечные дочери Рейна, кружась и рея вокруг него, поют ему свои вечные гимны (этим и начинается первая драма тетралогии “Золото Рейна”).
Воглинда. О, радость!
Заря улыбнулась волнам!
Вельгунда. Сквозь пучину вод
ласкает она колыбель...
Флосхильда. Вот сонное око
будит лобзаньем...
Вельгунда. Вот трепещет
лучистый взор...
Воглинда. Озаряя мглу,
льется свет золотой!
Все три вместе (“грациозно плавая вокруг скалы”, на вершине которой в глубине водной массы сияет Золото):
Heia jaheia!
Heia jacheia!
Wallala lalala heia jahei!
Радость Рейна?
Ласковый луч!
Прекрасен твой кроткий свет!
Благостный блеск
сверкает сияньем святым!
Heia jahei!
Heia jaheia!
Здравствуй, друг!
Бодрым будь!
Дивной игрою
греешь ты нас!
Пламенный плеск
к пляске влечет,—
и рады мы плавать
с пеньем любовным
вокруг колыбели твоей!
Радость Рейна!
Heia jaheia!
Heia jaheia!
Wallala lalala heia jahei!
Увертюра к “Золоту Рейна” и вся сцена “На дне Рейна” — удивительное музыкальное живописание космогонии. Это знаменитое вступление, которое состоит из одного Urzustand-mot., представляющего собою не что иное, как тянущийся на протяжении 136 тактов ми-бемоль-мажорный аккорд, дает постепенное нарастание, как бы выхождение из Бездны мирового бытия, завершающееся полным явлением этой всемирно-божественной безликости и бессамости — блеском Золота Рейна. Мне кажется, что в концепции “Золота Рейна” мы имеем как раз языческое, в частности платоническое, учение об “идеях”. Выбросивши всю глупость и вялый вздор, который распространяют об этом учении различные профессора философии и филологии, мы найдем в нем именно явленный лик безликой сущности. Есть ведь лик и самой безликости. И вовсе нет никакого противоречия у Шопенгауэра между “безумной” волей и “разумными” идеями. Кто находит это у Шопенгауэра противоречивым, тот не понимает ничего в истории платонизма вплоть до учения Плотина об интеллигибельном мире. Как у Шопенгауэра “бессознательное” и “сознательное” вполне соединимо и совершенно отпадает традиционный вопрос “критиков” его о том, как это “бессознательная” воля порождает “сознание”, так и у Вагнера — блеск Золота Рейна есть именно эта стихия и тьма до-мировой и до-логической Бездны и Хаоса. Об этом твердит вся сцена “На дне Рейна”, состоящая из вольной и стихийной пляски дочерей тьмы. Напомним, что “мотив первобытного состояния”, или “становления”, родствен, во-первых, с мотивами Эрды (об этом ниже) и Норн, а с другой — с мотивом “гибели богов” (главная разница в том, что Urzustand-mot. есть восхождение, a Gotterdamme-rung-mot.— ход вниз, как бы поникновение). Если же принять во внимание, что Rheintochter-mot. (или, как еще говорят, das Wellenlied) родственно с “мотивом лесной птицы”, т. е. с зовом к героическим подвигам, к призыву к Зигфриду разбудить Брингильду, усыпленную волю Вотана, к самоутверждению, то станет ясным, что в мотивах сцены “На дне Рейна” — квинтэссенция всего музыкального содержания “Кольца”. Другими словами, в Золоте Рейна, как явленном лике безликой Бездны, уже заключен весь мир, со своими богами и людьми, со своим бытием и трагедией, но заключен не фактически, а именно идеально, смысловым образом. Это — идея мира, эйдос Судьбы, поскольку фактический мир и есть Судьба в процессе становления.
То же самое имеем мы, далее, в мифе о мировом Ясене, хотя и в другом аспекте. Это — тоже первобытная мощь и безликость, явившая себя как таковую. “Мотив мирового Ясеня” родствен, во-первых, с “мотивом копья”, из чего явствует, что Ясень прежде всего есть сила, в данном случае — перво-сила. Во-вторых, он родствен с Vertragstreue-mot. Это значит, что мировой Ясень — символ верности Бездны самой себе, самодовления и независимости, свободы от подчинения чему бы то ни было. В-третьих, “мотив мирового Ясеня” родствен с Gotternot-mot., что сильно подчеркивает самоудовлетворенность и самодовление этого перво-бытия. Однако если мировой Ясень есть явление безликости в аспекте как бы природы и истории, то Эрда — явление безликости в аспекте мирового сознания и мудрости мира. “Мотив Эрды” отличен от “мотива первобытного состояния” только минором; с другой стороны, он близок к “мотиву гибели богов”. К ней обращается Вотан за прорицаниями. О ней в “Зигфриде” сильные слова Странника:
Всезнаньем (Urwissend) некогда
ты иглу тревоги
вонзила в сердце мое...
Если ты всех в мире мудрей,—
молви мне, как победил тревогу бог?
В заключительном призыве Странник так рисует ее (в том <же> III акте “Зигфрида”, сц. I):
Вала, слушай!
Вала, проснись!
От долгих грез
я пробуждаю твой дух!
Услышь мой призыв!
Восстань! Восстань!
Из бездны ночной,
из глуби туманной восстань!
Эрда! Эрда!
Вечности сон!
Из лона родного
ныне всплыви!
Здесь песнь пою я,
чтоб ты проснулась!
От сонных мечтаний
снова очнись!
Всемудрая!
Первосущая (Urweltweise)
Эрда! Эрда!
Вечности сон!
Вала! Богиня!
Явись мне!
Это вечно грезящая, безликая мудрость Судьбы, свет “идей”, сама говорит о себе:
Мой сон — виденья,
виденья — мысли,
мышленье — творчество знанья.
Грезам моим
внимают Норны:
они ткут нить
и тайны Эрды прядут;
тебе ответят Норны.
Ясно, таким образом, что Эрда — та же самая Бездна, но в аспекте миросознания. “Мир идей” — явление тайн Эрды. Сон ее нарушают лишь оформления пространственно-временного мира, правда слишком невечные и слишком немудрые. Она сама рождает этот мир, т. е. героев, и сама не знает зачем.
Мужей деянья
туманят мысль мою... —
признается она Страннику Вотану, она вещает им тайны, побуждая к героизму, т. е. к жизни, но сама же молит Вотана:
Дай мне снова заснуть!
Дай замкнуться всезнаныо.
Эта безликая мудрость вся истощает себя на создание мира, богов и людей и — бесконечных миров, богов и людей. Она вечно иссякает и вечно юна. На слова Эрды:
Зачем ты, дикий упрямец,
нарушил всезнанья сон? —
Странник отвечает:
Сама ты — уже не та!
Всезнанье Валы иссякает:
погаснет оно моею волей!
И, рассказавши о подвигах Зигфрида, он прибавляет:
Да будет, что должно,—
пред Юным-Вечным
склонился радостно бог!
И далее:
Засни же, Эрда!
Первобоязнь! (Urmutterfurcht!)
Сон мира! (Ursorge!)
Прощай! Прощай!
Засни навек! (Zu evigem Schlaf hinab, hinabi)
Эта сцена (Зигфрид III 1) вообще дает богатейший материал для философского осознания мифа об Эрде.
Итак, Золото Рейна, мировой Ясень и Эрда — различные ипостаси первобытно-единой и сверх-сущей Бездны, откуда все, в существе своем представляющие одно и то же, но отличные друг от друга аспектами или оттенками.
II. Далее мы вступаем в царство пространственно-временных оформлений. Рассмотрим и тут мифологические воплощения общих мистических устремлений. Систематизируя и внося стройность в сложнейшие мифологические конструкции Вагнера, мы получаем тройную характеристику этого пространственно-временного плана. А именно, пространственно-временной план есть результат распадения Первоосновы: 1) появляется субъект-объектное познание, 2) появляется индивидуализированная власть-насилие, 3) появляется греховность пола, похоть. Носителями этой трагедии распадения являются в мире две основные фигуры “Кольца” — Вотан и Альберих, первый — в более благородном аспекте знания и муки о невозможности спасения, второй — в более низменном аспекте страсти и вожделения к похотливо преломляемому спасению. Собственно, вся мифологическая ткань “Кольца” вращается около этих двух фигур, и без точного философского уяснения их роли нечего и стараться понять “Кольцо” вообще.
Вотан, 1) как уже было сказано, испил воды мудрости у мирового Ясеня и 2) отдал за это один глаз, глаз инстинкта и интуиции. Тут мифологическое развитие философской темы о распадении субъекта и объекта и об ограничении субъект-объектной границей. Вотан говорит идущему на пробуждение Брингильды Зигфриду (Зигфрид) III 2):
Тем глазом, что я потерял,
Ты сам видишь глаз тот единый,
что мне освещает мой путь.
Ясно, что тут речь о том свободном инстинкте, который направляет Зигфрида к главному подвигу всей его жизни. Его-то и потерял Вотан, испивши воды мудрости. Другими словами, ставши тем Вотаном, которым он является, Вотан потерял слиянность субъекта и объекта в общей мудрости мира, которая есть “urwissend”. У него остался другой глаз, который он, по его словам к Зигфриду (в той же сцене), направляет “против ветра”. “Мотив Валькирий”, дочерей творческой воли Вотана, сопровождающий эти слова, указывает на то, что оставшийся глаз направляется против экстатического выхода из пространственно-временндй границы понятий. Далее, Вотанм 3) взял жену Фрикку, причем тут тоже повторяется, что “в залог” за это отдал свой глаз. Это прекрасно гармонирует с указанием на ясень. Как там знанию положена некая граница, знание распадается, так и здесь перво-любви кладется некая граница, рождается дифференцированный пол, укрепляется это разделение, и Фрикка — хранительница брачных договоров и чести, богиня семейной морали и связывающих обязанностей, исконный враг всяких экстазов, творческой любви и выхода за узкий предел семейной морали. К ней именно будут взывать “оскорбленные” супруги, и именно она будет им помогать против Валькирий, дочерей экстатической и творческой воли к перво-любви, к вожделенному воссоединению всяческих в первобытном Хаосе. Наконец, 4) Вотан вырубил из мирового Ясеня копье, могущество над пространственно-временным миром, и написал на нем Договоры — основоположения мира “математического естествознания”.
Альберих находится в аналогичном отношении к Первооснове. Он тоже нарушает ее нетронутое целомудрие. Он, как это изображено в первой сцене “Золота Рейна”,
крадет самое Золото Рейна. Подслушавши у Дочерей Рей-на о том, что Золотом может завладеть только тот,
кто отвергнет
ласть любви,
кто сладких ласк
лишит себя,—
что только проклявший
любовь может
весь мир властно
в наследье добыть —
через это Золото, он, не смогший привлечь Дочерей Рейна в жертву своей похоти, крадет Золото Рейна, проклиная любовь на весь мир. “С ужасною силой он вырывает Золото из скалы и поспешно устремляется с ним в глубину, быстро исчезая в ней. Вся сцена внезапно заполняется непроницаемым мраком. Девушки вне себя ныряют в глубину вслед за похитителем”. При отчаянных вскриках Дочерей Рейна “воды спускаются вместе с ними в глубину. Совсем внизу, из-под земли, раздается резкий насмешливый хохот Альбериха. Скалы исчезают в глубочайшем мраке. Вся сцена сверху донизу заполнена черной массой волнующихся вод, которые некоторое время все еще словно опускаются вниз” (ремарки Вагнера в конце сцены). В дальнейшем Альберих делает себе из Золота кольцо и шлем как средство для чудесных превращений, для своеобразного преодоления пространственно-временного мира, хотя ради все того же пространства и времени.
И вот эти две силы — Вотан и Альберих.— оторвавшись от всеобщего лона Единого, вступают теперь в борьбу за свое отъединенное существование, как против этого Единого, так и друг против друга. Начинается божественная комедия жизни, трагедия мирового бытия. Разумеется, в каждом из них продолжает жить эта Бездна, ибо, как установлено, без нее нет вообще ничего. Сами Вотан и Альберих не более как ее струи. Вотан, в котором преобладает познание, обращаясь к смутной мудрости мира, Эрде, знает смертность бытия и свою гибель, возвращение в Бездну; кроме того, в нем горит огонь Творчества и Мощи, откуда его дружба с Логе и упование на его силу, борьба с “верностью” Фрикке и пр. Альберих, в котором преобладает вожделение и смутная животная необходимость, отрицательно проявляет свое знание, желая не создать, а разрушить; отсюда его проклятие, о котором он подслушал у мудрых Дочерей Рейна.
Следовательно, вот основные силы, которые борются между собою в “Кольце”: 1) сила самоутверждающейся отъединенной индивидуальности, более в познании — “гнев” Вотана, более в вожделении — “злость” Альбериха; 2) сила первозданной Основы, Творчества, Бездны, неустанно зовущая эту индивидуальность к воссоединению с Первобытно-Единым, но и сама идущая, в зависимости от этого и по мере этого, к окончательному распадению; 3) сила Огня, сначала покорившегося пространственно-временному сознанию и разуму Вотана, но потом — волею самого Вотана отпущенного на его, ему присущую волю — мировой Пожар. Значит, сущность философии “Кольца” заключается в мировой диалектике Первобытно-Единого. Чтобы быть самим собою, это Единое распадается. Желая проявить себя именно как единое, оно рождает из себя разнообразные оформления. Но все эти оформления суть не что иное, как само это Единство. И потому они гибнут в глубине и мгле Первобытно-Единого. Так проявляет себя Единое, играя и тешась. Так являет свой скрытый лик в различных индивидуальных оформлениях вселикая и безликая Бездна, переходя от творчества мира к мировому пожару и обратно. Такова величественная и безнадежная трагедия мира. Только сознание человека чего-то требует иного, вопиет о другом, светлейшем и прекраснейшем. Однако все это — и вздохи, и стоны — тонет во всепоглощающей Бездне. Такова диалектика бытия.
Только теперь, рассмотревши основную концепцию “Кольца” и в понятии и в мифе, можно безбоязненно перейти к рассмотрению фактического идейного содержания четырех драм, входящих в “Кольцо”. С точки зрения основной концепции это будет не чем иным, как рассмотрением истории пространственно-временного мира — от преступления Вотана и Альбериха до мирового пожара.
Лосев (V) Разбор предвечерия тетралогии (“Золото Рейна”)
V
Эта история, излагаемая Вагнером на протяжении четырех громадных драм, имеет несколько стадий. В каждой стадии легко увидеть, согласно с общей концепцией, 1) самоутверждение отъединившихся индивидуальностей, 2) вытекающее отсюда их столкновение и 3) результат этого столкновения.
“Золото Рейна” — первая стадия.
Мы уже почти все знаем, что надо для понимания самоутверждения в этой начальной стадии. Прежде всего Аль-берих завладевает Золотом через проклятие любви. Этому посвящается первая сцена “Золота Рейна”. Далее, Вотан строит себе и всем богам крепость и замок Вальгаллу, строит при помощи великанов Фазольта и Фафнера; другими словами, земная мощь, земля (великаны) обработываются по законам математического естествознания, или разума Вотана. Отсюда Договоры Вотана с великанами, дающие разуму Вотана реальную силу, а мощи великанов — стройную и осмысленную жизнь. Об этом выразительно говорит Вотану один из великанов — Фазольт (Золото Рейна, сц. 2):
Слушай мой совет:
договорам верен будь!
Что ты есть.
Тем ты стал лишь условно.
И власть твою только разум хранит!
Мудрее ты,
острее, чем мы,—
мирным господством
связал ты нас;
но я кляну твой разум,
я бегу жизни мирной,
если открыто
ты перестал
свои договоры блюсти!
Если разум Вотана получает реальную силу в Вальгалле, то великаны должны тоже стать чем-то более просветленным и разумным, более молодым и красивым, чем простая, безобразная мгла земли. И вот, по договору, великаны должны получить от богов Фрейю, богиню молодости. О ней, между прочим, говорит Логе (2-я сц.):
Обшарил я бурно всю землю,
весь мир — искал достойное Фрейи,
чтоб великанам вручить...
Искал тщетно, и вижу теперь:
в красоте миров нет ничего,
что могло б мужам заменить
отраду женских чар!..
Где жизнь веет и реет,—
в воде, в лесу, в горах,—
там слушал,
там вопрошал я
цветение сил
и трепет дыханий:
что же мужей
влечет сильней,
чем ласки нежные жен?
Но где жизнь веет и реет,
осмеян был
мой лукавый вопрос:
в воде, в лесу, в горах радости нет сильней любви?
К этой вечной молодости и любви и тянется земная мощь. Фазольт обращается к Вотану со словами (там же):
Грубы мы?
Нет, неправда! —
Вам красота дана,
в ней лишь вся ваша мощь,—
но страшно жить вам
без башен и стен,—
замок вам нужней
нежной прелести жен!
Мы, дурни, мучились
грубым, тяжелым трудом,—
о деве мечтая,
о кротком луче
во тьме бедной жизни...
Итак, самоутверждение Вотана, применившего свой индивидуальный разум для упрочения в Вальгалле, и Альбериха, проклявшего любовь ради Золота, т. е. власти над миром, приводит к столкновению этих самоутвержденностей.
А именно, земная мощь требует Фрейю по договорам, ибо это — необходимость фактическая, раз из этой мощи уже выросла Вальгалла. Вторая сцена “Золота Рейна” и есть сцена требования великанами Фрейи у Вотана. Она открывает “привольную местность на горных вершинах”. “Утренняя заря возрастающим сиянием освещает замок с блестящими зубцами, которыми увенчан высокий утес на заднем плане”. “В стороне, на цветочной лужайке, лежат Вотан и рядом с ним Фрикка; оба спят” (ремарки Вагнера). Вотану чудится во сне блаженная мечта его жизни, величавое спокойствие всемогущества над миром. Он грезит во сне:
Ограды дивной врата
героев ведут в чертог:
слова мужа, властная мощь —
светлый, вечный завет...
И далее, проснувшись:
Бессмертных мечтаний венец!
На горном гребне — оплот богов:
гордо блещет
пышный дворец!
Как в видениях сна,
как в желаньях моих,
вот он встал,
радуя взор,—
замок властных надежд!
И вот появляются великаны:
Сон твой сладок был;
а мы всю ночь
таскали груды скал.
Сон забыв и покой,
мы вздымали толщу стен;
мощь ворот дом хранит,
и увенчан башней стройный зал.
Вот твой крепкий замок,
светом дня
он озарен.
Властвуй в нем,—
нам — плату дай!
Что же Вотан? Вот его ответ:
С ума вы сошли
с договором своим?
Платы нет такой,—
Фрейю я не отдам!
Вотан хочет невозможного — сохранить юную и девственную чистоту и красоту и индивидуалистическую веру в свою власть и силу, в могущество своего разума. И вот он отказывается выдать Фрейю, тайно уповая на помощь Логе. “Логе все нейдет!” — говорит он про себя, когда великаны припирают его к стене. И когда Доннер, бог грома и молнии, хочет порешить дело силою, набрасываясь на великанов со своим молотом, то Вотан, “протягивая копье между противниками”, повелительно кричит:
Стой, безумец!
Насилье оставь!
Хранит договоры
Копье мое!
Тяжкий свой молот спрячь!
Так и должно быть. Здесь, повторяю, необходимость фактическая. В условиях реального мира раз воздвигнута крепость для отъединенного пребывания оторвавшейся от перво-лона личности, то эта крепость есть результат и непросветленной силы земли, и “научного” разума, ее обрабатывающего. и земные великаны в условиях этого мира должны получить то или иное вознаграждение от Вотана. В конце концов после многих колебаний Вотан решает при помощи Логе добыть рейнское Золото у Альбериха, чтобы отдать его великанам вместо Фрейи,— паллиатив и компромисс, на который Вотан пока еще идет, веря в свое спасение. А пока Фрейю великаны уводят, погружая богов в туман и старость. Хитрый Логе знает все:
Грезы ли дразнят?
Свет ли померк? —
В одно мгновенье
цвет ваш увял!
Где румяна ваших щек?
Где блеск ваших светлых очей? —
Ну, мой Фро!
Полно грустить!
У тебя, Доннер.
уж валится молот!
Что стало с Фриккой?
Ей, верно, скучно,
что Вотан вдруг поседел
и стал совсем стариком?
В дальнейшем он прибавляет:
Юность поблекнет,—
старость придет,
жалкая дряхлость,—
и, на всемирный позор,
зачахнет род богов...
Третья сцена — “глубокое подземное ущелье”, где карлики куют золото для Альбериха и куда проникают Вотан и Логе, чтобы отнять кольцо у Альбериха; четвертая сцена (и последняя) — возвращение Фрейи взамен отдаваемого великанам золота. Все полно обмана и насилия.
Вотан желает оставить у себя и Вальгаллу, и Фрейю, и, услышавши от Логе о рейнском Золоте, и самое Золото. Отдавая великанам награбленное богатство, он ни за что не хочет отдать Кольцо, ибо в нем тайна мирового могущества, и только явление Эрды, которая говорит про себя:
Все, что прошло, я знаю;
все, что грядет, все,
что свершится, ясно мне
и которая грозно и мрачно вещает:
Все бытие — тленно!
Закат богов
в сумерках брезжит...
Совет мой — перстня беги! —
только это явление Эрды и ее прорицание заставляет Во-тана в конце концов отдать Кольцо великанам. Альберих неумолимо жесток к своим Нибелунгам, заставляя побоями и руганью служить их себе. Его брат карлик Миме стонет от побоев, неустанно работая на своего грозного владыку. Вот Альберих кричит на своих подчиненных:
Бойко! Быстро!
Хе-хе! Хо-хо!
Жалкий скот!
В кучу там складывай клад!
Эй, ты, ползи! Живо влезай!
Гнусный народ! В кучу кладите!
Или помочь вам? Все, все сюда!
Народ покоренный,—
дрожи, бледней!
В страхе чувствуй власть кольца! и т. д.
Логе, заставивший обратиться Альбериха в жабу, ловит ее и вместе с Вотаном тащит связанного Альбериха на поверхность земли, и благородный, все время философствующий Вотан, который при виде жадно набрасывающихся на золото великанов с презрением говорит:
Только скорей:
это противно!
и далее “отворачивается, удрученный”, со словами:
Жгучим стыдом
сердце горит...
Этот самый Вотан, невзирая на предостережения Альбериха о проклятии, “хватает Альбериха за руку и с большой силой срывает перстень с его пальца” (рем (арка) Вагнера), говоря:
Дай сюда!
Тебе болтовня
прав не даст на него!
Но злоба развивается дальше. Альберих “с бешеным хохотом” кричит:
Свободным я стал?
Неужель? —
Так вот вам моей свободы
первый привет! —
Ты проклятьем был рожден,—
будь проклят,
перстень мой!
Ты давал
мне власть без границ,
неси отныне
смерть взявшим тебя!
Лихой бедой
радость сменяй;
не на счастье сверкай
золотым огнем!
Тот, чьим ты стал,
пусть чахнет в тревоге,
других же вечно
пусть зависть грызет!
Всех щедротой
своей мани,
но всем приноси
только тяжкий вред!
Без наживы владельца оставь,
но убийц введи в дом его!
На смерть обреченный,
будет несчастный дрожать
и день за днем
в страхе томиться всю жизнь
властитель твой —
и твой жалкий раб:
до тех пор, пока
ты опять ко мне не вернешься!
Так в страшной моей
беде кольцо мое
я кляну! —
Владей же им!
И глубокомысленный вдруг делается легкомысленным и, “погруженный в созерцание кольца на своей руке”, <Вотан> небрежно говорит <об Альберихе>: “Пусть услаждает свой гнев!” Сила проклятия сказывается, однако, тотчас же. Великаны ведь тоже были жадны в своих требованиях. Требовать Фрейю было для них не только фактической необходимостью, но и актом тоже стремления к захвату власти. Еще во второй сцене Фафнер говорит:
В роще Фрейи
яблоки зреют златые;
холить их
только Фрейя умеет;
родня ее,
ими питаясь,
вкушает сок
юности вечной.
Но богам
грозит злая старость,
слабы вдруг
станут они,
если Фрейю утратят.
Великанам, следовательно, важно обессилить богов. Но земная мощь, приявши на себя “лучистый взор” Фрейи, не сумела успокоиться в мире и, продолжая метаться в борьбе и противоречии, уничтожает самое себя, и Фафнер тотчас же по присвоении богатства Вотана убивает Фа-зольта, присваивая себе и золото, и шлем, и самое кольцо, так что даже Вотан, “глубоко потрясенный”, проговаривает:
Страшно вдруг
сказалась проклятая мощь!
Ясными отсюда делаются и результаты первой стадии мировой трагедии истории, зафиксированной в “Золоте Рейна”. 1) Вальгалла куплена обманом. Другими словами, укрепление отъединенности куплено ценою опять-таки опоры на Огонь (Логе), на Хаос — что и есть хитрость и обман по отношению к пространственно-временному миру. Вальгалла куплена еще и насилием — силою того же Огня. Обман и насилие и есть основа всякого математического естествознания и всякой техники, нецеломудренно насилующей девственное тело природы. 2) Другая отъединенность, Альберих, кипит в злобе и шлет проклятия кольцу и его обладателям. 3) Мощь земная, захватившая богатство и власть, мечется в борьбе и противоречии; Фафнер убивает Фазольта. 4) Разрушается и то бытие, исконное, которое как бы ушло на постройку пространственно-временного мира, и Эрда вещает, что “все бытие — тленно”. 5) Торжествует только Огонь. Вотан знает его льстивый, вкрадчивый, неуловимый и лукавый характер.
Ты снова
вздумал вилять?
Речью лукавой
бойся меня обмануть!—
говорит ему Вотан при его появлении, а на его вопрос к Альбериху: “Так, значит, веришь ты мне?” — тот отвечает:
Твоему коварству,
но не тебе!
Он только мечтает о том, чтобы возвратить Золото Дочерям Рейна, и только и служит, следовательно, Бездне, кому бы фактически ни услуживал. Когда боги во главе с Вота-ном и Фриккой идут по радужному мосту в Вальгаллу (в самом конце драмы), только он один знает все и только он торжествует:
На погибель сами спешат,—
эти гордые мнимою силой...
Мне с ними быть едва ли не стыдно...
В скользящее пламя
опять обратиться
я желаньем томлюсь!
Огнем пожрать
властелинов моих —
лучше, чем с ними
гибель принять,—
хотя бы то были и боги!
Такова первая стадия мировой трагедии — устроение Вальгаллы. Драма кончается видимым благополучием. Но проклятие и грех индивидуальности требуют какого-то другого окончания. И последние слова драмы поручены тоскующим в глубине Рейна Дочерям Рейна:
Радость Рейна!
Ласковый луч!
О, если б волнам
улыбнулся твой чистый свет!
Только в глубинах
правда таится:
ложь и страх там,
на вершинах царят!
Лосев (VI) Разбор первого дня тетралогии (“Валькирия”)
VI
Второй стадии трагедии посвящена “Валькирия”. В чем тут самоутверждение, если придерживаться принятой нами схемы? – Вотан понимает, что его личность отъединена незакономерно от Бездны и потому должна в ней погибнуть. Тем не менее, он чувствует и знает, что в нем горит постоянный огонь творчества и воли, что в нем действует самая же Бездна. Мы можем сказать, что Вотан, как и весь его мир, и есть не что иное, как вечное самопротиворечие, т. е. самопорождение и самоуничтожение Бездны; Вотан и созданный им мир – лишь один из бесчисленных этапов этой описанной нами выше мистической диалектики Абсолютного и Бездны. Так вот Эрда и открывает знание этого Вотану. Узнавши тайну, он, естественно, не сразу ей подчиняется. Он замышляет новое соединение отъединенности и творчества, индивидуальной воли и всеобщего Хаоса и хочет родить свободного героя. Этот герой не должен обладать тем же знанием, которое открыто ему; он, кроме того, должен быть свободен от всяких Договоров. Вотан мечтает спасти Вальгаллу и весь мир, а также защититься от Альбериха силою этого свободного героя. Странствуя по земле под видом Вельзе, он рождает от смертной двух близнецов – Зигмунда и Зиглинду и – от Эрды – девять валькирий и среди них Брингильду – дочь знания Эрды, Творческой Воли Вотана, помощницу героям. Зигмунд должен исторгнуть меч Вотана из Ясеня – залог свободной творческой воли и творческого завоевания мира. Зигмунд – дикий волчонок, выросший в лесу. Ему чужды преграды узкой морали и долга. Таково новое самоутверждение. Вотан надеется, что рожденный им свободный герой Зигмунд спасет его и весь мир.
Прежде чем перейти к обрисованию столкновения самоутвержденностей в этом втором периоде, прочитаем резюме всей драмы, вложенное в уста Вотана во втором акте, в разговоре с Брингильдой:
Что в тайне скрывал я от мира,–
то да пребудет
скрытым навеки...
Но ты, Брингильда,–
то же, что я...
Утратив радость
юной любви,
стремиться я к власти стал:
мой дух горел
желаний огнем
и добыл мне весь мир:
но, заблуждаясь,
ложью прельщенный,
зло договорами я скрепил:
в сети завлек меня Логе
а сам, как вихрь, исчез.–
От любви же не мог я отвлечься:
бесконечно жаждал я страсти.
А темный враг,
трусливый Нибелунг,–
Альберих страсть одолел:
он проклял любовь
и проклятьем достал
из Рейна клад золотой
и с ним безмерную власть.
Сумел я отнять
им скованный перстень,
но я не Рейну его вернул:
его я отдал
великанам
за блеск, за крепкий мой замок,
оплот вечный
власти моей.–
Провидя все
во тьме времен, Эрда,
священно-мудрая Вала,
страх мне внушила к кольцу,
вечный конец нам вещала...
О конце я хотел
все услышать,
но, смолкнув,
исчезла она...
Я утратил свой ясный дух,–
незнанье томило меня;
и проник я в глубь,
в лоно земли,
пленил богиню
чарами страсти,
гордость ее сломил
и заставил все сказать.
Знанье добыв у нее,
я сам ей любви дал залог,
и мудрость вещих снов
родила мне, Брингильда, тебя.
С восьмью сестрами
выросла ты;
чрез вас, валькирий,
я стал бороться
с ужасом диким,
грозящим мне:
с позорной кончиной бессмертных.
Чтоб мощной силой
встретить врага,
сбирать я героев велел вам:
всех тех, кого властно
закон наш держит, чья доблесть так
устрашает богов,
кто в цепях договоров,
в узах обманных,
покорно и слепо
к небу прикован,–
их всех подвигать
должны вы к сраженьям,
разжигать к лютой
войне их мощь,
чтоб смелых воинов сонмы
в Вальгалле моей стеклись!
Далее идет еще более интересное объяснение Вотаном смысла свободного героизма как выхода из той антиномии, в которой пребывает Вотан:
(чрез договоры мощь,–
договоров жалкий я раб)
Другой бедой –
слушай и знай –
мне угрожает судьба!
Ночь-Альберих нам
гибель готовит,
питая ко мне
злобную зависть;
но полчища гнома
меня не пугают,–
победят их сонмы мои!
Только если перстень
вновь он добудет,–
тогда Вальгалла погибнет:
кто любовь отринул,
тот один
сможет силой кольца
повергнуть всех нас, свободных,
в вечный позор;
героев он
отвратит от меня,
заставит смелых
мне изменить
и силой их
меня победит...
Я обдумывать стал,–
как вырвать перстень у гнома.
Проклятым кладом
некогда двум великанам
я заплатил за труд;
ныне, брата убив,
с окровище Фафнер хранит.
Могу ли отнять я перстень,
ему в уплату мной данный?
Заключив договор,
я связан в деяньях,
и пред врагом
безвластен мой дух...
Это мой рок, мои оковы:
чрез договоры мощь,–
договоров жалкий я раб! –
Один лишь мог бы
вернуть кольцо...
герой, не знавший
немощи бога,
свободный от нас
и наших даров,–
без сознанья,
без понужденья,
сам себе
и своим мечом.–
властен свершить,
что страшит меня,
о чем мечтаю я,
втайне лелея мечту! –
Он, соперник богов,
мой спаситель,
враждебный мне друг,–
найдется ли он?
Где муж непокорный,
герой бесстрашный,
чья свобода воли
мне так дорога?
Создам ли Другого,
кто вне меня
творил бы то лишь,
что надо мне? –
О, горе богов!
Страшный позор!
Противно видеть
только себя
во всех своих начинаньях!
Другого страстно желая,–
Другого не вижу нигде?
Свободный в свободе родится,–
я же лишь рабство плодил!
И вот, первый акт “Валькирии” – самоутверждение героя. Рожденный Вотаном и оставленный им на свободе, Зигмунд вырос в лесу. Вот он, обессиленный преследованиями врагов, попадает в жилище Хундинга, насилием женившегося на сестре Зигмунда Зиглинде и с враждой относящегося ко всему роду Вельзунгов. Брат и сестра узнают друг друга, будучи объяты страстью любви. Зигмунд исторгает меч, который когда-то воткнул в ясень Во-тан и который не мог исторгнуть никто из героев. А завтра бой – смертельный бой с Хундингом. Рождается в обоих героях экстаз воли и действия. Охваченные вихрем любви, могучие и всесильные в обладании отцовым мечом,– неужели они не всесильны, неужели они не спасут мира? Вот это самоутверждение свободных героев (в конце первого акта).
Зигмунд. Бури злые стихли
в лучах весны,–
сияньем кротким
светится Май,
на крыльях легких
рея тихо,
чудо он
земле несет;
его дыханье
веет лаской,
радость льют
его глаза!
В блаженном пенье птичек
Май звучит,
Маем дышит
запах трав;
от тепла его
цветут волшебно растенья,
жизнь дает он
слабым росткам.
Оружьем нежным Мая
мир покорен;
вьюги зимы
в страхе умчались прочь;
и властным ударом
вот он открыл
суровый затвор,
что упрямо его
к нам,– к нам не пускал! –
К своей сестре
влетел светлый Май,–
манила брата Любовь:
у нас в сердцах
скрывалась она,–
и рада свету теперь!
Невеста-сестра
спасена своим братом,
разлуки горькой
пала стена:
мир, смеясь
молодой чете,
венчает Май и Любовь!
И далее:
Зигмунд назван,–
я Зигмунд ныне!
И доблестный меч
бесстрашно я вырву!
Вельзе сказал мне, что в тяжкой беде
меч я найду:
он найден мною? –
Страсти священной
скорбный стон,–
муки любовной
жгучий огонь,–
в сердце ярко горя,
даст мне жизнь и смерть!
Нотунг! Нотунг! –
так меч я зову,–
Нотунг! Нотунг!
Жадная сталь!
Острый резец твой
мне покажи!
На свет выходи из ножен!
При этих словах “мощным напряжением силы он вырывает меч из ствола и показывает Зиглинде, охваченной изумлением и восторгом” (рем<арка> Вагнера). Он восклицает:
Зигмунд, сын Вельзе, пред тобой!
Его брачный дар – этот меч!
Жену себе
сосватал герой
и с ней бежит
из дома врага!–
Вдаль скорей
следуй за мной,– в светлый дворец,
где царствует Май:
тебя там меч защитит,
когда твой Зигмунд падет!
“Он обнимает ее, чтоб увести с собою”. Зиглинда, “в величайшем упоении вырываясь из его объятий и становясь против него”, восклицает:
Если Зигмунд
здесь предо мною,
Зиглинду ты видишь, -
она твоя!
Сестру родную
вместе с мечом ты нашел!
“Она бросается к нему на грудь”, и Зигмунд заключает этот акт словами:
Ты сестра мне,
ты и жена мне,–
цвети же Вельзунгов род!
“С бешеной страстью он привлекает ее к себе” (рем<арка> Вагнера).
Переходим теперь к столкновению самоутвержденностей в разбираемом нами втором периоде мировой трагедии.
Зигмунд – всецело создание Вотана. Значит, столкновение самоутвержденностей на этот раз произойдет в душе самого Вотана. В самом деле, подлинно ли это есть выход – родить “свободного героя”? И вот впервые выступает со своими ужасными аргументами Фрикка, которой Вотан и подчиняется. Еще в “Золоте Рейна” Фрикка была охарактеризована краткими, но в высшей степени выразительными чертами. Фрикка – полная противоположность Брингильде. Последняя – творчество, свобода, экстаз и пламень страсти. Фрикка – мораль, семейная “верность” и “честь”, узость, непоследовательность, каприз, трезвость, холодность и глупость. Так, во второй сцене “Золота Рейна”, когда Вотан во сне мечтает о “славе мужей” и “властной мощи”, она будит его прозаическими словами:
Прочь сновидений
сладкий обман!
Она пугливо напоминает Вотану об его “договорах”, жалея, что они сделаны без нее:
О, если б знать я могла
обманный ваш договор!
Длинно упрекая Вотана в том, что он не сможет удержать Фрейю, она вдруг прельщается кольцом, узнавши от Логе,
Живой игрою
золота блеск
и женской служит красоте,
и, “ласкаясь к Вотану”, спрашивает его:
Быть может, достанет
Вотан кольцо?..
забывая уже о всем прочем – и о последствиях этого похищения кольца. Ее первый вопрос после похищения Вотаном кольца такой:
Удалось ли дело?
(“озабоченно к Вотану”),– хотя сама же, в конце концов, чуя опасность, говорит Вотану:
Будь добрей!
Брось им кольцо!
Ей ничего не хочется знать, и, когда Вотан высказывает желание спуститься за прорицаниями к Эрде, она, боясь “измены” супруга, “прижимаясь к нему с нежной лаской”, зовет идти в Вальгаллу, к которой раньше сама же старалась относиться скептически:
Ты грезишь, Вотан?
Разве не манит
замок тебя?
Он властелина
так приветливо ждет...
Эта-то Фрикка, оплот одного из указанных выше трех главных моментов грехопадения, и приезжает теперь на своих баранах к Вотану с аргументами против героической воли Зигмунда и Зиглинды. Этому посвящается первая сцена второго акта “Валькирии”.
По ее словам, Вотан “укрывается в горах” от ее взоров. Она всюду искала Вотана сообщить ему, что Хундинг громко молит ее о мщенье за нарушение его семьи.
Союзы брачные
святы мне,
и мой долг – казнить беспощадно
грех дерзкой четы,
нанесшей мужу позор.
Иного мнения держится Вотан. Вспомним, как еще в “Золоте Рейна” он прекрасно формулировал разницу между ним и Фриккой:
Мужа в твердыне
пленить ты хотела,–
но должен бог быть свободен,
даже в стенах плененный,
мир безгранично
себе покоряет:
жаждет движенья
все, что живет,–
а жизни я не оставлю!
Еще тогда Фрикка отвечала ему на это со всей “женской нежностью”
О, холодный,
жалкий супруг!
За господства тень,
за власти тщету
готов ты позорно отдать
честь и любовь жены!
Так и здесь, в разговоре о Зигмунде, Вотан остается верным себе, своей вечной жажде творчества и экстатического действия:
Чем греховен
их союз,
венчанный нежной весной?
Любви волшебство
в них страсть зажгло:
возможно ль Любовь казнить?
И далее:
Брака священного нет
в союзе без любви;
и ты тщетно ждешь,
чтобы я укреплял
насильно устои брака:
где цветут силы свободно,
там я зову их к борьбе!
В ответ на это Фрикка только возмущается; кровосмешение для нее никогда не может быть священным:
Трепещет мой дух,
немеет мой мозг:
пала сестра
в объятия брата!
Где же и когда
меж кровными брак совершался?
Разумеется, этот брак героической четы для Вотана – факт. Не учитывая всей пошлой ограниченности Фрикки, он говорит:
Что страсть их связала,
видишь и ты;
и вот тебе мой совет:
изведай сама
упоенье восторга,
приняв с улыбкой привета
светлый союз двух сердец!
На что Фрикка обрушивается сценой ревности по поводу блужданий Вотана:
Жену всегда
обманывал ты:
в глуби долин,
на горных высотах,–
везде взор твой
страстно искал
новых чувств
и новых восторгов,
терзая сердце мое!
Ответ Вотана, как в “Золоте Рейна”, прост, глубок и величествен:
Есть многое,
чего ты не знаешь,
чего не понять тебе,
но что свершиться должно.
Лишь обычное
ясно тебе;
но то, что ново всем,–
того жаждет мой дух!
Знай одно лишь:
нужен герой,
лишенный нашей защиты,
отвергший законы богов.
Только он
может дело свершить,
что спасло бы бессмертных,
но что богу свершить не дано.
Однако тут начинается второй аргумент Фрикки:
Кто в них вдохнул этот дух?
Кто взоры слепцов просветил?
В твоем щите
сила бойцов,
твое внушенье
движет мужей:
ты – сам их ведешь,
и ты смеешь мне их хвалить!
Нет, ты меня
больше не обманешь,
не извернешься хитростью новой,–
и этот Вельзунг
погиб для тебя:
лишь ты виден мне в нем,
лишь тобой стал он силен!
Начинается знаменитое место мук Вотана, где он сначала слабо возражает Фрикке, потом соглашается, чтобы Зигмунд “шел своим путем”, потом старается стушевать положение тем, что у Брингильды, помощницы Зигмунда, “своя воля”, чем, конечно, не может обмануть хитрой Фрикки; она говорит:
Нет же! Лишь твою
исполняет она:
в твоих руках Зигмунда жизнь!
В конце концов, сраженный аргументами супруги, он клянется в том, что отнимет чудесную силу от меча Зигмунда и что Зигмунд погибнет. “В страшном унынии бросаясь на уступ скалы”, он едва проговаривает: “Да, клянусь!” – Итак, аргументы Фрикки сводятся к запрету нарушения брака, к запрету кровосмешения и к констатированию полной зависимости Зигмунда от Вотана; Вотан, по ее мнению, придумавши выход при помощи “свободного героя”,– не более как хочет обмануть самого себя.
Разумеется, это аргументы решающие. Как и раньше, Вотан опять-таки хочет совместить несовместимое: отъединенное, индивидуальное, законное и нормированное бытие, с одной стороны, и страстное, экстатическое, свободно-творческое и героическое – с другой. Другими словами, он и здесь хочет совместить сладость индивидуальности с просторами Бездны. Раньше он кое-чего достиг: при помощи лжи и насилия он получил Вальгаллу. Но ему самому ясно, слишком ясно, что это – постройка на песке, на воде. И вот новый этап его самоутверждения – свободные герои. Однако, по диалектике Единого, это лишь дальнейшее дробление и распадение Единого, пребывающего тем не менее и именно по этому самому в абсолютном единстве. Как в системе Плотина, Единое, чтобы стать единым, делается многим, выходит из себя и проявляет себя в отдельных индивидуальностях, но все это, вся эта шумная и пестрая жизнь мира, есть не более как тишина и покой Абсолютного в себе самом. Зигмунд – это тот же Вотан, только менее значительный. Люди и их история – это те же боги с их зависимостью от Судьбы; на людях только виднее общемировая трагедия бытия; сущность их – героизм на лоне Бездны, или, точнее, сами они – вечно творческая Бездна в аспекте проявления ее и выхода из себя, в стадии “антитезиса”. К этому и сводятся аргументы Фрикки. Раз отъединенная индивидуальность, то и жизнь ее, напр. любовь и героизм, не может иметь уже характера экстатической перво-любви и перво-воли Бездны и Первоединого;
значит, любовь – в пределах нормированной семьи, а героизм – в пределах пространственно-временных установок. И если Вотан уповает спасти мир через такого героя, то это лишь повторение обычной для Вотана антиномии – индивидуальности и извечного Хаоса. И вот почему Вотан подчиняется Фрикке. Это он сам прекрасно понимает, объявляя Брингильде в следующей сцене:
О, как хитро
себя обманул я!
Легко было Фрикке
вскрыть эту ложь:
мой низкий стыд
прозрела она! –
И далее:
Желанье Фрикки –
закон для меня:
что пользы мне в личной воле?
Мне нельзя мечтать о свободном,–
итак, за рабство
бейся и ты!
Вторая сцена второго акта – объявление Вотаном своего нового решения Брингильде, которую сам же он создал для “помощи героям”. Встречает он ее мрачно:
В свои же сети
словлен я!
Всех меньше я свободен!
И на сожаления Брингильды:
Как мрачен ты стал!
Тебя не узнать!–
он отвечает величественно и скорбно:
Священный позор!
Позорнейший стон!
Скорбь богов!
Скорбь богов!
Гнев без границ!
Боль без конца!
Страданье мое беспримерно!
Конечно, нежное сожаленье и доводы Брингильды не могут помочь. Она сама говорит:
Ведь я же –
только воля твоя...
А Вотан эту-то волю и должен смирить. В конце концов, Вотан, поправши свою заветную мечту о свободном герое, с надрывом и показным гневом (показным не только для Брингильды, своей экстатической воли, но и вообще для себя самого) кричит:
Ах, дерзкая!
Споришь со мной?
Да кто ж ты, как не слепая
тень воли моей?
Иль, тебе доверясь,
стал я так слаб,
что моя же дочь
презирает меня? –
Знаешь ли ты мой гнев?
Смотри берегись,
чтоб он, разящий,
не пал вдруг на тебя!
В груди моей
сокрытая буря
повергнуть в прах
может весь мир,
что был когда-то мне люб!
Горе жертвам ее!
Плакать будут они!
И мой совет –
меня не гневи,
верши веленье мое!
Зигмунд кончен –
вот что закон для тебя!
Короткая третья сцена второго акта рисует героев-беглецов, нежную и скорбную чету, Зигмунда и Зиглинду. Зиглинда в видении узнает трагическую гибель Зигмунда и, обессиленная, без чувств падает на руки своего супруга-героя. В таком положении героев начинается четвертая сцена. Интересна эта интродукция “Todverkundigung” к четвертой сцене. Она начинается знаменитым “мотивом судьбы”, про который кто-то остроумно сказал, что три ноты, из которых он состоит, символизируют собою как бы начертание вопросительного знака. Это глубоко тонкое замечание прекрасно соответствует мистике судьбы в “Кольце”. Мотив этот совпадает с появлением Брингильды, носительницы на этот раз велений судьбы. Далее – Todverkundigungs-mot., и, когда она, “держа щит и копье в одной руке, опирается другой на шею коня и в такой позе с серьезным выражением лица взирает на Зигмунда”, проявляется опять блаженная явь и спокойное величие “мотива Вальгаллы”, как бы напоминание о том, ради какой мечты и какого спасения разыгрывается мировая трагедия и гибнут герои-люди. Четвертая сцена полна глубочайшего и захватывающего трагического лиризма. Брингильда, та самая, которая создана для помощи Зигмунду спасти богов и мир, она теперь принуждена вешать ему;
Я вещий вестник
светлой смерти:
кто встретил мой взор,
тот очи смежит навек...
Я – виденье бойцов
на поле брани:
видит меня герой,
избранный мной!
Она предвещает ему Вальгаллу, но он не хочет идти в нее без Зиглинды. Потом и сама Брингильда не в силах подчиняться Вотану, и она решает спасти во что бы то ни стало героев.
Пятая сцена второго акта – бой Зигмунда и Хундинга. Прочитаем интересные ремарки. Найдя друг друга, герои сходятся. Валькирия наводит сон на Зиглинду. чтобы спасти ее от ужаса. Когда Зиглинда с криком:
Я одна виновата!
Убейте меня! –
устремляется к горе, где должны встретиться герои, “яркий свет, прорвавшийся из мрака справа над бойцами, внезапно ослепляет ее, и она, ничего не видя, отшатывается в сторону. В сиянии этого света появляется Брингильда, парящая над Зигмундом и прикрывающая его своим щитом”. Она ободряет героя:
Бейся, Зигмунд!
Смело ударь!
“В тот момент, когда Зигмунд замахивается мечом, намереваясь нанести смертельный удар Хундингу, слева из туч прорывается красновато-огненный свет, в этом свете виден Вотан, стоящий над Хундингом и протянувший свое копье под удар Зигмунда”. Вот и грозный оклик Вотана:
Пади пред копьем!
В осколки твой меч!
“Брингильда со своим щитом в страхе отступает перед Вотаном. Меч Зигмунда разбивается о протянутое копье.
Хундинг ударом своего копья поражает в грудь оставшегося без оружия противника. Зигмунд падает мертвый. Зиглинда, слышавшая его смертный стон, с криком безжизненно опускается на землю. С падением Зигмунда свет с обеих сторон мгновенно исчезает; густая тьма туч окутывает сцену до переднего плана. Во мраке смутно видна Брингильда, вне себя спешащая к Зиглинде. Она быстро поднимает Зиглинду на своего коня, стоящего близ боковой расселины, и тотчас же исчезает с нею. Немедленно вслед за тем тучи разделяются посредине, так что ясно виден Хундинг, только вынувший свое копье из груди павшего Зигмунда. Вотан, окруженный тучами, стоит на скале позади Хундинга, опираясь на свое копье и горестно глядя на тело Зигмунда". “После некоторого молчания” он скорбно говорит Хундингу:
Ступай, раб!
Склонись к ногам Фрикки,–
скажи ей, что Вотан сам
ее обиду смыл...
Ступай! Ступай!
“От его презрительного мановения руки Хундинг падает мертвый”. Но вот он “внезапно приходит в страшную ярость” и со словами:
Но Брингильда!
Горе преступнице!
Тяжко она
искупит вину!–
За нею, конь мой, вослед! –
“исчезает в громе и молнии”.
Здесь перед нами вся вагнеровская философия жизни. Извечный Хаос и Бездна есть вечно неугомонное Творчество, Мощь и Экстаз. Таковы же и отдельные оформления, оттуда возникающие, и потому сущность человека – героизм. Но Бездна вся трепещет и живет противоречиями. И отдельный герой живет противоречием между творческим экстазом и тем пределом, который кладется ему его отъединенным бытием. Так и в душе Вотана – вся история человечества, мечущаяся от экстаза к закону и норме и от нормы к экстазу, вечно ищущая в порядке – нестройную бурю и страсть, а в самой страсти и преступлении вопиющая о норме и блаженном покое. Колебания и неустойчивость Вотана – это мы, бедные обитатели земли, и это наша то великая и грозная, то мелкая и жалкая “история человечества”. Брингильда, защищающая Зигмунда вопреки копью Вотана, это – сам Вотан, трагически раздвоенный между Хаосом и Законом, поскольку Валькирия – лишь его воля. Что же теперь Вотан-разум, Вотан-закон, Вотан-норма сделает с Брингильдой, т. е. с Вотаном-хаосом, Вотаном-экстазом, Вотаном-творческой мощью? Этому посвящен третий акт “Валькирии”.
Великолепна прежде всего первая сцена с ее знаменитым “Walkurenritt”. В смысле экстатических взлетов, божественной игры Хаоса с самим собою, красоты безумия и вселенских просторов страсти, силы, мощи, наслаждения и восторгов не было ничего подобного в предыдущей музыкальной литературе, да и в последующей Вагнер был превзойден разве только Скрябиным. В некоторой обработке это – всегдашнее наилучшее украшение концертной эстрады. В буре и громе приближается Вотан. Но не может же, в самом деле, Вотан всецело превратиться в “математическое естествознание” и внешний закон. И вот, его alter ego, Брингильда, спасает Зиглинду, предрекая ей рождение от нее нового героя. Она говорит ей:
Одно лишь знай,
одно запомни:
светлейший в мире герой
жизнью трепещет
в лоне твоем!
“Она достает из-под панциря осколки меча Зигмунда и передает их Зиглинде”, продолжая:
Храни для него
меча осколки,
их на месте боя
поднять я успела:
кто вновь взмахнет
воскресшим мечом,
тому я имя даю “Зигфрид” –
веселье побед!
Таким образом, если помнить, что Брингильда – только желание Вотана, то надо сказать, что Вотан, одною рукою казня Зигмунда и наказывая Брингильду, другою спасает порождение Зигмунда, будущего “светлейшего героя”, т. е. втайне все еще лелеет мечту о спасении мира. Для этого надо, однако, как-то сохранить и Брингильду. И если вторая сцена третьего акта – гнев Вотана к Брингильде, то третья (и последняя) – усыпление ее, своего творческого экстаза, чтобы потом разбудил ее герой, сильнейший Зигмунда.
Ясно наперед, в какой форме Вотан может гневаться на Брингильду. Вот образ этого гнева:
Твой грех – твоя казнь:
ты сама казнила себя!
Моею волей ты создана –
и отвергла волю мою;
ты вдохновляла
веленья мои –
и мои веленья презрела;
мой дух
был твоим –
и восстал он против меня;
твой щит
был моим –
и поднялся он на меня;
ты, знавшая
выбор мой.–
вопреки мне жребий решила;
ты, сзывавшая
мне бойцов.–
созвала их против меня же!
Чем ты была,–
сказал тебе Вотан,
чем стала ты.–
скажи себе сама! –
Мне ты больше не дочь!
Валькирией прежде была ты,
то впредь ты будешь
тем, что ты есть!
Это не обвинение, а просто лишь констатирование той антиномии, в которой живет сам Вотан, и последняя фраза указывает на то, что и в дальнейшем жизнь его будет та же, ибо творчество и экстаз Брингильды как раз и есть “то, что она есть”.
В последней сцене – конец столкновениям самоутвержденностей второй стадии мира и таинственный залог будущих утверждений. Вотан не может вечно гневаться на Брингильду, т. е. на самого себя. Он сам вдруг признается:
Ты совершила то,
что свершить и сам я мечтал,
но что рок двойной
не дал мне свершить.
Ты просто и легко
там вкусила блаженство,
где грудь мою пожирал огонь,
где я принужден был
злой судьбой –
из любви к вселенной
родник любви
заглушить в измученном сердце.
И там, где в тоске
я с собою боролся,
в бессильном гневе
рвался и падал,
где безнадежной
жаждой порыв
внушил мне ужасную мысль –
уничтожить мной созданный мир
и мои страданья с ним вместе,
там радость сердца
ты познала,
там умиленья
сладкий восторг,
смеясь, ты в чаще
любви жила,–
чтоб я, страждущий бог,
горькую желчь лишь вкушал.
И Вотан усыпляет Брингильду на высоком утесе, с тем чтобы будущий герой разбудил ее, эту уснувшую мощь Вотана, ко спасению.
Если я должен,
говорит он,
сердца отраду,–
твой радостный образ утратить,–
пусть брачный огонь
для тебя загорится,
какой для других не горел!
Море огня,
скалу окружив,
преградою грозной
робкому встанет:
на утес Брингильды
трус не взойдет!
Невесту взять
может лишь тот,
кто свободней, чем бог, твой отец!
Вотан прощается со своей волей, со своей славой, втайне надеясь опять на великого героя. Знаменитое “прощание Вотана” – одно из классических мест концертного репертуара.
О, звезды светлых очей,
что я так часто ласкал,–
когда твой взор
пылал отвагой
и детским лепетом
уст твоих
хвала героям лилась!
Лучезарный блеск этих глаз
мне часто в буре сверкал,–
когда надежды
томили мне сердце
и мир блаженно
обнять я жаждал
в тоске злой и безмерной...
В последний раз
свет ваш я пью,
прощальной лаской
целую вас!
Сияйте счастливцу,
звезды очей,–
а мне, вечному богу,
вы навеки померкли!..
Вотан зовет Логе на помощь. “Из камня вырывается огненный луч, постепенно разгорающийся в светлое пламя: вспыхивают ярко колеблющиеся волны огня. Буйные языки пламени окружают Вотана. Повелительным взмахом копья он указывает огненному морю крайнюю окружность горы, где оно должно разлиться”. Еще раз Огонь подчиняется вотановскому копью, чтобы быть материалом для подвигов героя. Наконец, Вотан в последних словах драмы формулирует всю сокровенную тайну героизма. Полным голосом раздается впервые в законченной форме Зигфридов “мотив меча”, на котором будут построены последующие драмы:
Кто знает страх
пред этим копьем,–
тот не пройдет
огня никогда!
Тут, наконец, выговорена последняя истина. Вотан и его копье – неразлучимы. Зигмунд не смог сломить копье Вотана. Его экстаз и его свобода, его творчество и его героизм рассыпались перед “договорами” Вотана и всем механистическим устройством бытия. Надо разбить самое копье, надо уничтожить не преграды в механистически устроенном бытии, а надо уничтожить самый этот мир, самый принцип “закона основания”. Вотан наконец и договаривает эту истину до последней ясности. Надо разбить копье;поэтому и вызваны опять Бездна и Огонь, ибо только тот, кто сам проникает в Бездну и через Огонь, может разбить копье Вотана и уничтожить “блестящее покрывало Майи” пространственно-временных оформлений бытия.
На этом кончается “Валькирия” и вместе с нею и второй период мировой трагедии. Раньше была воздвигнута Вальгалла на берегу бурного и безбрежного океана Огня и Хаоса. Потом выяснилось, что это строение будет разрушено, если не войти в соглашение с самим океаном Хаоса. Но Хаос не может терпеть никаких компромиссов. Созданный было заново мир и Вальгалла должны опять выбирать – или море Первобытно-Единого Хаоса, или строение на песчаном, размываемом берегу. Пока что выбран последний путь. Но ведь это же не решение вопроса. Это возвращает нас опять к исходному моменту мировой антиномии. Не испробовать ли первый путь? Это значило бы разбить копье Вотана. Однако что же за этим? За этим – выбор послушания Хаосу и слияние с ним, а Вальгалле – блаженному просветлению Хаоса в вечную плоть красоты и любви и воплощению отвлеченного разума в благоухающее сияние просветленной вечности,– этой Вальгалле все-таки не бывать.
И вот открывается третий и последний период всемирно-божественной трагедии – трагедии героя, разбивающего копье Вотана. Этому посвящены две последние драмы тетралогии – “Зигфрид” и “Гибель богов”.
Лосев (VII) Разбор второго дня (“Зигфрид”)
VII
На этот раз “самоутверждению” отведена целая драма “Зигфрид”, равно как и трагедии этого “самоутверждения”, и вместе последней стадии всей мировой трагедии тоже целая драма – “Гибель богов”.
Вагнер затратил громадный первый акт целиком, чтобы изобразить величие и силу своего нового героя – Зигфрида. И то это еще не подвиги, а только подготовка к ним. В первой сцене, изображающей “скалистую пещеру в лесу”, фигурирует Миме, бывший подневольный Альбериха, теперь тоже мечтающий о приобретении Кольца и власти над миром. У него некогда приютилась Зиглинда, умершая при родах. Оставшегося на его руках Зигфрида он воспитывает с целью использовать для борьбы с Фафнером, великаном, теперь чудовищным змеем, лежащим на полученных им у Вотана богатствах. Зигфрид питает одно лишь презрение к Миме, несмотря на все старания хитрого урода-горбуна. В конце концов, он выведывает у него, кто была его мать, и заставляет его сковать ему оставленные Зиглиндой осколки меча Нотунга.
Как я счастлив, что свободен,
я не связан ничем!
Отцом ты не был мне,
я вдали найду свой дом;
мой кров тебя не крыл,
твой очаг мне вовсе чужд!
Я, как рыбка на свободе,
я, как зяблик беззаботный,–
прочь уплыву, вдаль улечу,–
через лес унесусь я, словно вихрь,–
ты, Миме, не встретишь меня!
Зигфрид весь – буря, порыв, мощь и сила. Он – “в диком лесном одеянии”, он – в дружбе со зверями. Он в куски разбивает мечи, которые с громадным трудом кует ему Миме. Он не знает никаких законов и норм; он – светлое и стихийное дитя природы. Он весь – как сталь, он – сила и бодрость, героизм и свобода.
Во второй сцене появляется Странник (Вотан). “Он в длинном темно-синем плаще; в виде посоха он держит копье. На голове у него – широкополая круглая шляпа с низко надвинутым на недостающий глаз полем”. Миме неохотно встречает его, узнавая из задаваемых им загадок ему, что он – Вотан. Вотан говорит ему о том, как Альберих замыслил завладеть миром, как золото и кольцо попали к Фафнеру, который, став змеем, ныне хранит клад, лежа на нем, как боги живут в Вальгалле и Вотан при помощи копья правит миром.
Из святой ветви Ясеня мира
создал Вотан копье;
сохнет ствол,– древка мощь не прейдет!
Копьем могучим бог держит весь мир.
Руны святых договоров веры
врезал он в древко сам.
Над миром власть примет тот,
кто возьмет жезл, что Вотан сжал в руке.
Пред ним склонился Нибелунгов род;
ему великаны дань принесли.
Всех покорил себе властно
копья могучий царь!
Все это хорошо и давно знакомые нам мысли и концепции. С другой стороны, Вотан предсказывает Миме его близкую гибель, ибо он – трус:
Знай, змея храбрый противник,
знай, погибший гном:
тот лишь, кто страху
вовсе чужд,–
Нотунг вновь скует!
И далее:
Итак, мудрец, шкуру спасай:
ее дарю я тому,
кто не знает, что значит страх!
В третьей сцене Зигфрид сам кует себе меч из осколков, завещанных матерью. Вагнер не пожалел здесь ни музыкальных, ни драматических средств для изображения юного богатыря. Смешон и жалок перед ним Миме. Вот эта дикая воля стихии-богатыря, кующего себе гигантский меч:
Нотунг! Нотунг! Доблестный меч!
Зачем же ты разбился? –
В песок растер я
твой острый блеск,–
плавильник топит опилки.
Хо-хо! Хо-хо! Хо-хей!
Хо-хей! Хо-хо!
Мех, дыши! Жар раскаляй!–
В дикой чаще ясень рос,
его я в лесу свалил.
И сжег я в уголь дерева ствол,–
в огне вот груда лежит.
Xo-xo! Xo-xo! Хо-хей!
Хо-хей! Xo-xo!
Мех, дыши! Жар раскаляй! –
Как славно угли горят и жгут,
как ярок красный жар!
Вот прыгают искры, брызжут кругом!
Хо-хей, хо-хо, хо-хей!
Опилки мои текут!
Хо-хо! Хо-хо! Хо-хей!
Хо-хей! Хо-хо!
Мех, дыши!
Жар раскаляй!
Жалок и смешон тут Миме, карикатура героя, замышлявший навести на Зигфрида страх перед змеем. Ему остается только коварство и преступленье, и он варит отраву для Зигфрида, уже воображая себя властелином мира. Горбатый и отвратительный, урод по телу и душе, он уже весь во власти своей дикой мечты:
Перстенек золотой, что брат мой сковал,–
тот перстенек, таящий властную мощь,
кружок блестящий, господства знак,–
мне, мне он достался, я взял его!
Альберих сам, мой гордый брат,
рабом дрожащим будет моим;
спущусь я царем в темные шахты,–
меня признает весь народ.
И презреннейший гном как будет почтен! –
К золотым струям жмутся бог и герой!
Мой гнев внушает трепет и дрожь,
к моим ногам все падает ниц!
Второй акт содержит ряд основных моментов самоутверждения героя. В первой сцене Вотан подтверждает злому Альбериху, что ни он, Вотан, не добивается Кольца, ни юный герой о нем ничего еще не знает, так что единственным соперником Альбериха является Миме. Сцена эта важна покорностью Вотана перед Судьбой. Теперь он уже понял:
Все идет своим путем,–
судьбы ты не изменишь.
И победы героя уже не вернут ему веры в себя; его ждет все равно гибель. Во второй сцене Миме приводит Зигфрида с целью вызвать в нем “страх”, вернее, чтобы в пылу подвигов надежнее напоить его ядом. Зигфрид без труда убивает змея Фафнера, причем последний, умирая, предупреждает его о грозящей опасности. Интересна в конце мистически-мифологическая деталь подготовки героя к дальнейшим подвигам. Слизывая с руки кровь, капавшую на нее после того, как он вынул меч из груди змея, он вдруг получает тайное знание и способность понимать лесных птиц.
Как пламя, жгуча кровь!
Может ли быть?
Ведь птички со мной говорят!..
Змея ли кровь
открыла мой слух?
Та птичка снова здесь,–
чу! Что поет она?
Герой приобщается к тайнам земли. Вкусивши крови змея, т. е. приобщившись к земной тяжести и мощи, к тайне всего плотного и плотского, материального, биологического, вкусивши гущи инстинкта и темной животной утробы, Зигфрид делается знающим. С ним говорит весь лес и природа. Лесные птицы говорят ему о тайнах бытия и о его героическом назначении. “Waldweben” Вагнера это – славословие эротическому инстинкту, зуд и щекотание надвигающейся тайны сладкого и страшного, видение сквозь божественно-плотское одержание, мучительно-сладкое прозрение сквозь муть и Хаос животных экстазов. “Голос лесной птички” открывает ему его будущие подвиги, и отныне он всецело на лоне ликующей, свободной, экстатической божественной природы. Вот первое предуведомление:
Гей! Зигфрид властителем золота стал!
О, если б в пещере нашел он клад!
В шлеме волшебном он мог бы
блаженно творить чудеса;
но если кольцо изберет он,
то будет всем миром владеть!
Спуском Зигфрида в пещеру и кончается сцена. В третьей сцене – после смешной перебранки маленьких и злых созданий, Альбериха и Миме,– появляется Зигфрид, который, ведомый все тем же таинственным голосом птички, убивает наконец Миме, пришедшего было к нему со своим питьем. Теперь остается ему последний подвиг. О нем он тоже слышит зов все той же птицы:
Гей! Зигфрид убил уж лихого врага!
Он друга найдет в чудесной жене,
что спит на горной скале!
Пламя вершину хранит!
Пройди сквозь огонь, деву буди,–
Брингильда будет твоя!
Уже тут Зигфрида начинает наполнять экстаз и восторг:
О, нежный вздох! Сладкая песнь!
Как жжет она истомой мне грудь!
Огнем чудесным дух мой горит!–
Что в сердце и кровь мне вдруг проникло?
Что это, что? – Скажи!
И он слышит свою новую тайну и свое последнее героическое восполнение:
Голос любви, сладкие слезы:
дивная больв песне моей!
Кто любит, поймет мой призыв!
Так рождается герой – последняя мечта и надежда, которую, скрывая от себя и обманывая себя, продолжает питать Вотан. В первой сцене третьего акта явившаяся Эрда мало утешает Вотана. Тут-то и вскрывается глубочайшая тайна мира и вместе разгадка его трагедии. Вотану все хочется узнать, “как у прялки сдержать колесо”, как задержать веления Судьбы. Но один ответ возможен на основании этой сцены. Сама Бездна есть противоречие, само Первоединое исходит в самопротиворечии, которое и есть его жизнь. Результатом этого самопротиворечия и является мир, пестрый мир с его богами и людьми, с его радостями и горем, с его бесплодными надеждами и устремлениями, с его безысходной трагедией и бесцельностью. Эрда отвечает на зов Вотана:
Я слышу песнь... Зов чарует властно...
От вещих грез проснулся мой дух:
кто сон встревожил мой?
Это значит, что сама Бездна вожделеет к оформлению, как равно после самопорождения так же вожделеет к самоуничтожению. Вернее, мир, люди и боги, все бытие и его жизнь и есть не что иное, как вечное самопорождение и самопожирание Бездны без цели и смысла. И далее Эрда говорит о том же:
Мужей деянья
туманят мысль мою...
И вместо себя она велит Вотану спросить не кого иного, как Брингильду:
Всезнающий дух пленен властителем был...
И дочь – радость родила я богу:
героев сонм набирать он велел ей.
Дочь Валы,– она мудра.
Оставь меня – совет подаст тебе
Эрды и Вотана дочь!
Это значит, что назначение Вотана – остаться самим собой до конца. Он пожелал отъединиться от Бездны, стремясь сохранить полноту ее бытия. Пусть же теперь для решения вопроса о том, “как у прялки (судьбы) сдержать колесо”, обратится к Брингильде, т. е. пусть даст полную волю своему индивидуально оформленному героизму. Это и будет кратчайшим путем “избежания” Судьбы. В высшем смысле это значит, что Бездна, вожделевшая такими оформлениями, как Вотан в лице творческой, т. е., наиболее индивидуально оформленной, его стихии, должна прийти и к свершению своей диалектики противоречий, т. е. к самопожиранию. Вот эта диалектика Первоединого в двух словах:
Э р д а.
Зачем ты, дикий упрямец,
нарушил всезнанья сон?
В о т а н.
Сама ты – уже не та!
Всезнанье Валы иссякает.
Погаснет оно моею волей!
Сам Вотан решил стать индивидуальностью; это значит, что Первоединое само вожделеет такими оформлениями, как Вотан. Но и умереть он решил сам, предоставляя жизнь Зигфриду; это значит, что Первоединое, вечно творя, в судорогах противоречия умерщвляет себя самое по своей собственной воле: рождает, чтобы пожрать, и надеется на героя, т. е. на спасение, зная гибель всего и зная, что все само же поглотит. Эта антиномия прекрасно дана в последнем (в этой сцене) монологе Вотана. Но вторая сцена – встреча Зигфрида со странником – Вотаном – последнее напряжение этой антиномии. Здесь, около утеса, окруженного огнем, где спит Брингильда, встречаются тезис и антитезис антиномии – копье Вотана, смысл и закон оформленного мира, и меч Зигфрида – смысл и орудие экстатического самоутверждения отъединенной индивидуальности. Вотан – угрюм и величествен; Зигфрид – наивен, своеволен, стихиен и безразличен ко всему, кроме себя. У Вотана – страх перед подвигом Зигфрида. Он ему слабо противопоставляет свой “гнев”, т. е. копье, механизм, удушивший когда-то свободу и жизнь Зигмунда. Он говорит Зигфриду:
Знай ты меня, мой герой,–
мне брани ты б не кидал...
Сердце мое ты терзаешь так больно...
Но если мил мне твой светлый род,–
все же страшит его пылкий мой гнев! –
О, мой любимец! Всепрекрасный!
Бойся вызвать мой гнев:
он погубит тебя и, меня!
Конечно, наивному и дикому Зигфриду все это кажется пустяками. Сам Вотан ведь создал его “незнающим”, “свободным от договоров”. Не трогают, а, наоборот, озлобляют Зигфрида и такие слова Вотана:
Тот, кто от сна невесту разбудит,–
власть мою уничтожит,
И вот, последнее напряжение антиномии и вместе – катастрофический переход ее в полное самоутверждение героя. А именно, Вотану, как раз и замыслившему героя более сильного, чем его копье, остается протянуть это копье навстречу мечу Зигфрида. Он говорит:
Пламя не страшно тебе,–
так путь твой копье преградит!
Еще в руке всю власть держу:
об это копье твой меч уж был разбит!
Разбейся он еще раз о вечный жезл!
И Вотан простирает копье перед собой. Антиномия поставлена. Зигфрид, извлекая меч, высказывает эту антиномию:
Так отец мой пал жертвой твоей?
Мщенью навстречу ты вышел сам!
Злобу копья сломи, мой мстительный меч!
И тут разрешает эту антиномию. “Одним ударом он разрубает надвое копье странника: из его обломков вылетает молния, ударяясь в вершину утеса; с этого момента сияние на горе, дотоле слабое, начинает пылать огненными языками все ярче и ярче. Удар молнии сопровождается сильным громом, быстро утихающим. Обломки копья катятся к ногам странника. Он спокойно подбирает их”. Так свершается великое чудо. Нашелся герой, преодолевший пространство и время и экстазом творческой мощи сломивший механизм “принципа индивидуации” и “закона основания”! Вотан при звуках “мотива Эрды и гибели богов” исчезает со словами: “Иди! Я должен исчезнуть!” (в подлиннике: “Zieh' hih! Ich kann dich nicht halten!”).
И в третьей сцене – пробуждение Брингильды. Брингильда – спящее желание и сонная воля Вотана. Что значит спящая и сонная? Это значит, что Вотан держит себя и мир механистическим отъединением от Первоединого и взаимным разъединением этих отъединенностей. В таком положении он только и может предвидеть свою погибель. Но как только загорается огонь подлинного творчества и экстаза,– Вотан, да и все живое забывает “договоры”. Помнить “договоры” – значит не действовать, значит быть механизмом. А действовать – значит быть безумным и “свободным от договоров”, быть Хаосом и страстью, как и само Первоединое. Зигфрид проходит Огонь. Само-то копье Вотана держалось только Огнем, или, вернее, копье – один из бесконечных капризов противоречивой стихии Огня, пожелавшего вдруг оформиться в механистическую индивидуальность. Вот почему когда копье было разбито, то из него вышел опять-таки Огонь, соединившись с тем, который окружал Брингильду. Зигфрид будит Брингильду. Но для этого надо преодолеть Огонь, т. е. надо стать самому Огнем. Им и становится Зигфрид;
Пламень волшебный сердце мне жжет,
трепетный жар мысли туманит:
в глазах все ходит кругом!..
И немного далее:
Сквозь жгучее пламя шел я к тебе
и тела броней себе не прикрыл:
и вот огонь мне в сердце проник...
Цветущий пыл бушует в крови,–
я весь загорелся пламенем жадным:
тот жар, что твой утес окружал,
пылает в моей груди!
Брингильда, просыпаясь, сначала еще таит и сонность, т. е. неспособность творить, и, следовательно, знание о будущей гибели. Это – сам Вотан, воля которого, усыпленная механизмом и зная свою отъединенность, страшится действовать. Брингильда говорит Зигфриду:
Ты будешь мудр знаньем моим,
но знанье мне дано –
только любовью!
О, Зигфрид, Зигфрид! Жизни весна!
Тебя всегда я любила!
Ведь только мне открылась Вотана греза,–
то светлое, что назвать я не смела,
что я постигла трепетом сердца,
за что я бога волю отвергла,
за что страдала, казнь понесла,–
не дерзая мыслить и лишь любя!
Да, в этой грезе,– о, если б ты понял! –
я только любила тебя!
И даже более того. Она еще не потеряла предвидения будущей гибели мира, и перед страстным героем, новым богом и новым миром она все еще помнит веление Судьбы:
Горестным мраком взор мой смущен...
Мой день темнеет, мой свет померк...
Ночь и туман! Из черных глубин
вьется и близится тайный страх...
Ужас дикий встает и растет!
Но – такова жизнь язычества! – после этих предчувствий она “в величайшем возбуждении” бросается к Зигфриду. “Мотив проклятия”, сопровождающий трагическое провидение Брингильды, еще и еще раз подчеркивает, что мир и бытие – прокляты, что Бездна и Хаос – проклятие бытия. Но воля Зигфрида побеждает знание Брингильды, и она делается именно тою, какой замыслил ее Вотан, желавший огнем своего творчества спасти мир. Вот замкнутая индивидуальность, преодолевшая земную форму, пространственно-временное оформление, начинает приобщаться Хаосу и приобретает его свойства, становясь клокочущей Бездной экстаза и вечного самопорождения.
Дивный покой бушует, как буря:
девственный свет страстно пылает,
разум небесный бросил меня,–
знанье изгнал любовный восторг!
Твоя ль теперь?
Зигфрид! Зигфрид! О, погляди!
Ты, мой взор увидав, еще не ослеп?
Ты, коснувшись меня, еще не сгорел?
Ведь вся кровь моя устремилась к тебе,–
ты слышишь ли, Зигфрид, этот огонь?
Разве не стало страшно тебе
пред дико-страстной женой?!
Но тут же и последний аккорд самоутверждения, которому посвящена вся драма “Зигфрид”. Вотан выбирает наконец в лице Зигфрида обручение с Бездной, подобно тому как раньше в лице Зигмунда предпочел копье и оформленный мир. В экстазе Зигфрида и Брингильды погибает и мир, и Вальгалла. Возвращение к Бездне, гибель мира, любовь и экстаз соединяются воедино. Таков новый герой. “Смеясь в дикой радости”, Брингильда выкрикивает:
О, юный герой! О, мальчик прекрасный!
Святых деяний чистый родник!
Я смеюсь нашей страсти!
Я смеюсь ослепленью!
В смехе дай нам погибнуть,
со смехом в Ничто уйти!
Умри, светлый Вальгаллы мир!
Пади во прах твой надменный зал!
Прощайте, блеск и краса богов!
Род бессмертных, блаженно почий!
Порвите, норны, священную нить!
Встань, заря заката богов!
Гибели ночь, на землю спустись!
Мне Зигфрида ныне светит звезда!
Он мой всегда, он мой навек,
в нем свет и жизнь,– Одно и Все:
страсти сияние, смерти восторг!
(В подлиннике:
Ein und All;
leuchtende Liebe,
lachender Todt.)
Через дикую волю и наслаждение инстинкта природы, через знание животных тайн божественной плоти при посредстве змеиной крови, через откровение голосов природного бытия и эротического восторга созерцания природы, через попрание и уничтожение слабейших, через творческий экстаз, выводящий за пределы пространственно-временных оформлений, через последнее напряжение любви и страсти и приобщение к Бездне и Первоединому, через узрение в любви и смерти – единства, в Бездне и Хаосе – вечной ночи противоречий, в любви, смерти, жизни и Хаосе – Ничто, Одного и Всего,– через все это родился новый, светлейший герой.
Какова его судьба? Неужели и он не спасет мира? Но тогда почему? Кто же вообще тогда может спасти? – На все эти вопросы отвечает последняя драма тетралогии – “Гибель богов”.
Эвальд Ильенков. Заметки о Вагнере
В архиве Э. В. Ильенкова обнаружены разнообразные материалы, посвященные творчеству Р. Вагнера — композитора и мыслителя. Для данного издания подобраны три небольших фрагмента, написанных в разные годы и представляющих, как нам кажется, определенный интерес не только для специалистов — исследователей вагнеровского наследия, но и для более широкого круга читателей. Заметки публикуются впервые.
Источник: Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал: избранные статьи по философии и эстетике. М.: "Искусство", 1984. С. 333-343. http://caute.ru/ilyenkov/texts/iki/index.html
Обыкновенно Вагнера представляют себе как автора ярких, блистательно оркестрованных симфонических эпизодов— полета валькирий, заклинания огня, шороха леса и т. п. поражающе красочных картин. Это представление складывается совершенно естественно у всякого, кто знакомится с творчеством Вагнера по концертам, по радиопередачам, особенно по нашим, да еще подкрепляется комментариями наших музыковедов, ссылающихся к тому же на такие авторитеты, как Чайковский. Тот, как известно, видел в Вагнере непревзойденного мастера оркестровки, а все остальное в его творчестве считал скучным, неинтересным и бесперспективным—продуктом схоластического мудрствования. Вагнер-де варварски относился к человеческому голосу, к вокальным партиям, в итоге разрушил естественные оперные формы в угоду своим нелепым теориям о “синтезе искусств” в музыкальной драме, — теориям, которые, по мнению искусствоведов, оказались нежизнеспособными и не оправдались в практике дальнейшего развития искусства и только мешали-де самому Вагнеру полностью реализовать свой талант оперного композитора.
Это представление и связанные с ним музыковедческие рассуждения имеют очень мало общего с действительным Вагнером, с сущностью его искусства и со всем тем, что он на самом деле натворил в практике и теории. Оно столь же односторонне, глупо и ничего не объясняет, как, например, представление о Льве Толстом как о писателе, который очень умело изображал сцены охоты, русские пейзажи и батальные сцены... и ничего более.
Такое представление хотя и не неверно (мастером оркестровки и контрапункта он действительно был непревзойденным, и достижения его в этом плане повлияли на всю мировую музыку настолько, что всегда сразу можно сказать: это написано до Вагнера, а это— после него; в этом смысле Вагнер—такой же рубеж в развитии мировой музыки, как и Бах), но самого главного оно в нем не отражает. И чтобы вообще быть в состоянии правильно воспринимать его музыку, от такого представления надо отказаться раз и навсегда. Иначе девяносто процентов его музыки вообще пройдет мимо ушей и, слушая его драму, человек будет скучать, томиться и ждать: когда же наконец кончатся речитативы и начнется симфонический эпизод. А чисто симфонических эпизодов у него не так уж и много—они почти все заиграны в концертах и надоели.
На самом деле “теории”, реализованные в его творчестве, вовсе не были результатом схоластического мудрствования. Сами по себе они — очень естественный и очень яркий рефлекс эпохи. Притом эпохи весьма серьезной и содержательной. К тому же дело обстояло совсем не так, будто Вагнер сначала придумывал теорию, а затем реализовывал ее в музыке и текстах своих трагедий. Его теории просто были очень четким и острым выражением того, что он делал в качестве поэта и композитора. Но объяснять его творчество только его теориями никак нельзя. И то и другое объясняется совсем другой системой фактов — той самой действительностью, к которой был органически слеп и Чайковский и многие профессиональные музыковеды.
Наиболее умные из писавших о нем (Р. Роллан, Т. Манн, Б. Шоу) видели в нем совсем другое. Есть даже совсем противоположный, по сравнению с узкомузыковедческим, крен в его понимании—когда его рассматривали прежде всего как философа. “Философия жизни” считала его своим предтечей. Экзистенциалисты на каждом шагу цитируют его стихи; фрейдисты видели в нем художественно высказанный гениальный психоанализ; сторонники Шопенгауэра—художественного интерпретатора его философии, и пр. И все это в нем, по-видимому, действительно есть. Не случайно на Западе о Вагнере-философе написано больше, чем о Вагнере-музыканте, причем о философе не меньше, чем о Гегеле.
При всем том сам он как теоретик написал почти столько же, сколько Гегель и, уж во всяком случае, больше, чем Фейербах и Шопенгауэр. И это само по себе представляет большой интерес.
Но ясно, что его музыкальные трагедии интереснее и богаче, чем то, что он написал в качестве теоретика и философа.
Такой иронический ум, как Б. Шоу, без всякой иронии, на полном серьезе, ставит его рядом с Марксом — по всемирно-историческому смыслу и значению его творчества. Он говорил, что Вагнер в качестве художника доказал человечеству то же самое, что сделал Маркс в качестве теоретика, а именно: не больше не меньше, чем закономерность крушения цивилизации, основанной на власти золота, на базе товарно-денежных отношений. Он-де показал абсолютную неизбежность ее внутреннего разложения, логику этого разложения, однако не с помощью строгих понятий, а с помощью столь же строгих по своей необходимости чувственно-эмоциональных образов, их движением, их эволюцией, их развитием, совершающимся через столкновения, как внешние, так и внутренние — психологические.
Ставить или не ставить Вагнера рядом с Марксом по его действительному историческому вкладу—решение этого вопроса мы оставляем на совести английского драматурга, но вернее Шоу, по-моему, никто не указал на действительный ключ к пониманию всего его творчества. И не только “Кольца”, где это выступает прямо и даже разъясняется словами, текстом, но и таких вещей, как “Тристан и Изольда”.
(Кстати, забавный факт. Один из биографов Шоу познакомился с ним в библиотеке Британского музея так: он обратил внимание на странного человека, который изо дня в день изучал параллельно два фолианта: “Капитал” и партитуру “Тристана”...)
Вагнер действительно в своём художественном творчестве решал своими средствами те же самые проблемы и антиномии, которые разрывали Европу XIX века и по-разному выражались в разных сферах сознания, теоретической и художественной культуры. То есть почвой, на которой вырос Вагнер, были события действительно всемирно-исторического значения: буржуазное преобразование экономических, политических и т. п. условий жизни человеческого индивидуума, с учетом тех перспектив, которые это преобразование прорисовывает для этого индивидуума.
На протяжении всей своей жизни Вагнер разделял все главные иллюзии этого процесса, придавая им предельно острое художественное выражение, переживая последовательно крах этих иллюзий, ища новые точки опоры и приходя к новым иллюзиям.
Поэтому его творчество оказалось своеобразной “Феноменологией духа” всего XIX века — процессом последовательной смены одних состояний этого духа другими, причем каждое из этих состояний есть не что иное, как предельно остро обобщенный и крайне типичный способ мироощущения человеческого индивидуума, втянутого в мясорубку буржуазно-капиталистического преобразования всех отношений между людьми.
При этом Вагнер все эти стадии пережил личностно, пытаясь каждый раз дать себе строго рациональный отчет в том, что происходит. Делая это, он все время обращался к самым значительным философским системам своего времени. Миновал он только марксизм. Левогегельянство (Д. Штраус), Фейербах. Штирнер в бакунинской редакции, в сочетании с “истинным социализмом”, с Руге и Гессом, затем — Шопенгауэр в сплаве с кое-какими идеями Ницше и, наконец, —как финал и тупик этой линии развития — соединение буддизма с христианством. Человеком он был весьма импульсивным и увлекающимся и разделял все эти способы мироощущения и миропонимания целиком и полностью.
На этой почве и вырос весь грандиозно сложный вокально-оркестровый язык Вагнера с его совершенно потрясающей внутренней напряженностью—тот самый аппарат средств выражения, о котором Р. Роллан говорил, что он “заряжен миллиардами вольт”. Весь его трагически-исторический пафос, который то разражается громами и молниями невероятной силы, то сразу же после разряда энергии стихает в состоянии полного безволия и беспросветного уныния и всегда в конце концов разрешается в смерть, как в некое единственно блаженное состояние, как в идеал состояния духа, где царит абсолютное молчание, абсолютный покой и мрак—Мировая Ночь в “Тристане”.
Поэтому вся система его образов движется между предельно контрастными полюсами, а самая типичная форма развития музыкальной ткани—это постепенное нарастание звуковой напряженности ритмов, интонаций, сложности оркестровой ткани, неустойчивости гармонических отношений, контрапунктических контрастов и пр.. — постоянное нагнетание до предела и дальше всякого предела... Кажется, все доведено до предела напряжения нервов, восприятия слушателя, даже просто его барабанных перепонок. Но нет: Вагнер находит способы еще более увеличивать напряжение, еще болезненнее взвинчивать нервы — не громкостью и мощью медной группы, так трагизмом текста, не остротой оркестровки, так ритмами, и т. д. и т. п. Это та самая его “неумеренность” в средствах выражения и выразительности, которую часто обзывали “безвкусицей”, пренебрежением ко всем правилам “нормального” человеческого восприятия и пр.. и пр., гигантоманией...
И все это нарастает, нарастает и нарастает, чтобы в конце концов с грохотом низвергнуться в бездну, в безмолвие, в небытие... По дороге, правда, он делает остановки, дает отдохнуть на островках безмятежного счастья, но при этом все время напоминает, что это только минутная остановка на пути к еще более грандиозным ураганам, то дающим о себе знать где-то на заднем плане зловещими тембрами, то глухими ритмами в басах, которые расходятся с плавно льющимися верхами и пр.,— в общем, всегда находит тысячи способов, так сказать, “отразить” ощущение покоя и уравновешенности...
Музыкально, например, весь “Тристан” построен совершенно намеренно (это показывает формальный анализ его музыкальной ткани с точки зрения школьных, азбучных принципов гармонии) как постоянное накопление гармонической “неустойчивости” звучания. Есть жесткие формальные законы соединения звуков, по своей строгости подобные учению о модусах силлогизмов; на них-то и основывается вся система так называемого “ладового звучания”—до мажор, си минор, ля-бемоль мажор и т. д. Любая мелодия может быть отнесена путем чисто формального анализа к одной из тональностей. При этом переход из одной тональности в другую происходит опять-таки по жестким правилам. Они достаточно абстрактны, чтобы давать простор самым разнообразным сочетаниям, но в то же время достаточно определенны, чтобы категорически запрещать, как нечто абсолютно антиэстетическое, некоторые способы соединения мелодии с аккордовым сопровождением, или два последовательно звучащих аккорда, или две мелодии в контрапункте. Эти правила говорят о том, что звучания, построенные по определенному принципу, “естественно” тяготеют к определенным же другим звучаниям и, наоборот, активно “отталкивают” неродственные им созвучия. По этим правилам известные звуковые комплексы “разрешаются” в другие. В “Тристане” Вагнер намеренно не дает музыкальной ткани “разрешиться” в такой аккорд, который создавал бы впечатление “законченности”, “завершенности” музыкальной фразы. Мелодически-гармоническая структура, кажется, вот-вот готова разрешиться по формальному правилу в спокойный, завершающий аккорд, который звучал бы как точка в конце фразы. Но вдруг музыка делает какой-то на первый взгляд совершенно неожиданный и капризный поворот, никак не объяснимый с точки зрения строго формальных правил перехода из одной тональности в другую, — и звучание делается снова неустойчивым, требующим какого-то другого завершения. В итоге вся музыка “Тристана” оказывается с точки зрения школьных правил сочетания тональностей каким-то грандиозным парадоксом. Рассечению на ладовые элементы она явно не поддается. Чайковский обозвал за это музыку “Тристана” “пакостными хроматизмами”... “Тристан” и на самом деле ломает всю ладовую, тональную систему построения музыкальной ткани. Это — первое сочинение так называемой “атональной” музыки. Но здесь это не каприз, а выражение сознательно реализуемого замысла. И только в финале, в знаменитой “Смерти Изольды”, Вагнер дает музыке разрешиться в долгожданный “спокойный” аккорд. Тот самый аккорд, наступить которому как бы “мешали” всевозможные препятствия, лежащие вне формальной структуры музыкальной ткани — то это внешний поворот событий, то “капризный”, но эмоционально оправданный изгиб в настроении действующих лиц, то контрастное столкновение таких настроений... В итоге с точки зрения формальной это — фатальный парадокс, а с точки зрения более широкой — как раз наоборот. Р. Роллан, например, категорически оценивает “Тристана” как самое высокое и правдивое выражение, которое мировое искусство сумело найти такой теме, как любовь....
Теперь, после этих предварительных соображений, коротко о том, что такое “Кольцо нибелунга”. В творчестве Вагнера — это средоточие всех его художественных и теоретических принципов, дело всей его жизни. Писал он его двадцать шесть лет, а вынашивал — еще дольше.
По внешней, сюжетно-образной канве—это попытка свести воедино всю северногерманскую мифологию (вовсе не только “немецкую”), выявить ее художественно-образный смысл. Но почему именно “миф”? На этот счет у Вагнера были самые продуманные соображения. Дело в том, что весь пафос его творчества питался той самой старинной иллюзией, которую разделяли многие великие художники, в том числе Л. Толстой. Заключается эта иллюзия в том, что будто бы средствами искусства можно переделать мир. Не мир в смысле “вселенной”, а мир человеческих взаимоотношений: стоит только преобразовать психологию современников, перестроить систему их нравственно-эстетических принципов — и они изменят и внешние отношения друг к другу...
Но для этого-де нужно воздействовать на самые глубинные корни всей многообразно разветвленной психологии. Мифология, по Вагнеру, — это и есть как раз такая форма сознания, в которой в течение столетий, и даже тысячелетий, откристаллизовывались самые общие принципы видения мира, характерные для “народа в целом”. В виде мифа народ-де и дистиллирует, очищая от всего несущественного, случайного, преходящего, временного, самую суть своего самосознания. Поэтому миф — это концентрат, квинтэссенция народного самосознания, а тем самым—и сознания мира миропонимания. В мифе, в системе мифологических образов, поэтому и выражена-де “сущность мира”, как ее понимает народ, те идеалы или образы, которые народ стихийно стремится претворить в жизнь.
Все “Кольцо нибелунга” поэтому разрастается вокруг образа Зигфрида. Зигфрид—это тот человек, которого все мы жаждем, говорил Вагнер в 40—50-е годы XIX века, то есть в те годы, когда замысел у него уже созрел и композитор приступил к его осуществлению. В нем сосредоточен весь состав высшего идеала современности. Зигфрид—это существо, лишенное страха, страданий, чуждое педантической рефлексии, обессиливающей волю; это существо, у которого слово непосредственно сливается с делом, с действием и т. д.,—короче говоря, это тот самый тип индивидуальности, который призван освободить современный мир от страданий, от зла. от нищеты и от прочих бед. Это—та самая индивидуальность, которая свободно осуществляет природу человека вообще— ту самую природу человека, о которой столь много говорил Фейербах. В образе Зигфрида этот смысл видел не только Вагнер. В нем нашла готовое образное оформление своих идеалов и устремлений вся немецкая революционная демократия 40-х годов XIX века. Это была готовая “эстетическая иллюзия”, в форме которой буржуазный радикализм той эпохи возвеличивал в своем воображении совершенно реальные задачи, те самые задачи, которые пыталась разрешить революция 1848 года...
В начале 40-х годов мысль сочинить иносказательную трагикомедию, главным героем которой был бы Зигфрид, преследовала и Ф. Энгельса. Вот что он писал в 1840 году, рассказывая о своем посещении городка Ксантена на Рейне, по преданию, родины Зигфрида: “Что захватывает нас с такой силой в сказании о Зигфриде? Не история сама по себе, не подлое предательство, жертвой которого становится молодой герой, а вложенная в него глубокая значительность. Зигфрид — представитель немецкой молодежи. Мы все, у которых бьется в груди еще не укрощенное условностями жизни сердце, мы все знаем, что это значит. Мы все чувствуем ту же жажду подвига, тот же бунт против традиций... нам бесконечно противны вечные колебания, филистерский страх перед новым делом, мы хотим вырваться на простор свободного мира, мы хотим забыть о благоразумии и бороться за венец жизни — подвиг. О драконах и великанах позаботились для нас филистеры, ими полна церковная и государственная жизнь”.
Вот эта самая “глубокая значительность” образа Зигфрида и воодушевляла. И смысл его был очень прозрачен. С ним были связаны все эллинско-оптимистические надежды революционной демократии. Это прекрасно понимал Энгельс. Но если он замышлял своего Зигфрида как иносказательно-эзоповское изображение современности, а потому мыслил себе свое сочинение как "трагикомедию", то у Вагнера в отношении Зигфрида не было ни капельки романтической иронии. Он воспринимал образ всерьез и потому с самого начала видел в истории Зигфрида оптимистическую трагедию. Образ Зигфрида был для него высшим эстетическим идеалом задолго до того, как он начал сочинять “Кольцо”. Он и революцию 1848 года воспринимал сквозь призму этого идеала. В 1848 году поэтому-то с ним и случилась крайне забавная вещь: он встретил в жизни “живого” Зигфрида, реальное воплощение идеала. Этим живым Зигфридом оказался не кто иной, как Михаил Бакунин, анархист-гегельянец, руководивший восстанием в Дрездене. Вагнер моментально проникся в него такой же беззаветной верой, какой христиане прониклись бы в Христа, если бы тот снизошел до второго пришествия... Они сразу же стали лучшими друзьями, и в качестве адъютанта Бакунина Вагнер как раз и принял участие в восстании. После разгрома восстания Бакунин попал в тюрьму, а Вагнеру удалось бежать в Швейцарию. Здесь он сразу отбросил все остальные замыслы и начал писать своего “Зигфрида”. При этом не раз говорил, что пишет Зигфрида прямо с Бакунина.
Сначала он замышлял одну оперу—“Смерть Зигфрида”, которая потом превратилась в четвертый день тетралогии — в “Гибель богов”. Но очень быстро понял, что в одну оперу весь смысл этого образа он уложить не сможет. Стал замышлять две оперы, связанные и сюжетом и образами,—двулогию “Молодой Зигфрид” и “Смерть Зигфрида”. Потом почувствовал необходимость начать с еще более ранней стадии, с истории родителей Зигфрида, что впоследствии вылилось в “Валькирию”. Но и этого оказалось мало, и тогда возник замысел “Золота Рейна”—предыстории мира, которая показала бы абсолютную необходимость появления Зигфрида на свет. В “Золоте Рейна” Вагнер через систему образов замыслил доказать, что мир запутался в противоречиях, разрешить которые может только такое существо, как Зигфрид, бесстрашный герой с мечом.
Сочинение текста “Кольца” затягивалось. И здесь-то, во время сочинения текста, Вагнера стала мучить новая проблема. Для себя он ее сознательно сформулировал так. Почему современное человечество не спешит с преобразованием мира в согласии с идеалом, если этот идеал настолько ясен, настолько прекрасен и заманчив, что любой должен был бы его принять? Где причина того факта, что бешеная, зигфридовская энергия Бакунина разбилась о препятствия, захлебнулась в болоте филистерства, нерешительности, непоследовательности и прочих антизигфридовских качеств народного самосознания, реальных, живых, неидеальных людей?
И скоро уже эта проблема, а не сам по себе образ Зигфрида. стала превращаться в центральную проблему “Кольца”. В ходе разработки сюжета мифа Вагнер и пытался найти ответ на этот вопрос, решить его для самого себя.
По мере того как под его пером развертывался сюжет. Вагнер все отчетливее начал осознавать смысл трагедии, заложенной в древних, в первобытных и вечных слоях народной психологии, а именно: что необходимым является не только рождение Зигфрида, но и его гибель, крушение попытки освободить мир. Поэтому убийство Зигфрида начало выглядеть не как результат подлого предательства, не как убийство из-за угла, а как абсолютно неизбежная развязка, как финал, необходимость которого заложена уже в самом начале вещей, в самой “сущности мира”, как он выражается.
Этот мрачный конец тем самым превратился как бы в тайную целевую причину действий, мыслей, чувств и поступков всех героев “Кольца” — в тайную причину, которой ни один из них не сознает и тем не менее действует в ее пользу, в том числе и сам Зигфрид. Музыка поэтому уже с самого начала приобретает мрачно трагический оттенок, сказывающийся в самых радостных страницах партитуры.
Таким поворотом мысли Вагнер решил для себя вопрос о причинах поражения революции 1848 года. Решил, что оно было не случайно и не результатом подлого предательства, а неизбежностью. Эта неизбежность выразилась и в том, что идеал, во имя коего она совершалась, был ложен, иллюзорен, что тайная, никем из ее участников не осознаваемая цель расходилась с идеалами лучших ее участников. Это выразилось и в том, что Зигфрид— Бакунин, несмотря на всю свою субъективную честность и беззаветное мужество и даже благодаря этим качествам, был на самом деле великим обманщиком, который честно обманывал и самого себя и других. И что людей, которые ему беззаветно поверили, он в действительности с самого начала вел на гибель.
Гибель и оказывается единственным и естественным результатом столкновения прекрасной свободной индивидуальности с миром. Поэтому в самом образе Зигфрида уже с самого начала заключена смерть, гибель, и образ его развивается ей навстречу.
Но поскольку это так, постольку и внимание Вагнера как художника начинает перемещаться от Зигфрида к “миру”, внутри которого он рожден, вынужден действовать и в итоге погибнуть.
“Золото Рейна” как раз эту задачу и решает.
Что это за мир? Это мир, населенный современными людьми. Это Вагнер констатирует совершенно сознательно. Основная черта этого мира—состояние Нужды, Not (это словечко лейтмотивно). В такое плачевное состояние мир впал в результате того, что подпал под власть золота. Далее начинается совершенно прозрачная символика. Золото—это волшебная сила, которая, противостоит всякой индивидуальности вообще. Существо, желающее обрести золото, а с ним — власть над миром, вынуждено отречься от своей собственной индивидуальности. Власть золота безлична. Самое уродливое существо в его сиянии становится чем угодно, подчиняет себе все на свете—и трудолюбивых нибелунгов, и прекрасных богов, и могучих великанов, и гордых красавиц богинь — Фрейю, богиню молодости и свободы, и Фрикку, богиню домашнего очага. Все оказываются рабами кольца — и больше всех как раз тот, кто мнит себя его господином...
Центральной фигурой “Кольца” чем дальше, тем больше становится Вотан, обобщенно-символическая фигура современного человека. “Посмотри на Вотана—это человек, каков он есть, он похож на вас до неразличимости”, — писал Вагнер в письме.
И другое забавное указание: “Представь себе в руках Альбериха вместо золотого кольца биржевой портфель с акциями — и ты получишь образ современного мира...”
В этой ситуации ни одно существо не может утвердить свое Я. не выступая против власти золота. Но ни одно существо не в силах этого сделать: любой персонаж по рукам и ногам связан путами этого мира. Любовь, которую Вагнер толкует в духе Фейербаха—как принцип индивидуального отношения к вещам и людям, как принцип, с точки зрения коего любая вещь ценится по ее индивидуальным достоинствам, — оказывается не только абсолютно бессильной противостоять безликой мощи золота, но и становится, неведомо для себя, служанкой этого золота... Вся эта символика абсолютно прозрачна, и растолковывать ее не приходится.
Такое понимание смысла современной трагедии приводит Вагнера к социальному пессимизму. Самым мудрым философом ему в это время начинает казаться Шопенгауэр. Влияние Шопенгауэра на весь строй образов и символики “Кольца” очень сильно. Иногда монологи (особенно Вотана) звучат как популярное изложение идей “Мира как воли и представления”. Здесь и безвыходные антиномии между познанием и волей, между абсолютной волей и “конечной” волей, здесь и тезис о самоотрицании воли как высшего способа ее самоутверждения, и пр., и пр. То есть Вагнер все время сталкивает в образно-символической форме такие вещи, как познание, красота, воля, индивидуальность, свобода, заблуждение, необходимость, договор (как принцип права), и пр.. и пр.. короче говоря, весь традиционный понятийный арсенал немецкой философии, чтобы посмотреть, что же из этого взаимного столкновения выйдет.
Присутствует в “Кольце” и пролетариат — в виде народа нибелунгов. Эстетически он рисуется очень непривлекательным, грязным, тупым: в музыке слышится металлический грохот молотов, визжащие, стонущие звуки и пр. И по нравственной своей природе нибелунги очень непривлекательны; они вовсе не собираются ликвидировать власть золота, они хотят только захватить его каждый для себя, чтобы использовать против других. Притом они же сами и куют свои собственные золотые цепи, делают их все толще и крепче, и на них нельзя возлагать никакой надежды. Они сами нуждаются в освободителе, а когда он приходит, коварно пытаются использовать его в своих целях, а потом убить... Похожи на них и тупые великаны—строители Валгаллы...
Начинается все с того, что Золото спит на дне Рейна, в природном лоне, и там представляет собой только эстетическую ценность, радует веселых и беззаботных красавиц—Дочерей Рейна. Но оно уже таит в себе все зло, которое свершится в будущем. Итак, начало — Природа как таковая...
* * *
Персонажи и ситуации “Золота Рейна” часто вызывают желание комментировать их иронически по многим причинам. В первую очередь именно потому, что они слишком откровенно аллегоричны и, может быть, даже откровенно рассудочно сконструированы.
Когда же говоришь о “Валькирии”, то язык на иронию как-то не поворачивается. Здесь тоже вся система образов разворачивается в плане обыгрывания древнегерманских мифов, той их части, которая повествует о родителях Зигфрида — о судьбе Зигмунда и Зиглинды, о первой попытке героического восстания против власти Золота, очень быстро трагически заканчивающейся. Однако здесь гораздо больше глубокой и исторической и психологической правды — той самой реалистической правды характеров, логики их собственного развития, которая и составляет, по-видимому, главную тайну вагнеровского искусства, его околдовывающую силу.
Здесь, как и в “Зигфриде”, меньше всего ощущается то влияние рассудочных схем, которые так сильно испортили всю “Гибель богов”, — тех рассудочных схем, которыми Вагнер уже в это время начинает заражаться от Шопенгауэра.
“Валькирия” сочинена как раз на переломе всех его политических и философских настроений, и в тексте это влияние уже начинает сказываться. Особенно во втором акте, где Вотан произносит сорокаминутный монолог и долго повествует о том, что всем уже известно из “Золота Рейна”, а заодно комментирует эту историю в духе шопенгауэровской философии, то есть говорит о бессилии человека бороться со страданиями мира, о том, что единственным выходом из них является смерть, и т. п.
Однако музыка “Валькирии” шопенгауэровским пессимизмом еще почти совсем не заражена. Больше того, чем дальше уходит Вагнер от революции, от ее идеалов, от ее надежд, тем больнее ему с ними расставаться. И тем напряженнее он старается воссоздать в музыке всю романтическую атмосферу революционного подвига, бунта против мертвечины, против традиций, против филистерства.
Поэтому музыка “Валькирии” предельно оптимистична, так же как и в следующем за нею “Зигфриде”. Но, в отличие от “Зигфрида”, она в то же время предельно драматична. По своему колориту она целыми огромными кусками сильно напоминает — это часто отмечали и профессионалы-музыковеды, и сами вы это отчетливо уловите — пафос таких бетховенских сонат, как “Аппассионата”.
Это — оптимистическая трагедия в самом высоком смысле слова.
И если мир шопенгауэровских настроений здесь уже и сказывается, то только временами: они наплывают, как тень от облаков на картину, которая, в общем, залита солнечным светом, пронизана порывами свежего ветра, достигающего ураганной силы, всплесками пламени и т. д. и т. п.
* * *
Р. Вагнер. Trauermarsch из “Кольца нибелунга” Похоронный марш, по сути дела, конец “Кольца”, в нем разрешается вся философия тетралогии. “Со смертью Зигфрида драма кончается..,” — как говорит Роллан.
“Марш” в опере следует сразу после смерти героя. Последняя фраза умирающего Зигфрида кончается на фоне первого такта “марша”, звучит как последний его вздох.
...Первый такт—тема Судьбы. Тема эта поднимается как бы из глубин Вселенной. Жестоко-равнодушно звучит в меди внутренний, утробный голос слепого Рока...
И — пустота. Зияющий провал в музыкальной ткани...
Только сухой треск барабана на фоне этой страшной пустоты.
Зловещие шорохи наползающей на мир Вечной Ночи...
Несколько тактов в музыке — развал. Два раза поднимается на валторнах печальная тема “страдания Вельзунгов”, славного рода солнечных героев, обреченных Судьбой на горе во искупление грехов мира.
Последний Вельзунг, Зигфрид, последняя надежда мира, сражен. Теперь исход для мира один — в смерти, в погружении в вечное небытие, “где нет страданий, где нет стремлений — странствий вселенских цель”...
Опять молчание. Пустота. Еще несколько отрывистых сухих ударов барабана... Мир осиротел. Больше нет в нем силы, могущей его спасти... Все кончено...
Еще сухой удар струнных. Еще раз. Еще (сrеsс.) — и вдруг воплем отчаяния, скорби, гнева взрывается оркестр...
Это нестерпимый крик боли и ужаса, вырвавшийся с огромной силой, которую нельзя ни удержать, ни умерить, — крик души, только что осознавшей все роковое значение утраты, крик насмерть раненной Великой Любви, стимула жизни Вселенной...
...Но тяжелые ритмичные удары похоронного шествия беспощадно подавляют этот крик...
Тихим скорбным плачем (тема Вельзунгов) пытается вылиться горе — и вновь воспоминание рождает громкий, раздирающий сердце стон. И опять — тяжелые жестокие удары...
Конец! Конец всему! Молчание!
...Мягкий жалобный плач деревянных духовых на фоне мрачного грохота литавр. Он звучит печальным упреком за все, обращенным к Всесильной Любви, родившей надежды на героя, который умер, не свершив подвига искупления...
Наступает смятение. Глухие пассажи контрабасов и виолончелей, торопливые мучительные усилия вопреки страшной реальности прогнать мысль о смерти героя, которая главенствует над державным голосом тубы...
Еще и еще пытается человек закрыть глаза, представить себе на мгновение, что не было смерти, что остались хоть какие-нибудь надежды, что герой жив, и — ослепительным сиянием до-мажорного аккорда засветилась вдруг яркая тема меча, волшебного разящего Нотунга! С ним Зигфрид непобедим!
...И все взрывается лучезарной радостью. Упругие ритмы победного шествия молодости и жизни, не знающих никаких преград.
Героически уверенный голос тромбона — тема Зигфрида, и как живой вырастает над оркестром герой...
Вот он поднял свой серебряный рог и трубит боевой клич, призывая на битву врагов — ему безразлично каких. Он один встал против всего мира, против богов, против Судьбы. Им движет лишь одно—бездумная сила молодости, готовой разрушить все, что встретится на пути. “Зигфрид — “веселье побед”...
...Но все это нужно Вагнеру, чтобы еще неумолимее предстала перед слушателем Судьба, Schisksal...
Холодный сырой туман, поднимающийся из Рейна, из колыбели рокового Золота, подползает, крадется со всех сторон на фоне зловещих ночных шорохов, обволакивает все мрачнеющими красками светлый образ “солнечного героя”...
Мраком застилается мир, Мраком бессильного отчаяния. Гаснут, растворяясь в нем бесследно, последние искры воли к жизни. ...И где-то в темноте, в Ночи, звучат удаляющиеся шаги похоронного шествия...
Конец всему. Конец любви, вере, надежде. Всему, что заставляет человека жить.
Это пессимизм—самый страшный, какой только можно отыскать в мировой музыке, шопенгауэровский пессимизм. Все растворяется в осознании полнейшей безысходности, рождающей высшее проявление Мировой Воли — Воли к смерти.
Железный занавес опускает на вселенную непобедимая сила судьбы...
Тихо звучит у фагота тема Кольца, золотого символа мирового Зла, неистребимого спутника Любви и Жизни... Лишь вместе с ними Кольцо может погрузиться в вечный сон небытия, желанный сон, в волны Рейна. (Иногда в концерте сюда вставляют тему Fluch'а — проклятия, тяготеющего над владельцем Кольца.)
...В смутных шорохах и замирающих ударах удаляющегося шествия замолкает оркестр...
Этот марш, по форме напоминающий Траурный марш из бетховенской “Героической” — полная противоположность ему по существу... Там — апофеоз героя-победителя. Здесь—полнейший мрак. Это уже не скорбь о светлой памяти умершего. Это — преодоление Воли к жизни, насильственное торжество пессимизма, к которому Вагнер силой музыкального воздействия стремится привести слушателя, логически и эмоционально убедить его в том, что эта философия — единственно естественная; и страшно в марше то, что он от первой до последней ноты логичен и искренен в силу своей логичности.
Стоит попасть в тон его мироощущения (“понять”) — и от вывода уже не уйдешь...
У Шопена — нечто подобное по настроению, но вагнеровский марш сильнее тем, что он не с первого аккорда погружает слушателя в состояние безысходного ужаса, примирения со смертью, а приводит к такому состоянию очень расчетливо, очень умно...
По философскому содержанию этот эпизод — кризис фейербахианской Любви и победа шопенгауэровского Волюнтаризма...
Ганс Галь. Три мастера - три мира. Рихард Вагнер
Вторая часть книги "Брамс, Вагнер, Верди"
Его могучий образ искажают.
Ф. Шиллер (Пер. Н. Славятинского)
Ни один деятель искусства не держал публику в таком состоянии непрестанного возбуждения, как Рихард Вагнер. Спустя десятилетия после его кончины волны споров о нем не утихали. Книги, написанные противниками Вагнера и его защитниками, составили целую библиотеку. Биографии Вагнера, монографии о нем — это необозримое море литературы, и трудно найти событие в жизни композитора, чрезвычайно важное или совсем малозначительное, которое не было бы тщательно изучено и подтверждено документами. Изданы все его письма, какие только можно было разыскать. Кроме всего прочего, сам Вагнер позаботился о богатом автобиографическом материале — начиная с эскиза, набросанного им в пору постановки оперы “Риенци" в Дрездене в 1842 году, и кончая обширными воспоминаниями под названием "Моя жизнь" (1870). Эти последние, к сожалению, доходят лишь до решающего, поворотного момента в жизни Вагнера, до 1864 года, но, несмотря на это, представляют наиболее ценный источник, характеризующий внутреннее и внешнее развитие композитора. Нельзя отрицать того, что эти мемуары создавались под определенным давлением: Вагнер диктовал их Козиме фон Бюлов, жене пианиста и дирижера, находясь с ней в весьма близких отношениях. Вскоре Козима стала женой Вагнера, а он вынужден был тактично обойти или завуалировать ряд эпизодов своей жизни, как, например, подробности взаимоотношений с Матильдой Везендонк в Швейцарии. Козима же, дочь Листа, на 24 года моложе Вагнера, пережившая супруга на полвека, даровитая, честолюбивая, энергичная женщина, естественно, чрезвычайно пеклась о посмертной славе мужа: все, что по каким бы то ни было причинам не соответствовало угодному ей образу композитора, исчезло без следа. Поныне "Ванфрид", вилла семейства Вагнеров в Байрейте, хранит и письма и дневники, недоступные общественности. "Собрание Бёррела", увидевшее свет четверть века назад, содержит много новых биографических материалов, прежде всего неизвестные письма Вагнера его первой жене Минне.
В большой шеститомной биографии Вагнера, написанной Карлом Фридрихом Глазенапом, которую Байрейт признал официальной, предмет разработан полно, подробно и педантично, как то пристало немецкому профессору. Однако эти качества соседствуют в ней с иными — готовностью затушевывать, переиначивать, смягчать факты; что-либо подобное можно встретить разве что в крайних образцах историографического "византинизма", у какого-нибудь придворного историка или биографа. Эрнест Ньюмен, автор тоже весьма объемистой, четырехтомной биографии Вагнера, взял на себя труд произвести необходимые коррективы и заполнить лакуны. Благодаря этому мы теперь больше знаем о годах, проведенных Вагнером в Мюнхене, Трибшене и Байрейте.
Вагнер как человек, соединяющий в себе фантастические противоречия, — это целая проблема. И как художник — проблема не меньшая. Любое суждение о нем хромает — если только не основано на глубочайшем понимании всего величия его творчества. А его недостатки мы можем объективно понять, вероятно, лишь теперь, по прошествии столетия, составив целостное представление обо всем им созданном и ничуть не умаляя его достижений. Наша задача сейчас — в самой краткой форме, предельно объективно представить Вагнера как художника и человека со всеми его проблемами, со всеми противоречиями, со всем тем, что остается в нем непонятным. Слишком долго Вагнер был для одних божеством, для других — предметом отвращения. Основания для такого отношения к нему есть, однако истина глубже и сложнее одностороннего, поверхностного, предвзятого взгляда.
Детство и юность. 1813-1839
Назвать Вагнера искателем приключений, авантюристом не значит возводить на него хулу, если под чертой авантюризма понимать природную склонность к фантастическим решениям, к поступкам, последствия которых нельзя предвидеть, к риску, который предполагает в человеке безбрежный оптимизм. Ко всему этому Вагнер был склонен на протяжении всей жизни. Он постоянно оказывался в самых сложных ситуациях, в состоянии внутреннего и внешнего конфликта, его преследовала полиция, он годами жил в изгнании, ему постоянно грозила долговая тюрьма — в конце концов он дождался триумфа, апофеоза, какой не выпадал на долю других художников, музыкантов.
Вильгельм Рихард Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге. Его отец, Фридрих Вагнер, был полицейским чиновником; вскоре после рождения сына он умер. Вдова, Иоганна Вагнер, на следующий год, в августе, вышла замуж за Людвига Гейера, актера лейпцигского театра, близкого друга семьи. Через шесть месяцев родилась Цецилия, первый ребенок от второго брака. Вагнер всегда с любовью вспоминал отчима, скончавшегося в 1821 году; очевидно, мальчик был его любимцем. В Байрейте, в рабочем кабинете Вагнера, висел портрет Гейера, и Глазенап вспоминает о том, что однажды композитор обратил его внимание на странное сходство черт лица Гейера и маленького Зигфрида, сына Вагнера; слова Вагнера свидетельствуют о том, что сам он не раз задумывался над тем, чей же он сын на самом деле. Возможные предположения на этот счет подкрепляет одно обстоятельство, о котором не мог знать композитор: на основании списков посетителей курорта было установлено, что 21 июля 1813 года Иоганна Вагнер проживала в Теплице, и, видимо, с двухмесячным младенцем, в той же гостинице, что и Гейер, гастролировавший здесь вместе с театром. Времена были неспокойные, условия жизни трудны и небезопасны. Хуже не придумаешь - три месяца оставалось до "Битвы народов" близ Лейпцига! Так не покажется ли это путешествие несколько необычным? Об отце Вагнера нам известно немного. Отчим был человеком всесторонне одаренным драматург, пользовавшиися успехом, удачливый портретист. Он нежно заботился о семерых детях. Нищие подозревал, что он был еврей по национальности, но такое предположение бездоказательно.
Уже в 1814 году семья переехала в Дрезден. Гейер вошел в труппу придворного театра. Разумеется, дети росли в театральной атмосфере, некоторые из них вышли на подмостки. Когда Гейер умер, старшая из сестер, Розалия, актриса дрезденского театра, стала главной опорой семьи, оставшейся без средств. Впрочем, без помощи родственников и скромных доходов от жильцов все равно нельзя было обойтись. Юный Рихард рос без отца, и это неблагоприятно отразилось на его раннем развитии. По собственному признанию, он был трудновоспитуемым ребенком. В Дрездене, а позднее в Лейпциге, в гимназические годы, Рихард бурно протестовал против школьной дисциплины. Склонность к драматическому творчеству проявлялась и нем все сильнее и сильнее, она была естественным следствием ранних театральных впечатлений. В возрасте пятнадцати лет Вагнер вселял страх в своих близких романтической драмой ужасов под названием "Лейбольд и Аделаида". Интерес к музыке тоже пробудился в нем, он был вызван не столько собственными, весьма скромными, успехами в игре на фортепьяно, сколько бетховенскими симфониями и операми. Из опер неизгладимое впечатление произвел на него "Волшебный стрелок" Вебера, тем более что Вебер, придворный капельмейстер в Дрездене, был на дружеской ноге с Гейерами. Однако Вагнеру, когда он под руководством кантора собора св. Фомы Вейнлига приступил к серьезному изучению гармонии и контрапункта, исполнилось уже 18 лет. Эти занятия, по рассказам Ватера, были основательны и интенсивны, благодаря им Вагнер усвоил безупречную технику письма. Сочинения этих лет: соната для фортепьяно, несколько увертюр, симфония — свидетельствуют о том, что их автор прошел хорошую школу, но больше ни о чем. Вагнер не был вундеркиндом. На двадцатом году жизни он начал писать оперу "Феи" по пьесе Гоцци "Женщина-змея". Эта опера выполнена в немецкой романтической традиции, в ней отчетливо слышны реминисценции из Бетховена, Вебера, Маршнера; по сравнению с другими ранними сочинениями Вагнера она не обнаруживает прогресса.
Попытка поставить эту оперу в Лейпциге не имела успеха. Однако тем временем молодой музыкант уже стал человеком театра — в Вюрибурге, где у его брата Альберта, тенора, был ангажемент. В 1834 году Вагнер переехал в Магдебург — на должность "музикдиректора", то есть хормейстера и второго дирижера. Здесь Вагнер впервые имел успех как дирижер. На следующий сезон он пошел на повышение — стал первым капельмейстером. Вагнер завершил новую оперу - "Запрет любви" по комедии Шекспира "Мера за меру". Она была исполнена в Магдебурге в марте 1836 года - один-единственный раз, потому что театр обанкротился и был закрыт. Из Магдебурга Вагнер увез с собой долговые обязательства, связанные с устроенным на свой страх и риск концертом, где участвовали высокооплачиваемые солисты, и самую красивую актрису труппы — Минну Планер. В ноябре следующего года, в Кенигсберге, где оба получили ангажемент, их нежные отношения были скреплены узами законного брака.
Минна была первой страстью Вагнера-юноши. Он вел себя бурно, она—сдержанно; они вступили в брачный союз необдуманно, очертя голову. Минна была на четыре года старше Рихарда и отличалась большим опытом, большей холодностью натуры; восхищаясь гениальностью молодого музыканта, обожавшего ее, она совсем не понимала его высоких, честолюбивых замыслов, тем более что сама не была музыкальной, а работа в театре (вскоре ею брошенная) не означала для нее ничего, кроме возможности добывания средств к существованию. Их роман в Магдебурге был просто цепочкой бурных, страстных эпизодов, размолвок, брак с самого начала — сплошным несчастьем. Вагнер был деспотичен, словно примадонна, ревнив, как турок. Через полгода после свадьбы Минна бежала к своим родителям в Дрезден, не выдержав треволнений семейной жизни. Вагнер бросил все и ринулся в погоню за нею: целое лето было потрачено на то, чтобы примирить молодоженов и избежать развода.
В театре Кенигсберга положение Вагнера было неблагоприятным; новые долги повлекли за собой новые неприятности, и Вагнер принял приглашение в Ригу, к Карлу фон Хольтею — впоследствии тот стал знаменит как поэт и драматург. Хольтей только что основал здесь театр, живо поддержанный культурной публикой, состоявшей из балтийских немцев — бюргерства этого русского города.
В своих мемуарах Вагнер ярко описывает театральную жизнь тех лет. Трудно вообразить себе что-либо более примитивное. Театрами Магдебурга, Кенигсберга управляли директора, которые все дела вели на свой страх и риск, получая лишь жалкие и случайные дотации. Давались драматические и оперные спектакли. Труппа состояла из актеров с сомнительной репутацией, которым платили гроши; уровень хора и оркестра был самым плачевным, репертуар ограничивался ходовыми и весьма непритязательными произведениями. Основу оперного репертуара составляли французские и итальянские произведения, пользовавшиеся успехом: сочинения Беллини, Доницетти, Обера, Герольда, Адана. Театры страдали прежде всего от непрочности своего материального положения. Вагнер так описывает свое поступление в магдебургский театр: "Меня уверяли, что, если мне важно регулярно получать свое жалованье, я должен строить куры мадам Бетман" (жене директора). В Кенигсберге было не лучше: в конце сезона дирекция взывала "к самоотверженности труппы, чтобы обеспечить существование театра". Как раз в то время Минна, как уже упоминалось, бежала в Дрезден, и Вагнер мог сэкономить на своей "самоотверженности".
В Риге положение поначалу было более благоприятным, поскольку публика собрала значительный денежный фонд в пользу театра. В распоряжении Вагнера, к этому времени опытного капельмейстера, овладевшего всем ходовым репертуаром, находилась труппа, способная на гораздо большее, так что иногда осуществлялись постановки, доставлявшие ему удовольствие. Тогда-то он, устав от серой театральной
провинции, и задумал монументальное произведение в стиле французской "большой оперы" — колоссальный план! То было время сенсационных успехов мейерберовских "Роберта-дьявола" и "Гугенотов", популярности жанра широкой исторической панорамы. В духе "Гугенотов" и был задуман вагнеровский "Риенци", либретто которого — по одноименному роману Булвер-Литтона, только что увидевшему свет, — Вагнер набросал и разработал в кратчайший срок. Во вторую рижскую зиму— 1838/39 года — была сочинена музыка первых двух действий. Еще в Магдебурге Вагнер написал письмо самому знаменитому французскому либреттисту Эжену Скрибу, предлагая ему совместную работу. Вагнер тогда не был удостоен ответа, но теперь все же обратился с просьбой о рекомендации и протекции к всемогущему Мейерберу. Молодой Вагнер был виртуозом в деле сочинения писем: если он стремился к какой-либо цели, то умел изложить свои интересы с максимальной убедительностью. В письме Мейерберу он отчаянно пыжится, рассказывая поначалу об одностороннем развитии своих юных лет, когда он находился под влиянием Бетховена. "Потом же, — продолжает Вагнер, — и особенно с тех пор, как я вступил в настоящую жизнь театрального практика, я изменил свой взгляд на современное состояние музыки, особливо драматической; стану ли отрицать, что произошло это под влиянием именно Ваших творений, явивших мне это новое направление? Неуместно было бы сейчас неловким языком восхвалять Ваш гений; скажу лишь одно: я увидел, что Вами в совершенстве решена задача, какая стоит перед немцем, взявшим за образец достоинства итальянской и французской школы, дабы придать универсальное значение созданиям своего духа".
Мысль о Париже не оставляет Вагнера в покое — ведь именно там снискали всемирную славу Глюк, Спонтини, Мейербер, Беллини. А в Риге Вагнер опять влез в долги — иначе с ним и не бывало! Тут-то прежние кредиторы из Магдебурга, Кенигсберга зашевелились и подали в суд. В это время выяснилось, что договор с Вагнером, истекающий в конце сезона, не будет возобновлен. Вагнер решается бежать из Риги.
Однако для побега нужны были средства, и один преданный Вагнеру кёнигсбергский друг, именно в этот момент навестивший его, помог советом и делом. Все имущество Вагнера было тайно распродано - к примеру, мебель, приобретенная в Кенигсберге в кредит. Вагнера уже не беспокоило, что ни Скриб, ни Мейербер не отвечают на его письма: "Достаточно было уже того, что я мог сказать себе: я состою в связи с Парижем. На деле, приступая к столь смелому предприятию, я имел уже солидный пункт для зацепки и, что касается моих парижских планов, вовсе не строил их на песке".
Кёнигсбергский друг, Абрахам Меллер, предоставил Вагнеру свой экипаж, чтобы, переехав через русскую границу, тот мог добраться до какой-нибудь гавани в Восточной Пруссии. "Границу надо было пересечь без всяких паспортов, потому что иностранные кредиторы наложили на таковые арест... Однако желание избавиться от прежнего стесненного положения и как можно скорее выйти на широкий простор деятельности, где меня ожидало быстрое исполнение честолюбивых замыслов, ослепило меня — я вовсе не замечал трудностей, какими неизбежно должно было сопровождаться осуществление моих начинаний".
Границу перешли ночью, по тропам контрабандистов, подвергаясь опасности быть обнаруженными и схваченными казачьими патрулями. После этого на неудобных фурах по скверным дорогам много дней добирались до маленького портового городка Пиллау, описав дугу вокруг Кенигсберга, куда нельзя было показать даже и носа. Из Пиллау Вагнер на паруснике отплыл в Лондон. "Капитан тоже должен был принять нас на борт без паспортов, так что взойти на корабль было делом особенно трудным. Нам надлежало пробраться на корабль в лодке, в сумерки, не замеченными портовой охраной; подплыв к кораблю, мы сначала с великим трудом подтянули по отвесной стене нашего Роббера (гигантского ньюфаундленда, с которым никак не желал расстаться Вагнер. —Авт.), а затем спрятались в глубине трюма, чтобы чиновники, осматривающие судно перед отплытием, не заметили нас. Наконец якорь был поднят, и мы, постепенно теряя из виду сушу, могли вздохнуть свободно и успокоиться".
Годы нужды. 1839-1842
С этой авантюры - бегства в Париж - начинается новый период в жизни Вагнера, время страданий и лишений, значительная эпоха — потому что именно тогда впервые и со всей определенностью проявился вагнеровский музыкальный гений. Сам побег — это модель подобных же поступков Вагнера, не раз совершавшихся им в жизни в различных критических ситуациях. Их причиной всегда служило сочетание внешних и внутренних обстоятельств, создававших невыносимую обстановку, когда казалось, что нет такой жертвы, какой бы он не принес, чтобы избавиться от податных условий, нет риска, на какой бы он не пошел ради этого. Первопричина - всегда долги: Вагнер не в состоянии отказывать себе в чем-либо, что именно в эту минуту кажется ему совершенно необходимым и желательным, он не задумываясь берет в долг, пока ему открыт кредит. А его честолюбивые мечты жгучи, беспредельны: он никогда не довольствуется тем, что перед ним, что легкодостижимо. Отсюда чувство неудовлетворенности, трения с внешним миром, неизбежные в любой практической деятельности, противоречивые интересы, постоянная угроза со стороны судебных исполнителей, страх долговой тюрьмы. Все это доходит наконец до точки, где здравый рассудок сдается и воцаряются соблазнительные образы-видения. Оптимист-сангвиник, Вагнер хватается за соломинку — он готов считать реальностью воздушные замки.
Путешествие по морю из Риги в Париж—для 1839 года это была затея, по сравнению с которой в наши дни путешествие вокруг света — детская игра. "Мы находились на борту купеческого суденышка, меньше какого не бывает; оно звалось "Фетида", на носу у него было укреплено поясное изображение нимфы, команда состояла из семи человек, включая капитана. Считалось, что при хорошей погоде, какая бывает летом, мы достигнем Лондона в восемь дней. Однако уже штиль на Балтийском морс задержал нас надолго... Через семь дней мы прибыли в Копенгаген, где, не покидая борта, воспользовались возможностью пополнить невыносимо скудное корабельное меню различными предметами пропитания и напитками... Полные надежд, мы отравились через Каттегат к Скагерраку, но тут ветер, поначалу лишь неблагоприятный и заставлявший нас долго и упорно лавировать, на второй день пути перешел в бурю. В течение целых 24 часов мы вынуждены были бороться с этим новым для нас бедствием. Запертые в жалкой каюте капитана, не имея даже постели для двоих, мы были беспомощными жертвами морской болезни и нескончаемых страхов... Наконец 27 июля капитан вынужден был искать убежища в гавани у берегов Норвегии, потому что штормовой западный ветер дул не перестарая. С чувством надежды и утешения я заметил широко простиравшийся скалистый берег, к которому мчал нас ветер; когда лоцман-норвежец, высланный нам с берега на маленькой лодке, встал у руля "Фетиды", мне было суждено пережить один из самых удивительных и прекрасных моментов, какие только испытал я в жизни. То, что я почитал непрерывной цепью скал, образующих берег, при нашем приближении оказалось лишь отдельными выступающими из моря утесами; мы проплыли мимо них и увидели, что они окружают нас не только с боков, но и со спины, гак что и позади нас они точно так же складывались в сплошную стену. В то же время штормовой ветер разбивался об эти расположенные позади нас утесы, так что, чем дальше плыли мы по этому образуемому ими лабиринту, тем спокойнее становилось море, и наконец, когда мы вошли в одну из длинных морских улиц в гигантской скалистой долине - таким представляется норвежский фьорд, — судно неслось уже по спокойной водной глади. Несказанное ощущение благополучия охватило меня, когда эхо or колоссальных гранитных стен подхватило восклицание, с которым команда опускала якорь и поднимала паруса. Это восклицании с его коротким ритмом запечатлелось в моей памяти как утешитель-нос предзнаменование — из него сложилась тема матросской песни в "Летучем голландце", с замыслом которого я носился уже и тогда; именно в те дни этот замысел под влиянием только что полученных впечатлений обрел конкретный поэтически-музыкальный оттенок".
После двух дней отдыха путь был продолжен; еще одна авария, и снова в путь "Спустя четыре дня установился северный ветер, который с невероятной быстротой помчал нас в нужном направлении. Казалось, близок конец пути, но нет - 6 августа вечером ветер переменился и буря становилась все сильнее и сильнее. Не жуткая сила, с которой судно наше бросало с борта на борт, так что оно, без руля и без ветрил, жертва чудовищной морской стихии, то проваливалось в пропасть, то возносилось на вершину горы, пробудила и душе моей ужас, наполнив все чувством рокового конца, но настроение безнадежности и, охватившее команду. Я уже ловил на себе отчаянно-злобные взгляды матросов -нас суеверно почитали зачинщиками грозящего кораблерушения. Матросы не были изношены с тех совсем маловажных причинах, что вынуждали нас держать в тайне свой отъезд, и, должно быть, в их головы вкралась мысль о том, что нас принудили к бегству весьма сомнительные дела. быть может даже преступления. Да и сам капитан, кажется, не paз пожалел в такой беде о том, что принял нас на борт, мы ведь очевидно принесли ему несчастье, поскольку столько раз совершал он такое путешествие (тем более летом!) за короткое время и без малейших неприятностей". Буря продолжалась много дней, но наконец судно достигло устья Юмзы, куда и вошло 12 авгусга. Переезд занял три с половиной недели. Невеликую сумму в сто дукатов — итог тайной распродажи имущеста в Риге - разменяли уже в пути. В Лондоне, где нельзя было не останешься на отдых, она продолжала таять, и, когда 20 августа путешественники прибыли в Булонь, дело не обошлось "без известных опасений ввиду предчувствуемого разочарования".
Сколь же приятно было услышать неожиданное известие о том, что Мейербер, и не подозревавший о том, что он провозглашен покрови-гелем всего вагнеровского начинания, находится именно в Булони! Вагнер тотчас же воспользовался этим благоприяткым обстоятельством и немедленно нанес ему визит. Знаменигый маэстро дружески принял молодого соотечественника и проявил интерес к партитуре "Риенци", первые два действия которого Вагнер представил ему (остальные три еще не были написаны). Чтобы предвосхитить конец длинной и очень печальной истории, скажем: Мейербер был единственным человеком. кто сделал что-либо разумное, чтобы помочь очутившемуся на чужбине музыканту, кто оказывал ему покровительство, когда тот совершал свои первые и самые трудные шаги.
Прежде всего он снабдил Вагнера рекомендательными письмами к директору "Гранд-Опера" и к Хабенеку, главному дирижеру. В Париж наши путешественники прибыли в середине сентября — город показался им тесным, грязным, гнетущим. Тут проживал предполагаемый зять Вагнера Авенариус — Вагнер задумал женить его нз младшей сестре Цецилии; этот Авенариус позаботился о скромной квартирке для Вагнеров, но, насколько можно судить, весьма скептически смотрел на своих родственников, постоянно нуждавшихся в деньгах. Его карманы были закрыты для них. Важные господа, которым был рекомендован Вагнер, выпутались из положения посредством ласковых слов. Единственным практическим результатом стало приглашение Хабенеком Вагнера на репетиции великолепного Оркестра консерватории, благодаря чему тот мог слушать превосходное исполнение симфоний Бетховена, в том числе и Девятой. Здесь же, нз репетиции, была сыграна с листа увертюра Вагнера "Колумб", написанная в Магде-бурге к пьесе Теодора Апеля, друга юности Вагнера. Мейерберовские рекомендации принесли и другой результат '"Nheatre de la Renaissance" принял к постановке "Запрет любви", впрочем, не с самыми серьезными намерениями, так как вскоре театр заявил о своей неплатежеспособности. Положение Вагнера было отчаянным. Все, что можно, он снес в ломбард. В число путешественников, помимо Минны, входила еще и Натали, мнимая сестра Минны, а на деле ее дочь — плод грехопадения пятнадцатилетней девочки, о чем Вагнер узнал лишь спустя многие годы. Гигантского ньюфаундленда Роббера мы уже упоминали. В Париже нелегко было прокормить такое существо. В один прекрасный день пес сбежал от своего хозяина, и никто больше не видел его, Вагнер написал несколько французских романсов в надежде сбыть их с рук, но издать те никак не удавалось. Один из них, "Два гренадера" Гейне во французском переводе, Вагнер напечатал на свои деньги, однако никто не хотел его покупать. Расходы взял на себя издатель Шлезингер, с которым Вагнер познакомился опять же благодаря Мейер-беру. Чтобы расплатиться, Вагнер стал писать статьи для "Gazette musi-cale", и это было скромным, но постоянным источником средств к существованию, так как статьи Вагнера пользовались успехом. А Шлезингер с готовностью поручал бедствующему музыканту разного рода работы, спасавшие того от нищеты: Вагнер делал переложения опер, аранжировал пьесы для всевозможных инструментов, сочинил 14 попурри на темы популярных оперных мелодий для "Школы игры на корнет-а-пистоне" и прочее, и прочее.
За год, полный лишений, Вагнер постепенно завершил партитуру "Риенци". К "Гранд-Опера" нельзя было и подступиться с таким произведением, и Вагнеру пришла в голову идея одноактной оперы, какие в те времена иногда давали перед балетным представлением. Для этой цели Вагнер набросал либретто "Летучего голландца" — на сюжет, о котором он долго размышлял и раньше. Мейербер, длительное время находившийся за границей, вернувшись, познакомил Вагнера с новым директором парижской Оперы Леоном Пилле, и того заинтересовало это либретто. Впрочем, итогом всего явилось самое страшное унижение, какое только пришлось испытать Вагнеру в Париже: Пилле предложил Вагнеру продать свое либретто, чтобы его положил на музыку другой композитор, перед которым у Оперы уже были обязательства, Вагнеру же, по уверениям Пилле, нельзя было заказать даже и самой маленькой оперы, пока не пройдет семь лет — на это время хватало прежних заказов. И Вагнер — за сумму в пятьсот франков — предоставляет своего "Le Vaisseau Fantome" его судьбе; на эти деньги он покупает себе время, чтобы закончить музыку "Летучего голландца". A ''Le Vaisseau Fantome" был действительно положен на музыку: оперу написал французский композитор Пьер-Луи-Филипп Дич, немец по национальности. Она была поставлена на сцене и отправлена на покой. Вагнер позднее вступил в личные отношения с Дичем, о чем речь еще впереди.
Нелегко представить себе чувства честолюбивого молодого художника: в нем бурлят громадные творческие силы, а случая явить свои способности нет, все двери перед ним закрыты, он вынужден добывать себе на жизнь трудом поденщика. Блестящий Париж времен Луи-Филиппа, Париж Виктора Гюго, Бальзака, Дюма, Шопена, Гейне, Листа, Берлиоза— двум последним Вагнер даже был бегло представлен, — зтот Париж бурных, бьющих ключом наслаждений был для Вагнера голой пустыней; каждый день вновь и вновь перед ним вставала одна и та же проблема — как жить дальше. Минна, добрая и терпеливая, шла на любые жертвы, лучшей спутницы по несчастью Вагнеру нельзя было и найти. Но все это время запечатлелось в ее памяти как страшный кошмар. "Не обессудь, - писала она Вагнеру спустя десять лет, — но наше существование беспокоит меня: ведь я не переживу еще раз то, что уже испытала с тобой. Вспомни те мелкие заботы о хлебе насущном, когда я иной раз не знала, что бросить в кипящую воду, потому что у нас не было ничего, теперь же будущее вызывает у меня ужас, потому что меня ждет что-то похожее..." Вокруг Вагнера собрался кружок земляков: художник Китц, филолог Лерс, библиотекарь Андрее. Все они страшные бедняки, по возможности помогавшие друг другу; это значит, что они делились с Вагнеро'м последним франком. Как красноречиво письмо Вагнера Китцу (от 3 июня 1840 года): "Я получил сегодня известия и теперь знаю, что мне не заплатят раньше чем через две-три недели... Я прошу Вас, не откажите в просьбе другу, попавшему в беду, и, если только есть у Вас деньги, ради всего святого заклинаю вас не платить Вашему портному эти две или три недели, а помочь мне до той поры..." Верно, что Вагнер точно так же заставлял ждать и своего портного; об одном парижском счете он продолжал вести с Китцем переписку уже и тогда, тогда получил твердое место и стал дрезденским придворным капельмейстером, и решился заплатить лишь с трудом, причем пришлось раскошелиться дрезденской примадонне Вильгельмине Шредер-Девриент, у которой Вагнер специально ради этого занял деньги.
По понятным причинам Вагнер умолчал в своих мемуарах об эпизоде, обозначившем самую крайнюю степень нищеты в том роковом году: в конце октября он оказался в долговой тюрьме. Сохранились письма; так, Минна сообщала лейпцигскому другу Вагнера Теодору Апелю, который не раз выручал их прежде: "Немногих слов довольно, чтобы пояснить повод к моему письму — сегодня утром Рихард вынужден был покинуть нас, чтобы переехать в долговую яму; не могу успокоиться — все кружится перед глазами... К своему ужасу, я еще раньше узнала сумму, какую Рихард задолжал Вам; Вы добывали для него деньги, пользуясь своим кредитом, но что те времена по сравнению с нынешними? Теперь жертва, пожалуй, уместнее, потому что есть надежда, что в течение одного-двух лет можно будет расплатиться с подобным долгом". Все это слова самого Вагнера, так как сохранился черновик письма, написанный его рукой. Спустя несколько недель он все в том же бедственном положении. Тогда он пишет другому приятелю, Генриху Лаубе (3 декабря 1840 года): "Нельзя и придумать более страшных дней, чем для меня были первое и второе числа этого злосчастного месяца; пока было возможно, мои здешние бедные друзья помогали мне своими последними грошами, чтобы отодвинуть удар до ближайшего 15 числа; удар это значит немедленная опись имущества и лишение меня свободы... Теперь я пьпаюсь наскрести необходимую сумму; если вы можете прислать что-либо - хоть самую малость, надо сделать это незамедлительно!"
В таких печалях, в поденной работе на Шлезингера прошла весна 1841 года. В начале июля Вагнер, как упоминалось, продал "Гранд-Опера" замысел "Голландца", а выручка от продажи - пятьсот франков — со;ворила чудо, как то не раз случалось в жизни Вагнера: в едином творческом порыве он за семь недель завершил всю музыку оперы, текст которой, по всей видимости, начал сочинять в долговой тюрьме, а закончил в редкие свободные минуты, какие выдавались зимой. Быть может, это создание и не столь зрелое, как позднейшие, но оно не менее гениально: недавно еще начинающий музыкант, Вагнер создал гениальное творение -- что-либо подобное трудно найти в истории музыки. И Вагнер в полную меру наслаждается блаженством творчества. "Что рассказать о кратком и столь содержательном периоде, когда, всецело принадлежа себе, сокровенным богатствам души, я отдавался радости чисто художественного творчества - ничего не скажу, кроме того, что, приближаясь к концу этого времени, я созрел уже настолько, что мог светло, безмятежно взирать на ту несравненно более длительную эпоху нужды и помех, какую мог предвидеть в ближайшем будущем. Эта эпоха и наступила с положенной точностью, потому что, когда я подошел к окончанию последней сцены, все пятьсот франков были израсходованы и их уже не хватило, чтобы обеспечить необходимый покой для написания увертюры; создание увертюры пришлось отложить до нового благоприятного поворота в моих делах и вместо этого вновь приступить к борьбе за выживание — занимаясь всем чем угодно, всем, что пожирает время и покой".
И снова нужда достигла высшей точки, но тут милейший Китц разыскал доброго дядю, который ссужал маленькие суммы. "Я в это время с покойной гордостью демонстрировал свои сапоги, которые буквально лишь по видимости прикрывали ступни, так как подметки исчезли без остатка".
Наконец в ноябре была завершена увертюра, и Вагнер попытался пробудить интерес к "Голландцу" в Лейпциге и Мюнхене, послав гуда либретто оперы. На это никто не клюнул: в Лейпциге сочли, что сюжет слишком мрачен, а в Мюнхене решили, что такое произведение не отвечает немецкому вкусу. Тогда Вагнер послал партитуру в Берлин, Мейер-беру, который в скором времени стал пользоваться здесь неограниченной властью генерал-музикдиректора. Еще значительно раньше Вагнер, сославшись на Мейербера, отправил партитуру "Риенци" в дрезденский придворный театр, а теперь он получил добрые вести и из Берлина, и из Дрездена: и "Голландец", и "Риенци" были приняты к постановке. Когда Вагнер писал свои мемуары, Мейербер давно уже сделался первостатейным предметом его ненависти, а потому он постарался как можно более принизить роль Мейербера в своих первых успехах. Однако театральные архивы, и берлинский и дрезденский, не оставляют и тени сомнения в том, что Мейербер решительно высказался в пользу своего протеже. Рекомендация самого знаменитого оперного композитора того времени сыграла решающую роль. Вагнер, как явствует из его писем, вполне признавал тогда это и гордился дружбой с Мейербером.
Итак, к началу 1842 года самые горькие времена были позади. Вагнер давно понял, что в Париже его не ждет ровным счетом ничего. Предстоящее исполнение его произведений в Германии служило удобным поводом для возвращения на родину, но и для этого надо было раздобыть средства. Вагнер бомбардировал письмами дрезденских друзей, стремясь ускорить через них постановку "Риенци": назначенная на февраль, она вследствие разного рода помех отодвигалась все дальше и дальше. А потом Вагнер решил вмешаться в дело лично. Обеспеченные родственники, положившись на осязаемый успех будущей дрезденской постановки, кое-что сделали для Вагнера; зять Авенариус, зять Фридрих Брокгауз снабдили его деньгами, и 12 апреля, пропутешествовав семь дней в почтовой карете, Вагнер вместе с Минной прибыл в Дрезден, где сразу же вступил в сношения с тамошними театральными властями, генеральным директором фон Люгтихау и капельмейстером Рейсси-гером. Людям театра не по душе автор, который является задолго до премьеры его произведения. Но Вагнер познакомился и с дружески расположенными к нему лицами: с актером Фердинандом Гейне, который был другом еще его отчима Гейера, с секретарем Винклером, с хормейстером Фишером. Со всеми ими Вагнер переписывался, находясь в Париже. А избранный на партию Риенци героический тенор Йозеф Тихачек, которого Вагнер особенно ценил за его вокальные данные и музыкальность, был с самого начала расположен в пользу произведения, где ему предстояло выступить в самом блестящем костюме. Но постановку никак нельзя было осуществить раньше осени, а это означало, что еще полгода придется жить в долг.
Была и хорошая сторона в преждевременном приезде Вагнера: он способствовал лучшей подготовке оперы, а его практический опыт заметили сразу все. Фишера пугали гигантские размеры оперы, и он настаивал на купюрах. "Его намерения были столь честны, что я охотно приступил вместе с ним к тяжелой работе. Я играл ему на старом клавире в репетиционной комнате придворного театра и пел свою партитуру с такой бешеной энергией, что изумленный человек, давно уже махнувший рукой на клавир, беспокоился лишь о том, чтобы мои легкие остались цепы; очень скоро он, сердечно смеясь, перестал спорить со мною о купюрах, потому что всякий раз, когда он считал возможным сокращение, я с красноречием доказывал ему, что именно это место — самое главное. Он вместе со мною бросился головою вниз в этот чудовищный океан звуков, против которого мог привести лишь один-единственный аргумент — показания своих карманных часов. В конце концов я сумел оспорить справедливость и этого последнего аргумента". Творческая работа мозга никогда не прерывалась у Вагнера. Он в каникулы путешествовал по Рудным горам Богемии и оттуда привез зрелый набросок "Тангейзера", сюжет которого занимал его еще в Париже. А в конце июля он снова присутствовал на репетициях в Дрездене. Помимо Тихачека с самого начала творческое удовлетворение принесла работа с Вильгельминой Шрёдер-Девриент, исполнительницей роли Адриано. Молодой музыкант обогатился благодаря ей наиболее существенными для него оперными впечатлениями — главным образом от ее выступления в роли Леоноры в бетховенском "Фиделио"; все годы, пока Вагнер работал в Дрездене, Шрёдер-Девриент была для него надежной опорой. Вагнер рассказывает о том, что интерес труппы к новому произведению все возрастал, даже ленивый капельмейстер Рейссигер заинтересовался им.
Премьера новой оперы состоялась 20 октября. "С теми чувствами, которые были у меня на первом исполнении "Риенци" в этот день, мне не суждено было - и отдаленно - переживать подобные события в дальнейшем. Куда как обоснованная забота об исполнении настолько заполняла мою душу на последующих премьерах, что я не мог уже ни наслаждаться исполнением, ни обращать внимание на то, как принимает произведение публика... Вместе с Минной, с сестрой Кларой и с семейством Гейне я находился в ложе партера, и если вспомнить, в каком состоянии находился я в этот вечер, то оно представляется мне наделенным всеми свойствами сна... Как аплодировали, я так и не услышал, а когда в конце действия меня бурно вызывали, то мой друг Гейне вынужден был всякий раз решительными действиями привлекать мое внимание к овациям и выталкивать меня на сцену".
Фишер оказался прав: представление оперы, начавшись в шесть часов, закончилось после полуночи. Но все зрители выдержали, и вечер этот обратился в подлинный триумф композитора. На последующих спектаклях были произведены некоторые купюры - притом вопреки мнению Тихачека, который не давал ничего вычеркивать. Пробовали делить оперу и исполнять ее в два вечера, но скоро отказались от этого, так как публика считала, что ее надувают. "Риенци" собирал полный зал и сохранялся в репертуаре до той катастрофы, которая стряслась через семь лет и привела к изгнанию Вагнера из Дрездена.
Королевский саксонский придворный капельмейстер. 1843-1849
С премьеры "Риенци", последнего юношеского произведения Вагнера, начинается новый акт его жизненной драмы. В "Летучем голландце" он предстает уже зрелым художником. И как зрелый художник он вступает в Дрездене в период самой интенсивной практической и творческой деятельности. Вот непосредственное следствие успеха "Риенци": Вагнеру было предложено пустовавшее с недавнего времени место придворного капельмейстера; вместе с тем он становился полно правным коллегой Рейссигера, сбрасывая с себя, раз и навсегда, бремя материальных забот. Естественная радость по этому поводу сквозит в письме Вагнера парижскому другу Лерсу: "Со мною здесь обращаются с такой предупредительностью, какой в соответствующих пропорциях не удостаивался еще ни один человек. Полгода назад бродяга, не ведавший, где и как раздобыть паспорт, - а сегодня у меня пожизненная должность, великолепно оплачиваемая, с перспективой постепенного увеличения жалованья, и в таком кругу, какой мало кому достается..." Конечно, Вагнер не был бы Вагнером, если бы он был способен предаться деятельности в таком кругу на веки вечные — как, скажем, Гайдн в Эйзенштадте, Шпор в Касселе, Маршнер в Ганновере; именно этого-то страстно желала несчастная Минна Вагнер. Пока же исполнились самые смелые мечты Вагнера. Едва ли когда-либо дебют оперного композитора происходил при более блестящих обстоятельствах. Правда, премьера "Летучего голландца" в Берлине откладывалась из-за смены интенданта: граф Редерн, принявший оперу к постановке, ушел в отставку, а его место занял фон Кюстнер, бывший мюнхенский интендант, отклонивший это произведение. Вагнер подозревает, не предвидел ли всего этого Мейербер, не он ли послужил тут пружиной целой интриги. Но Вагнер не прав: письмо генерал-музик директора Мейербера новому интенданту от 5 декабря 1843 года напоминает, что необходимо назначить день премьеры "Летучего голландца" и что роли уже распределены с согласия композитора. Однако дрезденская премьера оперы предварила берлинскую; после сенсационного успеха "Риенци", закрепившегося в репертуаре, приступили к постановке "Голландца", первое представление которого состоялось 2 января 1843 года.
Эта новая премьера не устроила Вагнера, его удовлетворила лишь Сента в исполнении Шрёдер-Девриент, хотя она и выглядела как зрелая матрона. Вагнер осознал колоссальное значение выбора артистов для первой постановки. В течение всей своей жизни он с величайшим тщанием заботился о правильном подборе и воспитании своих исполнителей и никогда более не шел ни на какие компромиссы. На этот же раз впечатление, произведенное оперой, не соответствовало его ожиданиям, и опера недолго оставалась в репертуаре. Через год "Летучий голландец" был поставлен в Берлине; здесь, под собственным управлением Вагнера, опера прошла значительно успешнее. Однако и тут благоприятный прием премьеры был нейтрализован отвратительным тоном критики — переживание, оказавшее решительное влияние на весь последующий путь Вагнера; всю жизнь он воевал с газетными критиками.
Итак, "бродяга" внезапно удостоился всеобщего признания, но у такого признания была и теневая сторона, о чем с юмором сообщает сам композитор, "Ближайшими следствиями всеобщего признания моего счастья были настоятельные напоминания и угрозы со стороны кёнигс-бергских кредиторов, от которых я избавился в Риге тем, что бежал, причем побег оказался страшно трудным и принес множество страданий. Помимо этого заявили о себе все, кто только полагал, что может предьявить мне какие бы то ни было требования — из какого бы времени они ни пришли, даже из той поры, когда я учился в гимназии, так что я вполне мог рассчитывать на то, что еще получу счет от своей кормилицы". Обезоруживает невинность, с которой Вагнер считает оскорбительным требование возврата ссуд; по его мнению, нужно как можно дольше отвергать подобные притязания. Поначалу — этого мы уже бегло коснулись — Шрёдер-Девриент ссужает ему тысячу талеров. А затем ему в голову приходит роскошная идея: он сам напечатает свои оперы, чтобы не делиться доходами с издателями. Для реализации такой идеи имеется все — кроме капитала. Сначала Вагнер заручается согласием благодушной Шрёдер-Девриент, которую, однако, успевают предупредить, и она берет свое слово назад. Меж тем все готово: партитуры и клавиры "Риенци" и "Летучего голландца" выходят в свет - комиссионер Мезер, дрезденский торговец нотами, обязуется за самый небольшой процент распространять их. "Вместе с этим поворотом в моей судьбе, — пишет Вагнер, — я вступил в запутанный крут бедствий и нужды — скорбная их печать стоит на всех начинаниях моей дальнейшей жизни. Очень скоро стало ясно, что сделанного не поправить; от продолжения предприятия, от его успеха можно было еще ожидать разрешения возникшего хаоса. А потому мне приходилось рассчитывать на то, что деньги, необходимые для продолжения издания моих опер, к числу которых вскоре, естественно, присоединился и "Тангейзер", я получу от своих друзей. В безвыходных же положениях — любым способом, какой будет возможен, даже на самое короткое время и под немыслимые проценты. Этих намеков достаточно, чтобы подготовить читателя к тем катастрофам, навстречу которым я неудержимо устремлялся".
Вагнера разочаровывало то, что его оперы медленно завоевывали театральную сцену. Но Дрезден не Париж, и успех Вагнера был локальным. "Риенци" шел в Гамбурге и Берлине, "Голландец" — и Риге и Касселе, и все. Доходы, которые приносила опера ее автору, были в те времена, до введения системы отчислений, весьма жалкими: композитор продавал свою партитуру театру за очень умеренную сумму, а театр тем самым освобождался от любых обязательств по отношению к нему. Стойкий успех "Риенци" в Дрездене принес Вагнеру популярность, но не доставил ему материальных преимуществ.
Тем более удовлетворяла его практическая работа в театре. И певцы, и оркестр стояли здесь на гораздо большей высоте, чем в провинциальных театрах его молодости, и Вагнер с их помощью осуществлял постановки, которые приносили ему признание общественности и даже личное одобрение саксонского короля, любителя музыки. В Дрездене Вагнер стал большим дирижером; пример его послужил наукой для целого поколения молодых художников: Ганса фон Бюлова, Ганса Рихтера, Феликса Моттля, Антона Зейдля. Вагнер - это праотец дирижеров современного стиля. Наряду с работой в театре, отданной шедеврам Глюка, Моцарта, Бетховена, Вебера, он организовал постоянные концерты придворной капеллы, которые до того времени устраивались лишь эпизодически. Здесь в фокусе его интересов находились симфонии Бетховена. Исполнение им Девятой симфонии Бетховена, которая с давних пор притягивала его к себе, а по вине несовершенного исполнения считалась слушателями весьма сомнительной и почти непонятной, стало настоящей сенсацией; Вагнер тщательно готовил это исполнение, используя свой парижский опыт, Сделанное им в те годы почти невероятно по объему. В апреле 1845 года он завершает партитуру "Тангейзера" — "благодаря крайнему усердию и использованию ранних утренних часов даже в зимнее время". Чтобы не оплачивать переписчика, Вагнер собственноручно, своим великолепным, твердым почерком, красивее которого не найти у музыкантов, переписывает партитуру на листы бумаги, предназначенные для литографирования; с этих листов ее и печатают. Вагнеровские идеи, замыслы неисчерпаемы. По его инициативе останки Вебера перевозят из Лондона в Дрезден — город, где тот трудился в последние годы жизни. Для скорбной церемонии Вагнер сочиняет на мотивы Вебера траурную музыку для 80 духовых и 20 барабанов. Вагнер, в не столь отдаленном будущем революционер, составляет план торжества по случаю возвращения короля после долгого отсутствия; 120 музыкантов и 300 певцов снимаются с места, чтобы вместе с Вагнером отправиться в Пильниц и там продефилировать перед королевским дворцом под звуки чудесной, сымпровизированной в считанные часы музыки. Произведение Вагнера стало настолько популярным, что через десять лет его играл каждый военный оркестр. Вагнер ввел этот марш в состав "Тангейзера", над которым тогда работал,— в опере это "Въезд гостей в Вартбург".
Премьера "Тангейзера" 19 октября 1845 года была самым значительным событием дрезденских лет, наиболее плодотворного периода в жизни Вагнера. Наряду с музыкальной деятельностью он создавал пространные литературные работы. Он издавна интересовался средневековыми сказаниями, этот интерес привел его к изучению "Песни о нибелунгах", эпических поэм Вольфрама фон Эшенбаха и Готфрида Страсбургского, а эти поэмы в свою очередь привлекли его внимание к германской и скандинавской мифологии, с созданиями которой он познакомился в переводах Карла Зимрока. Всякое впечатление становилось у него картиной, всякая картина-драматической сценой. Дрезденские годы были временем, когда вызревало все его позднейшее творчество: "Кольцо нибелунга", "Тристан и Изольда", "Парсифаль", "Нюрнбергские мейстерзингеры" — все они пустили тогда первые корни в его фантазии. Одновременно Вагнер работал над "Лоэнгрином", к которому приступил сразу же после премьеры "Тангейзера". Успех "Тангейзера" поначалу не был столь непосредственным, зажигательным, как успех "Риенци", но он возрастал от спектакля к спектаклю, поскольку качество исполнения повышалось благодаря опыту, а понимание произведения публикой все росло. Так это произведение стало, подобно "Риенци", одним из самых репертуарных. "Тангейзером" Вагнер завоевал сердца первых "вагне-рианцев" — своих безусловных приверженцев и энтузиастов, которые всегда и во всем горой стояли за него. Среди первых вагнерианцев был шестнадцатилетний Ганс фон Бюлов, на жизнь которого Вагнеру было суждено оказать решающее влияние, и госпожа Юлия Риттер, которая позже, в эпоху цюрихского изгнания Вагнера, поддерживала его внушительным ежегодным пенсионом.
Есть замечательный свидетель стихийно-мощного воздействия на современников вагнеровского "Тангейзера" — целого мира цветущей романтической фантазии. Это Роберт Шуман, который жил тогда в Дрездене и был лично знаком с Вагнером, хотя оба музыканта и не поддерживали тесных отношений. После просмотра партитуры "Тангейзера" Шуман писал Мендельсону 22 октября 1845 года: "Вагнер закончил новую оперу — вот остроумный субъект с безумными идеями и дерзкий сверх меры, — однако он, право же, и четырех тактов не способен написать и продумать, чтобы они были красивы и хороши... а партитура уже напечатана, и все параллельные квинты и октавы — в ней... Теперь-то он и рад бы изменять и вымарывать—увы! слишком поздно!.." Но вот прошло несколько недель, и Шуман побывал на представлении "Тангейзера", прослушал его и пишет тому же Мендельсону: "О "Тангейзере" расскажу устно; я должен взять назад многое из того, что писал Вам после просмотра партитуры; на сцене все выглядит совсем иначе. Многое захватило меня". А Генриху Дорну Шуман пишет 7 января 1846 года: "Хотелось бы, чтобы вы увидели Тангейзера".
В нем глубина, оригинальность, вообще все во сто крат лучше, чем в прежних его операх, хотя и встречаются музыкальные тривиальности. Говоря короче, он может приобрести большое значение в театре, и, насколько я его знаю, в нем есть все необходимое для этого. Техническую сторону, инструментовку я нахожу великолепной, несравненно более мастерской, нежели прежде". Прекрасное свидетельство в пользу "Тангейзера" и столь же прекрасное свидетельство в пользу автора писем с его впечатлительностью и художественной честностью — ведь "Тангейзер" был для него наверняка миром далеким и чужим.
Ко времени создания "Тангейзера" относится эпизод, о котором Вагнер рассказывает тонко и остроумно. Вагнера посетил Спонтини, некогда знаменитость, теперь уже снятая с повестки дня, непосредственный предшественник Мейербера, открывший блестящий период в истории парижской "Гранд-Опера". Вагнер пригласил его на спектакль "Весталки", самой знаменитой оперы Спонтини, которая именно тогда готовилась к постановке в Дрездене. Среди разговоров, какие Вагнер вел с достославным гостем, один особенно примечателен: Спонтини серьезно отговаривал немецкого коллегу от деятельности оперного композитора! "Я слушал вашего "Риенци" и сказал себе: вот гениальный человек, но он уже сделал больше того, что ему положено". И Спонтини продолжал: "Как же вы хотите создавать что-то новое, если я, Спонтини, заявляю вам, что не мог создать ничего лучше своих ранних вещей, а к тому же со времен моей "Весталки" не написано ни одной ноты, которая не была бы украдена из моих партитур?" Спонтини выражает готовность остаться в Дрездене, чтобы поставить здесь все свои оперы, и Вагнер несказанно рад, когда папская награда и датский орден позвали в путь неудобного гостя. "Я и Рёкель [хормейстер и ассистент Вагнера. — Авт.] прославляли его святейшество и датского короля. Растроганные, мы простились с редкостным маэстро, и, чтобы совсем уж осчастливить его, я пообещал ему хорошенько обдумать его дружеский совет относительно сочинения опер".
Вот забавное интермеццо — оно, словно сагировская драма, перебивает драматические события, где, как в драме, перипетия следует непосредственно за кульминацией, "Тангейзером", словно все вершит неумолимая судьба. "Капиталы, с великими жертвами собранные ради роскошного издания моих опер, наступила пора возвращать, а кроме того, слух о моих долгах настолько распространился (поскольку я вынужден был прибегать к помощи ростовщиков), что друзья, помогавшие мне при переезде в Дрезден, были крайне напуганы. Горький опыт связан у меня с мадам Шрёдер-Девриент, поскольку ее непостижимо бестактное поведение и вызвало катастрофу, разразившуюся над моей головой". Как рассказывает Вагнер, его племянница, восемнадцатилетняя Иоганна Вагнер, восхищавшая публику в роли Елизаветы в "Тангейзере", послужила причиной заметного охлаждения Шрёдер-Девриент к Вагнеру, который пригласил в Дрезден ее юную соперницу. Шрёдер-Девриент предъявила иск на сумму 1000 талеров, и Вагнеру не оставалось ничего иного, как доложить доброжелательному интенданту фон Люттихау о своем тяжелом финансовом положении, прося у него аванса, который и был выплачен Вагнеру из средств театрального пенсионного фонда. К небольшим процентам на эту ссуду прибавилась еще сумма страхования, которую потребовали при выплате в качестве залога. А потому Вагнер поддался "соблазну не упоминать в своем прошении тех долгов, в случае каковых нельзя было ожидать враждебных действий и выплату которых можно было отнести ко времени предполагаемых поступлений от издательского дела". Вагнер всегда одинаково поступал в подобных случаях: много лет спустя его долги продолжали расти, словно снежная лавина, и он точно так же повел себя в отношении баварского короля, согласившегося выплатить по всем долговым обязательствам Вагнера; даже в самый день мюнхенской премьеры "Тристана и Изольды" (1865) Вагнеру угрожали описью имущества, и он вынужден был обратиться к королю с призывом о помощи. Кредитор, заявляющий о своих правах, представлялся Вагнеру глубоко порочным человеком, того же, кто не заявлял своих прав, можно было игнорировать.
Впрочем, с благодетелями Вагнер обращался не лучше, чем с кредиторами. В юности Вагнер перенес не одно унижение, его чувство собственного достоинства было до крайности обострено, и потому, в чем бы ни состояли его обязательства перед другими, он всегда платил им чувством вражды. Такой комплекс лежит и в основе его отношения к Мейерберу. У Вагнера— как и у Шумана до него (см. его знаменитую статью о "Гугенотах") — были все причины безусловно отвергать искусство Мейербера. Однако грубые нападки Вагнера на Мейербера были недостойны, злобны и далеко выходили за рамки допустимого в деловой критике.
Как некогда в Риге, Вагнер в последние дрезденские годы находился в состоянии прогрессирующего раздражения. Снова первопричиной служили долги, а чувство художественной неудовлетворенности было дальнейшим поводом к бунту против существующего. К этому прибавился и внешний фактор, действовавший подобно катализатору, вызывающему взрыв в химическом процессе: то было скрытое революционное брожение, которое после событий 1848 года в Париже, Вене, Мюнхене готовилось прорваться и выйти наружу повсеместно, повсюду в Германии. Чудо творческой натуры Вагнера в том, что ему всегда удается укрыться в своей неприступной крепости: когда он сочиняет, он не помнит о проблемах, волнующих мир. Тогда он пренебрегает служебными обязанностями, забывает о долгах: его творчество для него святыня. Его поддерживает работа над "Лоэнгрином", ей отдает он все свободные часы. Во время мартовской революции в Вене он завершает партитуру нового произведения, премьера которого назначена на будущий сезон; для него уже пишут декорации и шьют костюмы. Но тут бес овладевает им. Открытые дискуссии о демократии, монархии, республике побуждают его сначала опубликовать статью о "Республике и монархии", которая заканчивается риторическим вопросом: но возможно ли произвести все необходимые реформы, если король все же останется во главе государства? Эту статью, в которой он предусматривает для короля должность коронованного президента республики, Вагнер читает в собрании перед тремя тысячами слушателей — "с энергичной интонацией. Последствия были ужасны. Из речи королевского капельмейстера слушатели, кажется, не запомнили ничего, кроме случайных выпадов против придворных бонз". Мало этого, одному из "бонз", интенданту фон Люттихау, Вагнер вручает проект реорганизации придворного театра в духе идеальных художественных требований самого Вагнера; в этом проекте Вагнер — весьма любезно! — предлагает сместить самого интенданта, переводит своего коллегу Рейссигера (старшего по выслуге лет) в разряд служителей церковной музыки и выражает готовность принять всю ответственность за руководство театром на себя. Когда позднее Вагнер публиковал свою работу в собрании сочинений, он вычеркнул все эти места, но в оригинале они содержатся. Стоит ли удивляться последствиям подобных действий? "Лоэнгрин" был снят с репертуара, работа над его постановкой прекращена.
Тогда у Вагнера отключаются последние тормоза. Рёкель, должник наподобие самого Вагнера, обремененный семейством, состоящим из шести человек, которых надо прокормить, становится его доверенным лицом. Рёкель публикует революционную статью, его обвиняют в государственной измене и немедленно увольняют из театра. Он разделяет идеи социализма, которые идут из Парижа. Судебный процесс над ним только готовится, и он приступает к изданию радикально-демократического еженедельника. Вагнер публикует здесь анонимные статьи, имя автора которых ни для кого не остается секретом. "Во время прогулок, теперь уже в полном одиночестве, — пишет Вагнер, — я, облегчая свою душу, развивал в уме представления о таком состоянии человеческого общества, основанием к которому мне служили самые дерзкие пожелания и устремления тогдашних социалистов и коммунистов, столь деятельно строивших в те годы свои системы, причем эти устремления приобретали для меня смысл и значение лишь тогда, когда достигали своих целей политические перевороты и построения, — тогда-то я со своей стороны мог приступить к перестройке всего искусства". Можно удивляться долготерпению придворного ведомства, не увольнявшего со службы капельмейстера, который занимался подобного рода деятельностью; можно приписать это бездействие невероятному престижу автора "Риенци" и "Тангейзера" в Дрездене. Единственное официальное выражение неудовольствия состояло в том, что у Вагнера отняли организованные им концерты и передали их Рейссигеру.
Теперь же на вагнеровскую сцену вступает новое лицо - это русский анархист Михаил Бакунин, появлявшийся повсюду, где только имелся шанс возбудить беспокойство. Вагнер мастерски охарактеризовал этого замечательного человека: "Когда я встретил его, он был гостем Рёкеля; необычная, очень импозантная личность этого цветущего тридцатилетнего человека глубоко поразила меня. Все в нем было колоссальным, мощным, первозданно-свежим". На все идеально-художественные устремления Вагнера Бакунин отвечал любезной и краткой формулой — гибель и разрушение! Новый, лучший мир мог быть построен лишь на развалинах старого. В лице Бакунина Вагнер впервые повстречал человека, чье красноречие соперничало с его собственным. С присущей ему живостью Вагнер пытается ознакомить гостя со своим новым оперным замыслом, но гость не выказывает к нему интереса. "Что до музыки, то он рекомендовал мне всячески варьировать всего один текст; тенор должен петь: "Обезглавьте его!", сопрано: "Повесьте его!", а бас твердить: "Огня, огня!"" Вагнер не менее настойчив, чем сам гость, и заставляет того выслушивать фрагменты из "Летучего голландца". Бакунина явно впечатляет такая музыка, и это наполняет душу Вагнера чувством удовлетворения. Вагнер рассказывает:
"Поскольку он вел невеселую жизнь подпольщика, я по вечерам часто приглашал его к себе; моя жена подавала на ужин тонко нарезанные ломтики мяса и колбасы. Вместо того чтобы аккуратно, на саксонский манер, распределять их по кусочку хлеба, он поглощал их огромными массами". Можно вообразить себе ужас Минны! "По этой и иным почти неприметным черточкам постепенно выяснилось, что в этом замечательном человеке дикая вражда к культуре совмещалась с требованием чистого идеала человечности, а потому мои впечатления от общения с ним колебались между невольным ужасом и неодолимой тягой к нему... Он все настаивал на разрушении да на разрушении, так что я наконец спросил, как же предполагает наш странный приятель осуществить это дело разрушения, и тогда — как я и предчувствовал, а вскоре и выяснил со всей определенностью — оказалось, что у этого человека безусловного действия все, решительно все держится на самых неосновательных предпосылках... Ему казалось, что мои надежды на будущее художественное формирование человеческого общества ни на чем не основаны, но вскоре стало ясно как день, что и его предположения относительно неизбежного разрушения всех культурных учреждений по меньшей мере столь же необоснованны".
Как почти всегда в такие критические минуты, силы, приверженные реформам, слишком разъединены, неорганизованны, чтобы добиваться не просто частных, случайных успехов. Единственная формула, о которой смогли договориться демократы, социалисты, анархисты, состояла в оппозиции господствующему строю. В Австрии, как и в Пруссии, революционное движение было подавлено еще до конца года. Но беспокойство от этого не исчезло. Вагнер был разочарован развитием событий, мрачен, все больше чувствовал свою изоляцию. "Моя жизнь обратилась в дрему — мысли непостоянны, желаний нет, ожидания неопределенны. Я вполне сознавал, что период моей художественной деятельности в Дрездене подошел к концу, что мое тамошнее положение — лишь бремя для меня, что я дожидаюсь лишь момента, когда обстоятельства позволят мне стряхнуть с себя этот груз. С другой стороны, политическая ситуация Германии, Саксонии неизбежно должна была привести к катастрофе, с каждым днем близилась эта катастрофа, и мне было по душе представлять себе, что моя личная судьба до конца срослась с этим всеобщим положением". Единственный светлый луч в это время — письмо из Веймара, от Листа, который принял на себя музыкальное руководство придворным театром. Лист - почитатель Вагнера, он познакомился с ним во время случайных встреч в Берлине и Дрездене, теперь веймарский театр намерен поставить Тангейзера" первым после Дрездена. Через несколько недель Лист сообщает композитору об успехе его создания и приглашает его на третий спектакль, который состоится в начале мая.
Но буря, которую давно ждали, разразилась раньше; поводом послужил роспуск палаты представителей - начало периода реакции. Рёкель как член палаты пользовался неприкосновенностью, теперь он должен бежать. Вагнер заботится о его семье и даже редактирует журнал Рёкеля. Третьего мая происходит вооруженное восстание.
Вагнеровское описание революционных дней в Дрездене достойно занять место среди избранных шедевров немецкой прозы. Однако, если по прошествии многих лет он говорит о событиях с ясным сознанием, его поведение во время кризиса граничило с невменяемостью. Правда, всеобщее возбуждение было, насколько можно судить, неслыханным. Но Вагнеру просто нужно везде присутствовать - на баррикадах, во время стычек войск с ополчением, в городском совете — центре революционного движения, при пожаре оперного театра, где всего несколько недель назад он дирижировал Девятой симфонией, и один из гвардейцев ополчения восклицает: "Господин капельмейстер! Радость, искра неземная, наконец, она зажглась!" Вернулся Рёкель, он занят реквизицией ружей где только можно. Бакунин счастлив — теперь он в своей стихии. Образуется временное правительство, во главе которого стоит Хейбнер, фрейбергский окружной амтман. Боятся не столько саксонских, сколько прусских войск, которые наступают, чтобы восстановить порядок. Наборщик рёкелевского "Фольксблатт" печатает по почину Вагнера на бумажных лентах: "Вы — с нами против чужеземных войск?" Слова эти обращены к саксонским солдатам. Однако это единственный акт государственной измены, совершенный Вагнером, по крайней мере единственный, в котором признается он сам. Все остальное, что рассказывает он о себе, соответствует поведению неутомимого наблюдателя: "Не чувствуя в себе ни тяги, ни призвания к тому, чтобы получить определенную роль или функцию, я сознательно махнул рукой на свое личное положение и решил, что предамся потоку событий, в который с наслаждением отчаяния увлекало меня мое ощущение жизни". Часть города уже занята прусскими войсками, и тогда Вагнер перевозит жену в Хемниц к своей сестре Кларе, которая вышла здесь замуж. Сам же он возвращается в Дрезден — к ужасу родственников: весь город в состоянии полнейшего разброда. Вагнер пробирается сквозь развалины и разрушения, от баррикады к баррикаде. Рассказ Вагнера живо передает впечатления от фантастического развала, типичного для таких анархически совершающихся событий. Бакунин, который сопротивлялся до конца, докладывает другу о положении вещей. "Чтобы обезопасить себя против кавалерийской атаки с фланга, он ранним утром велел срубить деревья, недавно посаженные на Максимилиановой аллее. При этом его особенно забавляли жалобы обывателей, горевавших о красивых деревьях". Но сражающиеся на баррикадах падают с ног от усталости, их командиры отдают противоречивые приказы, сопротивляться хорошо вооруженным регулярным войскам бесполезно. Тогда Хейбнер и Бакунин реквизуют коляску, в которой намерены отступать в Рудные горы. Вагнер присоединяется к ним, предполагая вернуться в Хемниц. Но, к счастью, на одной из станций он теряет своих спутников и достигает своей цели в другой карете. Хейбнер и Бакунин приезжают туда раньше Вагнера, и их немедленно арестовывают жандармы — Вагнер разделил бы их судьбу, находись он в их обществе. А теперь зять Вагнера перевозит его ночью в Альтенбург, где Вагнер садится в почтовую карету и едет в Веймар. Вагнер рассказывает: "Состояние мечтательной отрешенности, в котором пребывал я тогда, лучше всего характеризуется тем, что, стоило мне только увидеться с Листом, как я занялся теми вещами, которые, по его мнению, ближе всего касались меня, то есть предстоящим спектаклем "Тангейзера" в Веймаре. Не легко далось мне объяснить другу, что я, как королевский капельмейстер, удалился из Дрездена не вполне законным путем. На деле у меня были в высшей степени неясные представления о том, каковы мои отношения с официальным правосудием на моей родине (в узком смысле слова). Совершил ли я что-либо наказуемое законом или же нет? Я не в состоянии был прийти к какому-то определенному взгляду на сей счет".
Недвусмысленный ответ на вопрос не заставил себя ждать. Он заключался в полицейском объявлении о розыске государственного преступника: Вагнеру грозил немедленный арест, пока он находился на территории Немецкого союза. Можно думать, что Лист хорошенько намылил голову своему другу. А потом помог ему с присущей ему осмотрительностью и благородством. Вагнер скрывался у Листа, дожидаясь Минны, которая была в полнейшем отчаянии — Вагнер непременно хотел увидеть ее. Минна явилась и уговорила Вагнера немедленно бежать. "Как ни старался я возвысить ее до своего настроения, все напрасно: она по-прежнему видела во мне человека, наслушавшегося дурных советов, безрассудного, который и ее, и себя самого вверг в пучину бедствий". Лист решительно советовал направиться в Париж, где условия будут совсем иными, нежели в несчастную пору первого пребывания там. В Париже легче всего рассчитывать на успех. Лист изыскивает 2000 франков, которых Вагнеру хватит на первое время. Снабженный поддельным паспортом, Вагнер через Баварию благополучно прибывает в Швейцарию, ненадолго задерживается в Цюрихе и в начале июня следует дальше, в Париж. Лист опубликовал о нем статью в "Journal des Debats"— статья эта обратила на себя внимание—и рекомендовал Вагнера своему агенту Беллони в Париже. Таким образом Лист сделал все возможное, чтобы представить Вагнера французам в благоприятном свете.
Изгнание. 1849-1861
Вагнер сжег за собой корабли. Но лишь со временем он осознал масштабы содеянного. Он послушался Листа и отправился в Париж просто потому, что не ведал, чем заняться. Однако и Лист, должно быть, мало знал своего друга. Сам Лист вырос в Париже; наполовину француз, он был настоящий дипломат, светский человек с чарующими манерами; на гладком паркете парижских салонов он чувствовал себя как дома. А Вагнер был Вагнер — он ощущал себя там не в своей тарелке, как бы ни помогал ему Беллони, какие бы советы ему ни давал. Ненависть к Мейерберу уже созрела в душе Вагнера, любой своей неуспех он относит за счет его интриг. Вагнер противится предложению Листа написать французскую оперу для Парижа. А начавшаяся эпидемия холеры делает еще менее приятным пребывание здесь. Поэтому Вагнер возвращается в Цюрих с последними двадцатью франками в кармане и временно располагается в доме знакомого музыканта — Александра Мюллера. Вагнер вызывает к себе вернувшуюся в Дрезден Минну - он огорчен и рассержен тем, что та не спешит в дорогу. Он не хочет понять ее чувств, ей же кажется, что случившееся повергло ее в бездну страданий; госпожа придворная капельмейстерша превратилась в нищенку — то, чего она так боялась; поведение Вагнера в ее глазах - легкомысленно, безответственно, преступно. В этот момент их брачный союз внутренне распался, хотя Минна в конце концов и согласилась последовать за своим супругом в Цюрих. Средства на поездку ссудил все тот же Лист. Однако Вагнер как-то перерос в это время свою Минну — он созрел для новых эротических приключений, тогда как Минна, сорокалетняя женщина, утомленная, безвременно увядшая, к тому же по своему умственному уровню, как говорится, дремучее существо, никак не могла соревноваться со своим энергичным, полным жизненных сил мужем. Так или иначе, она все же явилась в Цюрих — с "сестрой" Натали, с собакой и попугаем из дрезденской квартиры; необычайно хозяйственная, она и в Цюрихе быстро налаживает скромное, но уютное гнездышко. Изгнанники скоро находят контакт с новыми друзьями, общение с которыми приобретает оживленный характер. Среди них — государственный секретарь Якоб Зульцер, писатель Готфрид Келлер, тогда еще никому не ведомый, журналист Бернгард Спири, музыканты Александр Мюллер и Вильгельм Баумгартнер, архитектор Готфрид Земпер, поэт Георг Гервег. Оставалась одна жгучая проблема — на какие средства жить.
Что касается ответа на этот вопрос, то план Вагнера был прост и радикален; он никогда и не отступал от него. Вагнер решил, что никогда больше не будет зарабатывать на хлеб музыкой, потому что этим он грешит против своего призвания. Его дело—создавать непреходящие ценности, и пусть мир позаботится о том, чтобы у него был и хлеб насущный, и все мыслимые удобства. Это надо каким-то образом устроить - то ли найти государя, преданного искусству, то ли меценатов, способных идти на жертвы, то ли еще как-то организовать дело. Вагнер запрашивает Листа, не уговорит ли он великого герцога Саксен-Веймар-ского заключить с ним такой договор: тот будет платить Вагнеру ежегодный пенсион, а Вагнер предоставит придворному театру в Веймаре право первого исполнения своих новых произведений. Однако дело не движется с места, потому что после всего случившегося Вагнеру трудно было рассчитывать на благосклонность немецких государей. Затем Вагнер выражает пожелание, чтобы его дрезденский друг Гейне начал пропагандировать среди почитателей его искусства идею создания обширного фонда в поддержку его, Вагнера, и он очень удивлен, когда узнает, что в обществе пока не чувствуется симпатии к "человеку с баррикад". Однако дрезденская приятельница Юлия Риттер предлагает изгнаннику ежегодный пенсион в размере 500 талеров, а одна богатая англичанка, миссис Тейлор, с которой Вагнер познакомился у Риттеров в Дрездене, готова ежегодно переводить ему сумму в три тысячи франков. Веймарский же театр предлагает ему аванс в размере пятисот талеров в уплату за будущую оперу "Зигфрид", краткое либретто которой у Вагнера уже готово — Вагнер обещает представить партитуру в течение года. Итак, прожиточный минимум обеспечен.
Однако переживания последнего года подвели Вагнера к острому внутреннему конфликту. По-видимому, он и сам не предполагал всей его глубины. Свободный теперь от бремени обязательств, он был полон решимости отдаться делу, но тут сработали какие-то тормоза, и вместо творчества Вагнер пустился в теорию. Еще летом 1849 года он написал статью "Искусство и революция", где попробовал найти общую формулу для своего столкновения с миром. Следующие два года были в основном заняты созданием двух обширных работ: "Художественное произведение будущего" и "Опера и драма". Здесь художественные идеи Вагнера излагаются пространно; обе работы имеют фундаментальное значение — в них Вагнер попытался прояснить для себя, исторически и эстетически, идеалы, инстинктивно разделявшиеся им, и поставить совершенно новые цели перед собственным художественным творчеством. О них мы будем говорить в свой черед, как и о сочинении под названием "Еврейство в музыке", вышедшем под псевдонимом "К. Фрейгеданк", то есть "Вольномыслящий", — это сочинение вызвало большой шум, и авторство Вагнера не долго оставалось тайной.
Вообще же у Вагнера было множество оперных проектов, и один из них, уже упомянутый "Зигфрид", приобрел гигантские масштабы, когда Вагнер соединил легенду о Зигфриде с мотивами германских сказаний о богах. Сначала Вагнер написал драму "Смерть Зигфрида", однако выяснилось, что необходимо предварить ее другой — "Юным Зигфридом". Брунгильду, которую Зигфрид пробуждает в последнем действии ото сна, тоже нужно было предварительно ввести в драму -получилась "Валькирия", а поскольку бог Вотан в этой драме оказывается в очень сложной ситуации, то надо было показать и ее предысторию — "Золото Рейна". Вагнер в дрезденские годы, помимо всего прочего, интенсивно штудировал греческую трагедию, прежде всего Эсхила и Софокла, и форма трилогии - теперь он расширил ее до тетралогии — представлялась ему изначальной формой драмы вообще. Теоретическая мысль Вагнера тоже исходит из такой греческой праформы драмы, причем не столько вагнеровский план тетралогии зависит от теории, сколько его теория — от постепенно вызревающего замысла тетралогии.
Впрочем, замысел будущего "Кольца нибелунга" сложился пока лишь в самых основных чертах. Вагнер, с его безошибочным инстинктом, боролся с искушением приступить к работе очертя голову — он еще не чувствовал себя достаточно свободным или зрелым для такого труда. Внутреннее беспокойство отражается в противоречивых решениях. В феврале 1850 года он вновь в Париже, обдумывает, несмотря на все сомнения, возможность создания французской оперы, а зацепкой для него служит вынашиваемый здесь план постановки "Тангейзера". Однако единственным результатом поездки стало фантастическое приключение; недоставало малого, чтобы Вагнеру вновь пришлось сломя голову бежать прочь. В мемуарах Вагнер ограничивается легкими намеками на то, что тут произошло, но письма Вагнера и Минны хорошо иллюстрируют ситуацию, чтобы понять, в чем дело. Когда Вагнер познакомился в Дрездене с миссис Тейлор, той самой, которая предложила Вагнеру ежегодный пенсион, при ней находилась дочь Джесси — на обеих Вагнер произвел сильнейшее впечатление, прежде всего как автор "Тангейзера". Джесси, бывшая замужем за виноторговцем Лоссо, как только узнала, что Вагнер находится в Париже, пригласила его посетить их дом в Бордо. Вагнер принял приглашение и три недели провел у Лоссо, непрерывно музицируя с Джесси, превосходной пианисткой, способной к тому же понять и литературные замыслы Вагнера. Кажется, оба они почувствовали страсть друг к другу. Вернувшись в Париж, Вагнер сообщил Минне о своем окончательном решении расстаться с нею и "бежать от мира". Минна пришла в ужас и, кажется, поняла, что означало это "бегство от мира"; она немедленно отправилась в Париж, но Вагнер велел своему другу Китцу сказать, что его уже нет здесь. Он и на самом деле поехал в Женеву, чтобы дожидаться тут новых известий. Минна была права: Вагнер предложил Джесси бежать с ним в Грецию или в Малую Азию, чтобы начать там новую жизнь — подальше от испорченного европейского мира, — и Джесси, кажется, уже была согласна. Между тем миссис Тейлор почуяла неладное и сделала все возможное, чтобы вразумить дочь. Лоссо, узнав обо всем, поклялся убить мерзавца. Вагнер, которому Джесси послала короткий отказ, едет в Бордо, чтобы объяснить ревнивому супругу (как видно, Вагнер твердо полагался на свое красноречие!), что у него нет прав на жену, которая любит другого. Однако семья Лоссо покинула город, а полиция, как только Вагнер прибыл сюда, дала понять Вагнеру, что ему нечего здесь делать — он обязан немедленно оставить Бордо. Вот бесславный конец всей аферы. Вагнер, надеявшийся, что его "бегство от мира" оплатит миссис Тейлор (предстоял срок выплаты пенсиона), после некоторых колебаний возвращается домой и заключает перемирие с Минной. Зато пенсиона миссис Тейлор он лишился навсегда. Однако ангел-хранитель и на этот раз спас его, как раньше спас от каторги, к которой были приговорены Хейбнер и Рёкель. Бакунина тогда выдали русскому правительству, которое сослало его в Сибирь.
Еще одно событие знаменовало начало нового поворота в судьбе Вагнера. В августе Лист поставил в Веймаре "Лоэнгрина", и эффект, произведенный спектаклем, был впечатляющим. Нужно было обладать мужеством, чтобы поставить на придворной сцене произведение композитора, которого преследовала полиция! Однако впечатление, произведенное вещью, оправдывало риск. А тот факт, что небольшой театр мог успешно осуществить премьеру оперы Вагнера, вдохновил предприимчивых директоров: теперь можно было пробовать взяться за то или иное произведение Вагнера, о которых так много говорили и писали — о последнем позаботились Лист и сам Вагнер. Сначала Тангейзер", а за ним "Лоэнгрин" завоевывали театр за театром; обе оперы вошли в постоянный репертуар — редкий случай в ту пору, когда немецкая опера развивалась очень вяло.
За двумя этими операми последовал и "Летучий голландец", а за ним-"Риенци"; последней опере пришлось труднее ввиду сложности постановки. Хотя доходы от спектаклей и не были значительными (мы уже объяснили причины этого) — Вагнер, продавая партитуру очередному театру, получал 20-30 наполеондоров, — однако дивиденды эти были постоянны. Другое дело, что деньги в его руках таяли как снег: он не умел придержать их. Столетием позже он уже и на этой стадии своей карьеры жил бы как Крез. Через десять лет после премьеры "Лоэнгрина" Вагнер гордился тем, что он единственный немец, кто еще не слышал этой оперы: он не мог и думать показаться в Германии.
Цюрихским друзьям Вагнера тоже хотелось услышать что-нибудь из его произведений. Вагнера уговорили давать симфонические концерты, прежде всего с симфониями Бетховена, хотя местные музыканты были слабы. А необдуманная рекомендация, данная Вагнером Карлу Риттеру, сыну Юлии Риттер, — тот благодаря этой протекции стал музикдиректором Цюрихского театра и на этом посту совершенно провалился, — вынудила Вагнера дирижировать в этом театре, выручая своего протеже. Визит Ганса фон Бюлова, тоже друга Карла Риттера, спасает Вагнера: Бюлов берет в руки дирижерскую палочку, и тут оказывается, что он — прирожденный капельмейстер, с ним заключают контракт. Так начинается карьера Бюлова-дирижера, о которой он страстно мечтал, так что лишь несогласие родителей удерживало его от дирижерской деятельности. Скромный цюрихский театр не доставляет радости Вагнеру, но он все же соглашается на постановку здесь "Летучего голландца", а затем, в мае 1853 года, устраивает даже маленький фестиваль: в течение трех вечеров музыканты (по большей части приглашенные из Германии) исполняют под его управлением фрагменты из "Летучего голландца", "Тангейзера" и "Лоэнгрина" — дорогостоящая затея, имевшая чрезвычайный успех. В итоге Вагнер оказался в центре внимания всей Швейцарии.
Этот фестиваль был последним практическим начинанием Вагнера в то время. Неожиданно, после пятилетнего промежутка, открылись шлюзы творчества, и все остальное отступило на задний план. Текст "Кольца нибелунга" ("Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид", "Гибель богов") был завершен Вагнером в ноябре 1852 года. Композитор все еще продолжал сомневаться, чувствовал неуверенность перед лицом столь колоссального замысла. После перерыва в творческой деятельности он не вполне полагался на свою фантазию и ждал стимулов от давно желанной поездки в Италию. Вагнер через Турин отправился в Геную, а оттуда в Специю; здесь он заболел лихорадкой. "Я погрузился в какое-то сомнамбулическое состояние, — рассказывал он, — мне все казалось, что я тону в реке с быстрым течением. Вода шумит, и шум ее складывается в ми-бемоль-мажорный аккорд, звучащий в непрерывной фигурации; фигурация все убыстряется и складывается в мелодическое движение, но чисто ми-бемоль-мажорное трезвучие продолжает звучать и словно придает бесконечное значение той стихии, в которую я погружаюсь. Я с ужасом пробуждаюсь от полудремы, потому что мне вдруг кажется, что волны прокатываются высоко над моей головой. Проснувшись, я сразу же понимаю, что мною найдено наконец оркестровое вступление к "Золоту Рейна", с которым я долго носился, но которое никак не мог обрести; теперь я сразу понял одну свою особенность: поток жизни должен поступать ко мне не извне, а изнутри".
Вагнер прервал поездку и кратчайшим путем вернулся в Цюрих. В Базеле он встретил Листа и проводил его в Париж; это вызвало задержку, которая, собственно, была некстати Вагнеру. Однако в начале ноября 1853 года Вагнер приступил наконец к сочинению музыки.
Лихорадочно работая, он за десять недель закончил клавир "Золота Рейна" — спустя пять месяцев была готова партитура. В июле 1854 года Вагнер начал "Валькирию" и к концу года завершил ее вчерне.
Затем наступила пауза. Вагнера соблазнил высокий гонорар, и он отправился в Лондон, чтобы продирижировать там "сезоном" филармонического общества, то есть серией из восьми концертов с двухнедельным перерывом между ними. Такое предложение интересно тем, что свидетельствует о европейской славе Вагнера. Он прибыл в Лондон в начале марта и тут же пожалел, что приехал: в его распоряжении был хороший оркестр, но времени на репетиции отводилось очень мало, программы не отвечали вкусу Вагнера, лондонская критика отличалась неприязненным тоном, климат был невыносим. Публика сердечно принимала Вагнера и его музыку - фрагменты из "Лоэнгрина" и увертюру к "Тангейзеру". Увертюра была вторично включена в программу по личной просьбе королевы Виктории, которая вместе с принцем Альбертом посетила один из концертов Вагнера. С поездкой в Англию был связан один творческий момент — более близкое знакомство с Гектором Берлиозом, который дирижировал концертом конкурирующей организации — New Philharmonic Society. У Вагнера завязался с Берлиозом личный контакт, хотя они почти не понимали друг друга. Когда Вагнер передает свои споры с Берлиозом, то невольно выступает в комическом свете, поскольку не замечает иронии, с которой французский коллега реагирует на его словоизвержения. “Я попытался охарактеризовать силу, с которой жизненные впечатления воздействуют на нашу душу — мы оказываемся как бы пленниками таких впечатлений, до тех пор пока в нас не вызревают самые сокровенные силы души, вызванные к жизни отнюдь не этими внешними впечатлениями, но лишь пробужденные ими ото сна; когда эти силы вызревают, мы освобождаемся от внешних впечатлений, отделываемся от них, так что художественное целое даже представляется нам тогда не следствием жизненных впечатлений, а, напротив, освобождением от них. Тут Берлиоз улыбнулся, как бы снисходительно и с пониманием, и сказал: "Nous appelons celd; digerer". Должно быть, Берлиозу казались смешны вагнеровские словоизлияния!
В Лондоне же произошла встреча с Карлом Клиндворгом, учеником Листа, превосходным пианистом, который взялся подготовить клавир "Золота Рейна". По-видимому, крайне неприятна была встреча с Мейербером, на которого Вагнер столь грубо нападал в своих статьях. "Едва Мейербер увидел меня, как лишился дара речи, вследствие чего и я сам оказался в таком положении, что мы оба не могли вымолвить ни слова... Говард [общий знакомый, в доме которого произошла эта встреча. - Авт.] покачал головой, не понимая, отчего два больших композитора столь странно ведут себя".
Отработав положенные восемь концертов, Вагнер был счастлив покинуть пасмурный остров. Прерванная работа над партитурой "Валькирии" шла медленно. Однако в марте 1856 года чистовая партитура все же была готова. Спустя полгода Вагнер приступил к сочинению "Зигфрида", но дело шло вперед не без внутреннего сопротивления. Первый акт был завершен в феврале 1857 года, Вагнер набросал черновик второго действия и, не переходя к работе над партитурой, решил отложить эту работу на потом.
И внешние, и внутренние причины в равной мере определили такое его решение. Как только Вагнер приступил к разработке тетралогии, перед ним встала проблема исполнения такого грандиозного произведения с его небывалыми сценическими требованиями. Эта проблема оставалась центральной для него. Быть может, даже маленький цюрихский фестиваль был организован Вагнером для того, чтобы посмотреть, можно ли пойти в Швейцарии на риск большого предприятия, можно ли собрать здесь необходимые творческие силы. Из письма Вагнера дрезденскому другу Теодору Улиту можно понять, в каком направлении работала мысль Вагнера: "Чтобы реализовать самое лучшее, самое значительное и существенное, что только могу создать я при настоящих условиях, чтобы осуществить свою жизненную задачу, мне потребна сумма- ну, скажем, в десять тысяч талеров. Если бы я мог распоряжаться такой суммой, я устроил бы следующее: здесь, где я нахожусь и где, собственно говоря, многое не так уж дурно, я построил бы на прекрасном лугу близ города остов театра из досок и балок по моему проекту, — самый остов, но только с декорациями и машинами, необходимыми для исполнения "Зигфрида". Потом бы я набрал в разных городах подходящих певцов и пригласил их на шесть недель в Цюрих; хор я составил бы из здешних любителей — тут есть и замечательные голоса, и здоровые, крепкие люди. Оркестр я тоже собрал бы со всех мест. Начиная с нового года я через все немецкие газеты направил бы приглашения друзьям музыки посетить предполагаемое музыкальное торжество... Коль скоро все было бы в полном порядке, я устроил бы три спектакля; после третьего спектакля театр был бы разобран и я сжег бы свою партитуру... Не кажусь ли я тебе безумцем? Может быть, и так, но уверяю тебя, что именно в этом я и полагаю всю надежду моей жизни, только такая перспектива и может заставить меня создавать произведение искусства. Итак, достаньте мне десять тысяч талеров! Больше мне ничего не надо!"
Великолепный жест — сжигание партитуры — может вызвать улыбку, тем более что едва ли он был задуман вполне серьезно, но можно поразиться той последовательности, с которой этот одержимый человек придерживался своего проекта (высказанного в процитированном письме как бы в форме импровизации), осуществив его на деле двадцатью пятью годами позже! Притом именно с тем произведением, которое в момент написания письма существовало лишь в виде чернового эскиза, потому что байрейтский театр был построен для постановки "Кольца нибелунга". Однако десяти тысяч талеров в те времена нельзя было раздобыть, да и стоимость целого наверняка в несколько раз превысила бы эту сумму; поэтому, когда Вагнер работал над "Зигфридом", он давно уже отказался от замысла осуществить свой план в Цюрихе. Вагнер часто виделся в эти годы с Листом, которого вдохновляли партитуры "Золота Рейна" и "Валькирии"; Лист, наверное, высказал Вагнеру свои сомнения, связанные с возможностью постановки всей тетралогии. "Золото Рейна" и "Валькирия" — два произведения, в которых запечатлелся первый творческий порыв Вагнера. "Валькирия" — это экстаз, это глубоко волнующая человеческая трагедия; приступив к "Зигфриду", Вагнер, должно быть, не нашел в себе столь же интенсивного чувства. Напряжение, видимо, чуть-чуть спало, как ни захвачена была фантазия Вагнера образом юного Зигфрида. Главные сцены с его участием в первом и втором действиях - в кузнице, в лесу - были основными источниками вдохновения для композитора. Лейпцигское издательство "Брейткопф и Гертель" издало партитуру "Лоэнгрина", но никак не решалось издать "Кольцо"; по всей видимости, это обстоятельство и сыграло решающую роль. Вагнер пишет Листу 28 июня 1857 года: "Мои муки с Гертелями кончились, потому что я решил отказаться от продолжения "Нибелунгов". Я завел моего Зигфрида в прекрасный лес и оставил его там в одиночестве, под липой, в слезах распрощавшись с ним; ему там будет лучше... Право же, нужен был этот спор с Гертелями — первое соприкосновение с миром, который так или иначе должен обеспечить реализацию моего начинания, — чтобы заставить меня призадуматься и показать мне, какая химера весь мой замысел".
Однако произошло и нечто иное — новый сюжет овладел фантазией музыканта, сюжет, занимавший его воображение еще в Дрездене. Теперь Вагнер достаточно созрел, чтобы приняться за его разработку. Этот сюжет - "Тристан и Изольда". Вечный фантазер, Вагнер, наслушавшись заезжего болтуна, наговорившего ему об интересе бразильского императора Дон Педро к его музыке, тотчас же построил свой план... Как сообщал Вагнер Листу, он задумал "произведение малых масштабов, что облегчит его постановку". "Кроме того, с ним связан еще один любопытный замысел: я думаю о том, чтобы перевести это произведение на хороший итальянский язык и предоставить право первого исполнения театру в Рио-де-Жанейро (который, должно быть, еще прежде поставит Тангейзера"). Я посвящу его бразильскому императору, который в ближайшее время получит экземпляры трех моих опер. Надеюсь, что этот план доставит мне средства, чтобы какое-то время жить припеваючи". Экземпляры опер в роскошном переплете были вручены болтуну — мнимому бразильскому консулу — для передачи императору, и как же, должно быть, изумлялся император такому неожиданному подарку - если только получил его! Во всяком случае, Вагнер никогда больше не слышал ни о консуле, ни о бразильском монархе, ни об экземплярах своих опер.
Как известно, Вагнер ошибся и в другом, предположив, что "Тристан" будет простой для исполнения оперой. Снова вагнеровский творческий гений овладел им - гений, не ведающий снисхождения ни к театру, ни к жизни. К этому времени Вагнер вновь пустился в страстную любовную аферу, а к весне 1858 года наступил кризис.
Супруги Везендонк, Отто и Матильда, долгие годы принадлежали к вагнеровскому кружку, Отто Везендонк, богатый предприниматель из Рейнланда, поселился в Цюрихе вместе с молодой супругой и двумя детьми; великодушный меценат Вагнера, вечно испытывавшего денежные затруднения, он был щедрым другом, всегда готовым прийти на выручку — особенно после того, как поступления от Риттеров прекратились. Он-то главным образом и финансировал вагнеровский фестиваль в Цюрихе. За городом, но совсем близко от него, Везендонки построили себе роскошную виллу, а на территории ее — простой домик, который и был предоставлен в распоряжение Вагнера. Тот назвал его своим "убежищем", въехал сюда на пасху 1857 года вместе с Минной и рассматривал его как родной уголок, где проживет до самой смерти. "Десять дней назад, — пишет он Листу 8 мая, — мы поселились в этом домике рядом с виллой Везендонков, и я обязан этим великодушному участию друзей... Все устроено и обставлено так, чтобы удовлетворить все желания и потребности, все стоит на своих местах. Мой кабинет обставлен с известным тебе педантизмом и с изящным уютом: письменный стол стоит у большого окна, откуда открывается великолепный вид на озеро и Альпы; меня окружает ненарушимый покой. Красивый, искусно возделанный сад—место для отдыха и небольших прогулок; моей жене он предоставляет случай к приятным занятиям, чтобы отвлечься от фантазий на мой счет, потому что растущие там овощи претендуют на ее нежнейшую заботу. Как видишь, прекрасное место, чтобы жить в одиночестве, и если подумать, как долго мечтал я о подобном и как трудно было надеяться на это, то я ощущаю в себе потребность признать в добрейшем Везендонке одного из величайших своих благодетелей".
Мы-то знаем, как расплачивается Вагнер с благодетелями! В мемуарах он весьма недружелюбно отзывается о "добрейшем Везендонке", хотя о своих отношениях с Матильдой он там не распространяется. А это была страстная любовь, как можно заключить по письмам сестре Кларе, которая, когда дело подошло к развязке, приняла сторону Минны. "В течение этих шести лет меня, хотя я жил рядом с Минной (несмотря на всю чудовищную разницу наших характеров и натур), хранила, утешала, мне даже придавала силы любовь этой юной женщины, которая поначалу робко, с сомнениями, с колебаниями, а потом все определеннее и увереннее сближалась со мной... Она со времени самого первого нашего знакомства неустанно и тактично заботилась обо мне, все, что только могло облегчить мою жизнь, она сумела получить от своего мужа... Ее величие в том, что она никогда не скрывала от мужа своих сердечных тайн и наконец убедила его отрешиться от всяких прав на нее. Какие жертвы вынуждена была принести она, какие бури претерпела, нетрудно понять!.. Его сжигало пламя ревности, и все же всякий раз она умело привлекала его внимание ко мне, и благодаря этому он, как ты знаешь, часто материально поддерживал меня; когда же стало необходимо приобрести для меня домик с садом, именно она—это стоило ей неслыханных усилий—убедила его купить для меня
участок земли рядом с их виллой... Вот неслыханный успех прекрасной любви чистейшего, благороднейшего существа... Но мы понимали, что не можем и думать о том, чтобы связать наши судьбы, и мы отреклись от мечты, отказались от себялюбивых желаний, мы терпели, страдали, но мы любили!.." Отречение — это идея шопенгауэровской философии, мощное воздействие которой испытывал тогда Вагнер. В противоречии с этой идеей находится иное высказывание Вагнера в письме Матильде — его мы приводим чуть ниже, и едва ли можно понять его неверно. Другое место из письма Вагнера показывает, что он вполне сознавал связь между своим произведением и любовью к Матильде: "Созданием "Тристана" я обязан Вам до глубины души во веки веков",
Автобиографический подтекст отношений Тристана, Изольды и короля Марка не нуждается в пояснениях. Напрасно рассуждать, была ли страсть, охватившая Вагнера, вызвана произведением искусства или же создание "Тристана" следует приписать страсти — непосредственной побудительной причине. Очевидно одно — Вагнер горел как факел. Минна привела действие к развязке: она перехватила письмо и устроила бурную сцену; в "убежище" тоже нельзя было оставаться долее, потому что по городу начали ходить всякие сплетни. Минну отправили на курорт лечить ее больное сердце, а Вагнер поехал в Венецию, чтобы здесь, в одиночестве, завершить "Тристана". На "Тристане" и сосредоточились теперь все его помыслы. Очередной раз устои его жизни были поколеблены. У него опять не было своего дома — так это и будет продолжаться годами.
Когда Вагнер покинул "убежище", первый акт "Тристана" был уже закончен и его гравировали. "Брейткопф и Гертель" приобрели произведение, поскольку "Лоэнгрин" успешно раскупался; они согласились также выплачивать аванс при сдаче каждого очередного действия. В этом Вагнер очень нуждался. В Венецию он прибыл в конце августа 1858 года; здесь во дворце Джустиниани, расположенном на Большом канале, он нашел отвечающую его вкусам обстановку. Судя по письмам, он вел здесь жизнь затворника, всецело отдавался работе и только по вечерам оставлял помещение, чтобы добраться в гондоле до площади Святого Марка. Келья была с удобствами — иначе Вагнер не умел жить. "Я сразу же приложил усилия, чтобы покончить с чопорностью, с неуютом в окружении: я велел снять двери, разделявшие огромную спальную и маленький рабочий кабинет, вместо дверей повешены портьеры, причем из такой же превосходной ткани, что в последнее время в "убежище"... Цвет портьер — красный, соответствующий мебели; только спальная выдержана в зеленых тонах...'' Общается Вагнер лишь с Карлом Риттером, который вместе с ним приехал сюда; но Риттер не мешает ему и только ненадолго заходит по вечерам, а иногда сопровождает на прогулках. Австрийский военный оркестр часто играет музыку Вагнера на площади Св. Марка. У славы есть дурные стороны: в один прекрасный день Вагнера приглашают в полицию и выдают ему разрешение на пребывание здесь в течение лишь нескольких месяцев. Итальянские провинции габсбургской империи не входят в состав Немецкого союза, так что
доя Вагнера нет прямой угрозы. Но австрийские власти не доверяют отъявленному революционеру и хотят, соблюдая приличия, избавиться от него.
Вагнер вновь испытывает острую нехватку средств, и это обстоятельство служит на сей раз причиной охлаждения между ним и Листом. Вагнер прямо-таки требует от Листа выплаты гарантированного ежегодного пособия, и пусть сам Лист ищет, откуда его взять. Но великодушный Лист вынужден разочаровать своего друга, так как и сам переживает в это время кризис и должен распрощаться со своим веймарским положением. Он бурно восторгается первым действием "Тристана", прочитанным в корректуре, но в ответ слышит недовольное ворчание: деньги сейчас важнее восторгов. Это письмо, как и некоторые другие, было купировано при первой публикации переписки. К счастью, бывают непредвиденные поступления, так что в начале марта Вагнер отправляет издателю второй акт и может ждать новой выплаты. В это время между Австрией и Сардинией, находившейся в союзе с Францией, готова была разразиться война (что и произошло летом следующего года). Австрийские власти оказывали известное давление на Вагнера; все это и послужило причиной его отъезда из Италии. Вагнер завершил третье действие в Люцерне, в августе. Ненадолго он заехал к Везендонкам в Цюрих. Эта поездка преследовала свою цель — пресечь, как пишет Вагнер, городские сплетни. Кроме того, визит принес ему заем в 24 тысячи франков, ссуженных под залог законченных частей "Кольца". Отто дал Вагнеру эту сумму, чтобы тот мог поехать в Париж и позаботиться об исполнении там своих произведений. Он знал, что наверняка никогда не увидит ссуженных денег, но радовался, что благодаря этому избавлен от гениального человека, присутствие которого нежелательно.
В Париже Вагнер выступает в возвышенном стиле. Он вызывает к себе Минну, изящно обставляет квартиру, но, правда, о сохранении брачных уз между ними говорить неуместно. У Вагнера свои интересы, и монашеский период остался позади. Вагнер нанимает оркестр и на трех концертах знакомит парижан с фрагментами своих произведений; концерты приносят ему успех и значительный дефицит, еще увеличившийся оттого, что Вагнер, наслушавшись безответственных советов, соглашается повторить эти концерты в Брюсселе. Ведь он всегда любит выслушивать советы, если те льстят его оптимистическому настроению. Однако находятся энтузиасты, способные принести жертвы, а с другой стороны, он продает "Золото Рейна" издательству "Шотт" в Майнце за 10 тысяч франков—про деньги Везендонка он напрочь забывает, едва истратив их. Однако Вагнер никак не может добиться главного, на что он рассчитывал, — заставить раскошелиться богатого мецената, чтобы организовать в Париже немецкий оперный сезон, с "Тангейзером", "Лоэнгрином", "Тристаном и Изольдой" в исполнении лучших немецких певцов. Любитель искусства, на которого целился Вагнер, откупщик Люси из Марселя, рад до небес тому, что может откупиться от Вагнера ценой потери нескольких тысяч франков. Тогда взгляд Вагнера обращается к "Гранд-Опера", где к нему относятся
сурово. Понятно, что указание императора Наполеона III было бы весьма кстати, и Вагнер зондирует почву в дипломатических кругах. И успешно! Княгиня Меттерних, супруга австрийского посла в Париже, близкая подруга императрицы Евгении, может шепнуть слово императору. Она слышала "Тангейзера" в Дрездене и восхищается Вагнером. Чтобы доставить ей удовольствие, император повелевает поставить "Тангейзера". Итак, Вагнер овладел ситуацией!
О трех спектаклях "Тангейзера" в Париже, в марте 1861 года, написано немало — ведь это величайший скандал в истории театра! Ко прошествии времени можно думать, что скрытой причиной скандала послужило столкновение французского и немецкого национальных комплексов — все это бурлескный пролог кровавой трагедии 1870 года. Несомненно, "Тангейзера" хотели поставить с блеском, на какой только способен самый большой оперный театр в мире. Нужным Вагнеру певцам раздали роли, а постановка обещала быть столь пышной и дорогой, какую только мог пожелать Вагнер. И оркестр, и хор были предоставлены в его распоряжение на несколько месяцев. Вагнер сокрушался лишь по поводу дирижера, который отнюдь не соответствовал своей задаче. И ничего нельзя было с этим поделать! Ведь заведенный в парижской опере порядок налагал запрет на самое естественное — нельзя было передать управление в руки автора. Ганс фон Бюлов находился в те дни в Париже; он называет дирижера "жалкой скотиной, глупым стариканом, лишенным памяти и неспособным обучаться, как показали несчетные репетиции, устроенные, собственно, лишь ради того, чтобы хоть чему-то научить его". И вот абсурдный момент: этим дирижером был Пьер-Луи-Филипп Дич, сочинитель оперы "L-e Vaisseau Fantome", либретто которой за 20 лет до того было скроено .для него по вагнеров-ским эскизам!
Но не бездарный дирижер вызвал катастрофу, а конфликт интересов и взглядов — тут был немыслим компромисс. В Париже балет по традиции являлся непременной частью оперного спектакля и по традиции же балетным сценам отводилось место во втором действии, потому что у аристократов было принято показываться в опере после обеда, после десяти часов вечера. Как сообщает Берлиоз (в одной из статей) .танцовщицам за выступления не платили, рассматривая их деятельность в театре как любительство. А покровители, у которых они находились на содержании, как правило, относились к высшим кругам аристократии. Эти завсегдатаи, конечно, не хотели лишаться самого лакомого кусочка в спектакле. Вагнеру с самого начала говорили о том, что без балета во втором действии никак не обойтись, но он стойко сопротивлялся и не желал идти на уступки Руайе, директору оперы. Вместо этого он предлагал расширить первую сцену, включив в нее большую балетную пантомиму. Вагнер пишет: "Ни одна беседа с этим человеком не обходилась без напоминаний о балете во втором действии; мое красноречие оглушало, но не убеждало его". Вагнер всегда очень печалился, когда его ораторские труды пропадали втуне.
Механизм парижской оперы работал с натугой. В течение лета 1860 года либретто переводили на французский; Вагнер одновременно переделывал, и весьма основательно, сцену в гроте Венеры, сочиняя "Вакханалию"; он внес перемены и в сцену состязания певцов и был не очень удовлетворен ими. Начиная с осени и в течение всей зимы шли репетиции "Тангейзера". Не только бесталанного дирижера возмущало высокомерие Вагнера. В таких ситуациях не обходится без конфликтов, а Вагнер был нетерпеливым режиссером. Можно понять его доводы против балетных сцен, но надо сказать, что он не причинил бы вреда своему произведению, если бы уступил традициям "Гранд-Опера" и разрешил вставить в парижский спектакль хотя бы балетную музыку из "Риенци", где много танцуют. Верди, современник Вагнера, всегда уступал в таких случаях; в парижской постановке даже в "Отелло" исполнялась балетная музыка. Правда, Верди смотрел на театр наивнее и проще. От этого он ничего не потерял. А Вагнер твердо стоял на своем, и это соответствовало его характеру, самому существу его небывалого дарования. Он должен был расплачиваться за это — вот роковая судьба, причем для осведомленных людей все это не было неожиданностью уже и тогда.
В Париже существовала оппозиция "Тангейзеру", с самого начала твердо решившая утопить спектакль в шуме. Члены аристократического "Жокей-клуба" — владельцы абонементов оперы, пользовавшиеся в ней большим влиянием, — взяли на себя исполнительскую часть: принесенные ими охотничьи свистки послужили аргументом, которому нечего было противопоставить. Полиция не вмешивалась, поскольку императорский режим привык к деликатному обращению с монархически настроенной аристократией. Скандал нарастал от спектакля к спектаклю; после третьего Вагнер забрал из театра свою партитуру. Он потерял полтора года, а театр — немалую сумму, затраченную на постановку "Тангейзера".
Однако Вагнер завязал связи в дипломатическом мире, и это повело к событию, не лишенному значения. Осторожные запросы с прусской и австрийской стороны возымели то действие, что саксонское правительство пошло на попятную (иначе этого никак невозможно было достигнуть!): Вагнер был амнистирован, теперь, после двенадцати лет изгнания, он мог ступить на немецкую землю.
Странник. 1861-1864
Жизнь Вагнера в эти годы подобна кошмару. Он сам стал "летучим голландцем" и носился по морю без руля и без ветрил, не зная ни покоя, ни домашнего очага. Две цели твердо стояли перед Вагнером, и он с железной решимостью преследовал их. Одна — исполнение "Тристана". Другая — обретение времени и покоя для создания нового большого произведения. Со времени окончания "Тристана" прошло два года; за это период не было сделано ничего, кроме переделки "Тангейзера" для Парижа. А теперь вновь вдохновение посетило Вагнера: непостижимо, с какой уверенностью Вагнер всякий раз знал, что в нем свершилось чудо творчества и что это чудо породит нечто великолепное, величественное. Другой человек хранил бы это в тайне, а Вагнер экспансивен и готов рассказывать о чуде любому встречному. Матильда Везен-донк, видимо, первой узнала о новом чуде, потому что Вагнер вытребовал дрезденский эскиз "Мейстерзингеров", оставленный в цюрихском доме.
В 1861 году Вагнер случайно заехал в Нюрнберг, и теперь в нем “словно зазвучала увертюра к "Нюрнбергским мейстерзингерам"”. "В венской гостинице я на удивление быстро набросал сценарий оперы, с удовольствием отметив про себя, что память моя по-прежнему ясна, воображение—живо и деятельно". Корнелиус разыскал для Вагнера в Венской придворной библиотеке самый, главный исторический источник — "Книгу о сладостном искусстве мейстерзингеров" Иоганна Кристофа Вагензейля (1697). В декабре Вагнер вернулся в Париж и в течение четырех недель завершил текст нового произведения. Во время одной из прогулок он записал мелодию хора "Wach auf", которая как раз пришла ему в голову. Он пишет Матильде: "Вы подивитесь на моих мейстерзингеров!" Он уже отошел от сентиментального "тристанов-ского" стиля венецианского времени и перешел с Матильдой на "вы". "Держитесь, а то влюбитесь в старика Сакса! Чудесная работа — в прежнем эскизе я нашел мало дельного или вовсе ничего". И он не может удержаться, чтобы не приписать: "Да, надо побывать в раю, чтобы знать, что заключает в себе такой сюжет".
В день своего рождения, 22 мая, он пишет Матильде: "Мне вдруг пришла идея оркестрового вступления к третьему действию "Мейстерзингеров". Волнующая кульминация наступает в этом действии в тот момент, когда Сакс поднимается перед собравшимся народом и народ встречает его возвышенной бурей восторгов. Народ поет — торжественно и радостно — первые восемь стихов из Саксова стихотворения в честь Лютера. Музыка уже написана. Теперь же, во вступлении к третьему действию, когда поднимается занавес, Сакс сидит погруженный в глубокие раздумья — тут басовые инструменты исполняют тихий, мягкий, глубоко меланхолический пассаж, это величайшее отречение; тут, как благая весть, вступает исполняемая валторнами и звучными духовыми инструментами торжественная и радостно-светлая мелодия хора "Wach auf!", она нарастает и звучит уже во всем оркестре. Мне стало ясно, что моя работа станет совершенным шедевром, стало ясно и то, что я закончу ее". В тот же день Вагнер пишет своему молодому другу Венделину Вейссхеймеру: "С сегодняшнего дня, с утра дия моего рождения, я знаю, что мои "Мейстерзингеры" станут шедевром".
Однако мы опередили события. После скандала с "Тангейзером" Вагнер, которому отныне не был заказан въезд в Германию, незамедлительно предпринял решительные шаги, чтобы добиться исполнения "Тристана". Он давно уже зарился на Карлсруэ: великий герцог Баден-ский был расположен к Вагнеру, и "Тангейзер", и "Лоэнгрин" входили в репертуар придворного театра. Но недоставало исполнителей главных партий, и Вагнер отправился в Вену, чтобы по поручению придворного театра Карлсруэ договориться с нужными певцами. Венский придворный капельмейстер Эссер, давно связанный с Вагнером, первым делом пригласил его на спектакль "Лоэнгрина" - Вагнер впервые услышал свою оперу. Его чувства не поддаются описанию: "Весь спектакль, на котором я присутствовал, - пишет Вагнер, - превратился в сплошную овацию; только в Вене и можно испытать такое. Мне хотели показать и две другие мои оперы, но мне как-то страшновато было вновь пережить то, что испытал я в этот вечер. Кроме того, мне были известны слабости здешней постановки "Тангейзера", и я согласился лишь на более скромного "Летучего голландца", главным образом потому, что мне хотелось послушать певца Бека, блиставшего в этой опере. Но и на этот раз публика выражала мне свою радость, теперь, на волне всеобщей благожелательности, я мог подумать и о своем главном деле". Но это было не так-то просто: интендантов венского театра невозможно было уговорить предоставить отпуск певцам, чтобы те могли поехать в Карлсруэ; напротив, Вагнеру предложили уступить премьеру "Тристана" Венской опере, коль скоро здесь есть подходящие певцы. На том сошлись, и премьера была назначена на ближайший сезон 1861/62 года,
Но тут начались затруднения. Госпожа Мейер-Дустман, предполагаемая Изольда, учит свою роль охотно, с рвением, но Алоис Андер — Тристан мучается горлом; репетиции, едва начавшиеся, приходится прервать. В этот промежуток времени Вагнер возвращается в Париж, пишет текст "Мейстерзингеров" и непосредственно после этого читает его нескольким друзьям в доме издателя Шотта в Майнце. Шотт уже приобрел права на издание произведения. Автор — это вполне в духе Вагнера — специально ради этого важного события вызвал к себе своего друга Петера Корнелиуса из Вены - деньги на поездку выдал тому, и тоже по поручению Вагнера, другой венский приятель, врач Штандхартнер. Очень изящно Вагнер рассказывает об этом Матильде: "Я впервые читал драму в Майнце у Шоттов, 5 февраля, — я был вынужден отказаться от мысли прочитать ее Вам первой. Но надо было подумать, кем заменить Вас, и я перед отъездом из Парижа написал Корнелиусу в Вену (Вы со временем больше узнаете о нем), чтобы тот вечером 5 числа непременно был у Шотта в Майнце, а то я снова буду с ним на "вы". И все пошло как в шиллеровской "Поруке": реки вышли из берегов, многие поезда не ходили, повсюду опасности. Но все напрасно: ровно в семь часов 5 числа мой Корнелиус был в Майнце, на следующий день он отбывает в Вену! А вы должны знать, что он страшный бедняк, он дает массу уроков, чтобы заработать хотя бы 40 гульденов. Но — он любит меня..."
Вагнер побудил издателя выплачивать ему авансы и поселился в Бибрихе неподалеку от Майнца, чтобы работать в тиши. Он в последний раз пробует жить вместе с Минной. Из этого ничего не выходит — одни скандалы, супруги окончательно расстаются. Минна уезжает в Дрезден, Вагнер обещает выплачивать ей тысячу талеров в год и, насколько может, выполняет это обязательство. Иной раз расплачиваться приходится его врачу и другу доктору Пузинелли в Дрездене — Вагнер (еще с дрезденских времен) и без того по уши у него в долгах.
Финансовые проблемы Вагнера давно стали неразрешимыми. В пору создания "Голландца" 500 франков еще были для него реальной подмогой, а теперь сумма в десять раз больше - что капля, упавшая на горячий камень. Бессмысленно подсчитывать суммы, которые прошли через его руки в годы парижской авантюры с "Тангейзером". Он вечно снимает суммы вперед, при этом оставаясь оптимистом. Если отвлечься от этого, то он распоряжается полученными займами без малейшего смущения - он готов истратить последний талер друга на что придется.
В 1859 году он направляется в Париж с круглой суммой в кармане (заем Веэендонка), а уже через несколько месяцев делает попытку занять деньги у Тихачека в Дрездене: "На будущий год "Тристан" принесет мне много денег, и парижский "Тангейзер" — тоже; сейчас же я в безвыходном положении. Весной я твердо рассчитываю на 5000 франков, которые мне хотелось бы получить вперед — это венский гонорар за "Тристана". Они горят нетерпением приобрести эту оперу, но я не могу отдать ее им, прежде чем не исполню сам... Не знаешь ли, кто мог бы ссудить мне 5000 франков? Неужели же невозможно немедленно раздобыть для меня такую весьма реальную сумму в счет будущего — вполне гарантированного (судя по опыту прежнего) дохода? Я действительно в большом затруднении — с тенденцией к возрастанию (только я не могу никому показать это здесь). а потому заранее прилагаю расписку — может быть, этого будет достаточно на первый случай. Если заем нельзя получить единовременно, то я удовольствовался бы на первое время половиной, с тем чтобы получить остаток до конца года, но вполне успокоит меня только вся сумма".
Живя в Бибрихе, Вагнер опять страдает от отсутствия денег. Тогда, 9 сентября 1862 года, он пишет другому певцу, Людвигу Шнорру— исполнителю Лоэнгрина и Тангейзера в Карлсруэ: "Вот Вам случай доказать великим усердием, что Вы — мой. Вы находитесь в таком положении, когда можете помочь мне либо из собственных средств, либо поручившись за меня — этим Вы будете способствовать тому, что моя жизнь пойдет в нужном, окончательном направлении. Чтобы достигнуть своей цели, мне необходимы 1500—2000 талеров, из них по крайней мере тысяча немедленно... Многое зависит от того, что Вы на это скажете". За несколько месяцев до этого Вагнер в том же тоне писал графине Пурталес, супруге прусского посланника в Париже: "Мой милостивейший друг, поймите, что лишь благороднейшая забота заставляет меня забыть естественную робость и обратиться к Вам с самой сердечной просьбой каким-то образом прийти мне на помощь, ссудив 1200 талеров. Смею предполагать, что с окончанием работы, которой я буду исключительно занят до конца года, я окажусь в таком положении, что смогу вернуть сумму, о которой прошу и которая чрезвычайно необходима мне сейчас для душевного покоя, отчего для меня и будет честью и радостью, если Вы переведете мне ее в виде займа. Эта дружеская услуга бесценна, она позволит мне предаться своему труду". Графиня перевела Вагнеру испрашиваемую сумму, однако, видно, денег хватило ненадолго.
Прежде мы упоминали Венделина Вейссхеймера, ученика Листа, -он восторгался Вагнером и чтил его. Когда Вагнер поселился в Бибрихе, Вейссхеймер служил капельмейстером в Майнце. У него, в глазах Вагнера, было неоценимое преимущество — богатый отец, так что Вагнер иной раз мог обращаться к нему за помощью. "Дела мои из рук вон плохи, - писал он Вейссхеймеру в те же дни, что и Людвигу Шнорру, -из прилагаемого письма Вы можете заключить, что я совсем не могу полагаться на Шотта [Вагнер приложил отказ Шотта выплачивать Вагнеру дополнительные авансы. -Авт.]... Прошу Вас, поговорите толком с отцом... Можно единым разом поправить мои дела, но для этого нужен заем тысяч в пять гульденов... Вплоть до окончательной выплаты долга (вместе с процентами) я предоставлю в полное распоряжение Вашего отца свои театральные гонорары, то есть суммы и проценты (за исключением берлинских), которые буду иметь со спектаклей "Мейстерзингеров". Твердо верю, что уже к началу 1864 года полностью расплачусь с ним... Вот случай убедиться, каким влиянием пользуетесь Вы у своего отца!.." Этот ход ни к чему не привел, да и Вагнер в своих расчетах был необоснованно оптимистичен, потому что "Мейстерзингеров" успел кончить лишь к 1867 году. Вейссхеймер приводит относящееся к тому времени (когда Вагнер переживал страшные денежные затруднения) устное замечание Вагнера: "Право же, я сейчас в таком положении, что за 5000 гульденов готов продать свою бессмертную душу". И все равно так или иначе ему удается раздобыть средства. Бюлов посетил в это время Вагнера вместе со своей юной супругой Козимой, дочерью Листа; он пишет Вейссхеймеру: "Собственно говоря, невозможно представить себе, сколько денег можно истратить за 14 дней!" И добавляет: "Вот загадка: когда ему нужно, он всегда умеет раздобыть деньги — он еще более гениальный финансист, чем поэт и музыкант!"
Вейссхеймер тоже не сидит сложа руки. Он намерен дать в Лейпциге концерт, чтобы как дирижер и композитор показать себя. Он предлагает Вагнеру исполнить на этом концерте увертюру к "Мейстерзингерам", законченную весной в Бибрихе. Вагнер дирижирует двумя увертюрами: к "Мейстерзингерам" и "Тангейзеру"; Бюлов исполняет концерт для фортепьяно с оркестром Листа; остальная программа составлена из произведений Вейссхеймера. Увы! От концерта было мало проку в денежном отношении: в зале находилось немного слушателей, и Вейсс-хеймеру-отцу пришлось раскошелиться. Зато вызвали восторг произведения Вагнера — вступление к "Мейстерзингерам" бисировали. Должно быть, именно в те дни зародилось глубокое чувство между Вагнером и Козимой...
В Бибрихе Вагнер был лишен покоя, и "Мейстерзингеры" продвигались медленно. Вагнер остановился на середине первого акта, покончил с Бибрихом и в ноябре снова поехал в Вену, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшего в театре "Тристана". Однако прежние трудности оставались: партия Тристана, очевидно, пугала Андера, поскольку требовала неимоверной затраты сил, а другого Тристана не было. Новую трудность создал себе Вагнер сам: в Бибрихе его утешала миловидная девица из Майнца по имени Матильда Мейер. А в Вену вместе с ним прибыла уже совсем другая Мейер — Фридерика, актриса из Франкфурта, которую он рассорил с ее директором и в Вене всюду прямо представлял как свою даму. Петер Корнелиус, тонкий наблюдатель и критик, рассказывает об этом так: "Вагнер ради своей мадемуазель Мейер устроил музыкальный вечер. Ее камеристка тоже присутствовала — в качестве дуэньи. Видимо, она недурной человек, весьма рассудительна, но не лезет вперед, у нее не очень красивое, живое лицо. Вагнер в ее присутствии ведет себя как предупредительный кавалер. Раз уж он не может обойтись без такой связи, то, кажется, между ними сложились вполне приличные отношения". Но один неприятный момент все-таки есть: Фридерика — сестра госпожи Дустман, разучивавшей партию Изольды. До тех пор она была надежной союзницей Вагнера, но теперь для нее отношения Вагнера с сестрой — камень преткновения; дружбе — конец.
Зато Вагнер вновь почувствовал страсть к исполнительству. Он повторяет свой парижский эксперимент и устраивает в Вене три концерта с фрагментами своих новых произведений: "Золота Рейна", "Валькирии", "Мейстерзингеров". Из "Мейстерзингеров" в программе стоит обращение Погнера к мастерам — именно до этого места Вагнер и дописал оперу. Прежние его произведения давно стали популярны в Вене, а "Тристана" он не трогает — до' предстоящей премьеры. Художественный итог концертов можно назвать блестящим — и вновь они приносят дефицит. Тогда Вагнер принимает приглашение в Прагу, а в феврале едет в Россию, где дает концерты в Петербурге и Москве. Здесь Вагнера торжественно чествуют, однако поездка приносит меньше доходов, чем он ожидал. Кроме того, его отсутствие в Вене в решающий момент, как раз когда был удобный случай пригласить на гастроли Шнорра, уже выучившего партию Тристана, сыграло роковую роль — не осталось ни малейших надежд на постановку оперы, ее вычеркнули из планов, и премьеру перенесли на неопределенный срок.
Из России Вагнер привез 4000 талеров — круглая сумма, однако меньше той, на которую Вагнер рассчитывал. На эти деньги Вагнер обставляет виллу в Пенцинге, пригороде Вены, нанимает слуг — супружескую чету, кроме того, садовника и красивую горничную. Этой последней Вагнер однажды даже написал любовное письмо, и оно случайно сохранилось (роман с Фридерикой давно кончен). Летом Вагнер дирижировал двумя концертами в Будапеште, а осенью и зимой — в Праге, Карлсруэ, Бреслау... Но дилемма оставалась прежней: либо ты дирижируешь, либо в полном покое сочиняешь музыку. "Мейстерзингеры" не движутся с места. Вагнер писал Вейссхеймеру 10 июля 1863 года: "Так дальше дело не пойдет, я слишком чужой для этого мира — искусство и жизнь, воля и душа - все во мне теперь сковано. Нет больше желаний, потрясений слишком много, и я слишком хорошо понимаю все бессилие одиночки. Вам и Ваши годы трудно это понять. Обо мне можно сказать -- пресытился жизнью! Мне теперь всего недостает, чтобы жить по-людски... Я инструментую "Мейстерзингеров", но очень медленно; скажу прямо, что бьющий ключом источник настроения и воли к жизни — он-то и дарует радость творчества — иссяк во мне..."
Однако Вагнеру очень уютно живется в Пенцинге! Друзья позаботились о том, чтобы он не оставался без общества (в этом Вагнер постоянно испытывает потребность) -- Петер Корнелиус, его друг Карл Таузиг, тоже принадлежавший к листовскому кружку в Веймаре, врач и большой любитель музыки доктор Штандхартнер, пражский музыкант Генрих Поргес, который впоследствии окажет Вагнеру значительные услуги, пропагандируя его творчество... Все было бы прекрасно, если бы не ужасающее бремя долгов... Они чудовищны! А теперь еще поступают счета за устройство дорогой виллы. Все как в Дрездене: вытащил голову, увяз хвост. Вагнеру приходится брать в долг на короткий срок под неимоверные проценты. А венские друзья мало чем могут помочь ему. В первые месяцы 1864 года его положение просто отчаянно. Вагнер подумывал о самоубийстве и, как сам он пишет, сочинил для себя "эпитафию в юмористическом стиле". Суды не дремлют, и Вагнеру вновь грозит долговая тюрьма. Доктор Штандхартнер советует Вагнеру скрыться и готов снабдить его деньгами на дорогу. Чемодан тайно выносят из дому, ночью, никем не замеченный, Вагнер исчезает из Вены — так было в Риге, так было в Дрездене...
Он отправляется туда, где у него есть друзья и больше шансов найти поддержку, — в Цюрих. Он — гость госпожи Элизы Витле в Мариафельде, недалеко от города. Здесь Вагнер проводит несколько недель, бессонными ночами мучаясь непрестанными думами о том, что делается в Вене. А в Вене распродают его мебель, чтобы расплатиться с долгами, не терпящими отлагательства. Карл Таузиг в это время гастролирует и не может вернуться домой в Вену, потому что поручился за Вагнера; его самого каждую минуту могут арестовать. Отто Везендонк неприступен: он на время пребывания Вагнера в Цюрихе предлагает ему деньги на карманные расходы — по сто франков в месяц. Вагнер возмущенно отказывается. 30 апреля Вагнер едет в Штутгарт; Карл Эккерт, прежний директор Венской оперы, назначен сюда придворным капельмейстером - этот преданный друг должен найти для него надежное убежище где-нибудь поблизости. Что бы ни предпринимал Вагнер в это время, во всем чувствуется охватившая его паника. Вагнер теряет голову. Он посылает телеграмму Венделину Вейссхеймеру: "Дошел до конца — больше не могу, должен исчезнуть. Не спасете ли меня?" Венделин (карманы его отца давно уже закрыты для Вагнера) немедленно является в Штутгарт, чтобы неотступно находиться при Вагнере: "Его нельзя было оставлять одного в таком состоянии. Мы быстро сошлись на том, где скрываться,- в Рауэ-Альб".
Вагнер постарался замести следы, насколько мог. Поэтому ему становится весьма не по себе, когда к нему вдруг является неизвестный посетитель, Вейссхеймер как раз в эту минуту упаковывает чемоданы и вынужден оставить его наедине с незнакомцем. А им был не кто иной, как Пфистермейстер, личный секретарь короля Баварии! “Когда этот господин наконец откланялся и я снова вошел в комнату, предо мной стоял Вагнер, совершенно ошеломленный радостным поворотом в своей судьбе; он показал мне кольцо с бриллиантами—подарок короля, фотографию на столе, от которой исходило чудесное свечение; наконец с громкими рыданиями Вагнер бросился мне на шею, говоря: "Ах! Это со мной случилось — и именно теперь!"”
Что случилось, о том рассказать нетрудно. Баварский король Максимилиан II скоропостижно скончался, и на трон взошел его сын Людвиг II. Сыну было 18 лет, в детстве на него неизгладимое впечатление произвел "Лоэнгрин", спустя несколько лет он снова услышал и "Лоэнгрина", и "Тангейзера", стал изучать драму и статьи Вагнера и был совершенно очарован вагнеровским романтизмом, всем миром идей Вагнера. Едва Людвиг воцарился на троне, как он поручил своему секретарю Францу фон Пфистермейстеру разыскать Вагнера и пригласить его к себе. Доверенное лицо короля выехало 14 апреля — сначала в Пенцинг, затем, потратив немало времени на розыски, в Мариафельд — вскоре после отъезда Вагнера оттуда; наконец 3 мая Вагнер был обнаружен в Штутгарте и в тот же день увезен в Мюнхен. Подробнее обо всем, о реакции Вагнера, рассказывает письмо его Вейссхеймеру от 20 мая 1864 года: "Лишь два слова — в подтверждение невероятного везения, какое выпало на мою долю. Все сошлось так, что о лучшем нельзя было и мечтать. Любовь короля на веки вечные хранит меня от любых невзгод, я могу работать, мне не надо ни о чем беспокоиться: никаких званий, никаких должностей, никаких обязанностей. А если мне надо что-то исполнить, то король доставит мне все необходимое... Молодой король — чудесный подарок судьбы мне. Мы любим друг друга, как только могут любить друг друга учитель и ученик. Мы несказанно рады, что обрели друг друга. Он воспитан на моих сочинениях и статьях и при всех называет меня своим единственным настоящим воспитателем. Он красив, умен, ежедневное общение с ним восторгает, я чувствую в себе обновление.
Можете представить, какую страшную зависть это вызывает: мое влияние на юного монарха столь велико, что все, кто меня не знает, беспредельно обеспокоены. Король положил мне большое жалованье, но объявленная им сумма нарочно уменьшена; я же, как подсказывают мне характер и потребности, совершенно тушуюсь и всем делаю успокоительные заверения, так что страх постепенно рассеивается. Лахнера [это музыкальный руководитель Мюнхенской оперы. —Лег.] уже можно обернуть вокруг пальца. Король презирает нынешний театр — как и я. Но мы на все смотрим спокойно, а на будущие времена оставляем за собой реализацию более благородного направления".
В тот же день Вагнер пишет Людвигу Шнорру: "Молодой король талантливый, глубокий, душевный — он при всех называет меня своим единственным, истинным учителем! Он, как никто, знает мои произведения, мои работы, он мой единственный ученик, он чувствует в себе призвание осуществить любые мои планы - насколько это вообще в человеческих силах. К тому же он мыслит по-королевски, у него нет опекунов, он не подвержен ничьему влиянию и столь серьезно и твердо занят делами, что все знают и чувствуют: вот настоящий король..."
Этим поворотным моментом в судьбе Вагнера завершаются воспоминания, которые он спустя шесть лет диктовал своей жене Козиме; вот их последние строки: "В тот самый день я получил известия из Вены — в самых энергичных выражениях меня уговаривали не возвращаться туда. Но, видно, так суждено: ужасы, пережитые мною в те дни, уже не повторятся в моей жизни. Едва ли тот полный опасностей путь, ведущий к высшим целям, на какой позвала меня сегодня судьба, свободен от неведомых мне забот и напастей — но уже не коснется меня, под защитой возвышенного друга, бремя низкой жизни".
На гордой высоте. 1864-1883
Есть ли иной подобный же случай, когда высшие силы так вмешивались бы в жизнь художника? Он - на краю гибели, но чудо его спасает. Самое же невероятное — в том, что двумя годами раньше сам Вагнер уже предусмотрел тему — тему спасающего его "бога из машины". Публикуя за свой счет текст "Кольца нибелунга", Вагнер снабдил его послесловием, где рассуждал о том, какие трудности предстоит преодолеть, чтобы поставить на сцене столь колоссальное создание. Вагнер прекрасно сознавал такие трудности — в них-то и состояла причина, почему, дойдя до середины "Зигфрида", он утратил уверенность в себе и бросил его сочинение. И вот каким рассуждением заканчивалось послесловие: “Мне кажется, возможны два пути. Либо состоящее из любителей искусств общество возьмет на себя задачу собрать необходимые для первой постановки моего произведения средства. Однако когда я вспоминаю, сколь мелочно ведут себя немцы в делах подобного рода, то я не берусь рассчитывать на успех соответствующих обращений.
Либо же эти средства предоставит один из немецких государей, причем ему не придется даже придумывать для этого новую статью расходов, потому что достаточно использовать ту, по которой деньги тратились и тратятся на поддержание самого дурного, какое только может быть, художественного учреждения, а именно оперного театра, который портит и порочит музыкальное чувство немцев. Если бы столичные театралы и потребовали тогда, чтобы привычное им ежевечернее развлечение - оперный спектакль - по-прежнему подносилось им, то государь и предоставил бы его, но только уже не за свои деньги, потому что, конечно же, государь может быть уверен: что бы ни поддерживал он своими великодушными даяниями, щедро расточаемыми на оперу, — это во всяком случае будет и не музыка, и не драма, а именно та самая оскорбляющая немецкое чувство — как музыки, так и драмы — опера.
После того как я показал бы, сколь велико может быть его влияние на мораль несказанно унижаемого по ею пору художественного жанра и сколь специфически немецкое начинание стало бы возможно, расходуйся сумма, затрачиваемая ежегодно на столичную oпepy, либо на ежегодно устраиваемые, либо, по обстоятельствам, повторяющиеся раз в два-три года торжественные представления, как описаны они выше, государь мог бы стать основателем такого учреждения, благодаря которому он обладал бы беспредельным влиянием на развитие немецкого художественного гения, на становление подлинного, а не высокомерно-ограниченного немецкого духа и мог бы снискать себе непреходящую славу. Есть ли такой немецкий государь? "В начале было дело"”.
Восторженный монарх прочитал эти строки и принял их на свой счет. Его первым самостоятельным поступком стало призвание высокочтимого маэстро с намерением способствовать осуществлению его планов. Вагнер достиг того, что сформулировал — с предельной точностью! — в качестве своей цели. Едва ли будет преувеличением утверждение: Вагнер сам сочинил своего короля Людвига.
Вагнер с трудом обретал необходимое внутреннее равновесие — как после бурь революции, так и после всех потрясений этого тяжелейшего в его жизни кризиса. Характер творческого процесса служит барометром его внутреннего состояния: прошло не менее двух лет, прежде чем его творчество приобрело былую интенсивность. А всякие роковые события этих двух лет объясняются лишь хроническим внутренним беспокойством. Но, как и прежде, самым существенным в жизни этого замечательного, необычного человека остается то, что он совершенно не способен жить с людьми в мире. Для него немыслим уход в себя - он нетерпелив, страстен, его одолевает зуд высказывать свое мнение по поводу всего на свете, поэтому он не может существовать без конфликтов с окружающими. Впервые он обрел независимость творческую и материальную; есть все основания думать, что так будет продолжаться до самой смерти. Но оказывается, даже самые скромные обязательства, какие накладывает на него безграничная любовь преклоняющегося перед ним монарха, невыносимо тягостны для него. А своим влиянием на короля он не желает делиться ни с кем и в самое короткое время успевает злоупотребить им.
Поначалу его взаимоотношения с королем все равно что медовый месяц. Людвиг живет в замке Берг у Штарнбергского озера, Вагнер — в вилле у него под боком. "Десять минут, и экипаж довозит меня до него, — пишет Вагнер Элизе Вилле. — Он посылает за мною один-два раза в день, я лечу к нему, словно к возлюбленной. Общение с ним вдохновляет. Какое желание учиться, какое быстрое усвоение всего, какая глубина переживания, какой жар души — я такого еще никогда не удостаивался. И какая нежная забота обо мне, какая целомудренная чистота души, даже выражения лица, когда он заверяет меня в счастье обладать мною. Так просиживаем мы часы, с упоением созерцая друг Друга".
Долго ли могло этакое продолжаться? Прежде всего Вагнер не выносит затворничества, ему нужно, чтобы его окружали друзья. Ему надо, чтобы другие разделили с ним счастье бытия. Как? Только по-вагнеровски, и никак иначе. 31 мая Вагнер пишет Петеру Корнелиусу: "Я уже не раз сообщал тебе, что все приготовлено к твоему приему. Ты и я — и всякий, кто пожелает, — мы можем жить здесь совершенно независимо друг от друга, занимаясь каждый своей работой, исполняя все свои желания, но при этом всегда возможно общение - и его радости. Для тебя есть рояль, мне он не помешает; ящик с сигарами уже стоит в твоей комнате — и т. д. и т. д. Вот расторопность-то, любезный Петер!"
И, уже чуть раздраженно, Вагнер приписывает: "Такое расположение нуждается во взаимности — или же оно перейдет в свою противоположность!" А Корнелиус — это правда — как-то страшится, что Вагнер безраздельно завладеет его душой. Сам он работает над оперой, и, как бы ни восхищался он Вагнером, как бы ни чтил его, ему хочется сохранить независимость, самостоятельность в искусстве. Это-то и имеет в виду Вагнер: "Ты еще не ответил ни строчки на все мои послания, а через Генриха Поргеса передаешь мне сожаление, что не можешь приехать, что ты должен переделать "Сида" в три месяца и потому должен сидеть в Вене.
Но, послушай, Петер, что будет разумнее — если мы станем говорить обо всех этих странностях или если мы промолчим?.. Либо ты незамедлительно принимаешь приглашение и готовишь себя к тому, чтобы заключить со мной пожизненный союз с общностью имущества. Либо же ты отвергнешь меня и решительно откажешься от желания соединить свою жизнь с моей. В последнем случае навеки отрекаюсь от тебя и в своих житейских планах уже не считаюсь с тобой".
Это называется приставить нож к горлу! Однако Корнелиус остался стоек и предпочел своего "Сида". А Вагнер, должно быть, понял доводы друга и оставил его в покое. Спустя несколько месяцев у него возникает новое предложение Корнелиусу, которого он любил и общение с которым высоко ценил. 7 октября 1864 года Вагнер пишет: "По особливому поручению его величества короля Людвига II Баварского имею честь пригласить тебя как можно скорее переселиться в Мюнхен, дабы, предавшись своему труду и дожидаясь особых заказов короля, по-дружески помогать мне. Со дня твоего прибытия в Мюнхен тебе выплачивается тысяча гульденов в год из шкатулки его величества". А через несколько дней, когда Петер, с трудом перебивавшийся своими дешевыми уроками, радостно соглашается на это предложение, следует: "Спасибо тебе за намерение приехать! Приглашение надо понимать очень просто. Милостивый государь, о красоте и великолепии которого ты не можешь составить ни малейшего представления, счастлив доставить мне все потребное для завершения моих произведений... А я не могу быть один. Уже летом я пригласил Бюлова - в следующем месяце он переселяется сюда с женой и детьми. Не хватает тебя одного, вот я и "выпросил" тебя — тебе бы посмотреть, как рад был неземной юноша, когда по моей просьбе поручал мне пригласить тебя".
Обязанности Бюлова заключались отныне в том, чтобы играть королю на рояле, восполняя пробелы в его музыкальных познаниях. Бюлов был приглашен, и на этом для него закончилась пора обременительной работы в должности преподавателя фортепьяно в консерватории Штерна в Берлине. Однако у приглашения была своя предыстория, о которой он не подозревал. Дело в том, что, когда отказался приехать Корнелиус, а вслед за ним отказалась и Матильда Майер из Майнца, Вагнер пригласил Бюлова с женой и детьми провести у него лето в Штарнберге. Бюлов был занят, и Козима с дочерьми Даниэлой и Бланди-ной поехала одна. 29 июня они уже были в Штарнберге. Тогда-то и случилось то, чему давно уже было положено начало! Когда 10 апреля следующего года Козима родила третью дочь — Изольду, Вагнер считал ее своим ребенком. Тут мы основываемся лишь на предположениях, поскольку даже не знаем, в какой момент Бюлову стало известно все, — через год в Мюнхене об этом судачили на каждом углу. Итак, следующим шагом, какой предпринял Вагнер, было приглашение Бюлова в Мюнхен — придворный пианист переселился туда с семьей в ноябре. С этого времени Козима надзирала за порядком в аристократическом дворце, который король снял для Вагнера, а позднее подарил ему; она вела его корреспонденцию и вообще старалась делать для него, что только могла.
В приглашении Бюлова и Корнелиуса в Мюнхен главную роль сыграли личные мотивы, но, кроме них, были и деловые, практические. Согласно планам Вагнера, в первую очередь предстояло основать "Немецкую школу музыки", которая должна была заменить существовавшую в Мюнхене консерваторию. Мысль о направлении и организации ее Вагнер изложил в своем меморандуме королю. Эта школа и была основана; среди ее ведущих деятелей значились Бюлов, Корнелиус, затем Генрих Поргес и еще один сотрудник Вагнера - Фридрих Шмитт, до того преподававший вокал в Лейпциге. Основывая музыкальную школу, Вагнер более всего думал о реализации своих планов: необходимо было подготовить певцов, способных решать вокальные и драматические задачи, которые ставили перед ними вагнеровские творения.
Письма и дневники Корнелиуса проливают свет на ситуацию в Мюнхене — на оранжерейную обстановку, в какой жил Вагнер. "Рихард наслаждается - бездельем, тогда как ему следовало бы трудиться. Но до работы руки не доходят!.. А Людвиг, юный, неопытный мечтатель, очертя голову кидается во все - это кончится конфликтом его с внешним миром...
Оба эти человека — а моя жизнь здесь целиком зависит от того, будет ли продолжаться их дружба, — представляют собой как бы любовную пару, они любят друг друга духовно и, естественно, конфликтуют с окружающим миром и его весьма точными прозаическими запросами.
Мои же отношения с Вагнером таковы, что не могут сочетаться с его требованиями перед лицом мира, или я сам неминуемо погибну. Вагнер сам не знает и не видит, как напрягает все до предела в этом чаду, в этой любовной тоске — с той минуты, как он сам отведал "любовного напитка". Вот пример: мы сидим с госпожой Бюлов. Вагнер берет в руки Фирдоуси в переводе Шака и читает подряд несколько песнопений о Рустаме и Зохраб. Между тем Бюлов кончает свой урок — и не проходит и двенадцати минут, мы уже погружены в "Тристана" и поем все первое действие от начала до конца. Меж тем подают чай — не успеваем мы выпить по чашке, как Вагнер погружается в пересказ своего "Парсифаля" — и так весь вечер, пока мы не расходимся... Наш великий друг должен ежеминутно говорить о себе, читать и петь себя, иначе ему не по себе. Для того ему всякий раз и необходим кружок интимных друзей, с посторонними так не получится. Если я обедаю у него, а это в два часа, то с этого времени уже нельзя и подумать о том, чтобы уйти, — это удается очень-очень редко, и такая ситуация погубит меня".
Как можно видеть, Корнелиус вполне сознавал, какую опасность представлял для него его властный друг, которому трудно было противостоять. Увы! Фактом остается то, что встреча с Вагнером явилась трагическим событием в жизни Корнелиуса-композитора. Самые лучшие, полные своеобразия сочинения были созданы им в тридцать с небольшим лет, затем он подпал под могучее влияние Вагнера, от которого так и не смог освободиться. Его шедевр — "Багдадский цирюльник". Он провалился на первом и единственном представлении в 1858 году в Веймаре, а причиной провала был шумный протест зрителей против дирижировавшего спектаклем Листа. После этого Лист и ушел со своего поста. Неуспех оперы совершенно парализовал тонкого музыканта, который был мало приспособлен к борьбе за существование; Вагнер и его искусство послужили ему при таких обстоятельствах чем-то вроде наркотика. Ни "Сид", ни "Гунлёд" — третья, незавершенная опера Корнелиуса - не достигают свежести и оригинальности "Цирюльника" - единственного значительного, жизнеспособного произведения, созданного веймарским кружком. Когда Вагнер достиг вершины славы, одного его слова было бы достаточно, чтобы оперу поставили вновь, реабилитировав этот шедевр. Но Вагнер не произнес такого слова и вообще пальцем не пошевелил, чтобы помочь музыканту, в способностях которого не сомневался ни минуты, чтобы помочь ему единственно возможным способом — вдохновив на творчество. Когда же честь "Цирюльника" была спасена — мюнхенской постановкой оперы в 1885 году, — ни Вагнера, ни Корнелиуса уже не было в живых.
Нельзя сомневаться и в том, что оранжерейная обстановка оказалась также роковой для Людвига, склонного к преувеличенной мечтательности. Вагнер без зазрения совести пользовался в своих целях королевскими милостями, и это было одной из причин кризиса. Чтобы представить, как реагировали на появление Вагнера в роли королевского фаворита двор, министерство, наконец, музыкальные и театральные крути общества, скажем: Мюнхен походил на растревоженное осиное гнездо, хотя это слишком слабое сравнение. Правда, король из личных средств оплачивал и долги Вагнера, и его дорогостоящий дом, и еще более дорогую мебель, и его друзей, приглашенных занять синекуру, но это не мешало людям подсчитывать, еще и преувеличивая, понесенные расходы. Да и наглые финансовые требования Вагнера были возмутительны, а его отношения с канцелярией, которую возглавлял господин Пфистермейстер, быстро испортились. При вагнеровских претензиях ("Лахнера можно обернуть вокруг пальца") невозможно было сохранить добрый мир и с театром. "Летучий голландец" и Тангейзер" прошли под эгидой Вагнера в блестящих постановках, и мир не был нарушен, но все заметно усложнилось, когда за дирижерскую палочку взялся "придворный капельмейстер по особым поручениям" Ганс фон Бюлов, вообще не отличавшийся чрезмерной тактичностью и терпением. Началась кампания против него в газетах - одно совсем непарламентское выражение Бюлова вызвало всеобщее раздражение и поставило под сомнение его мюнхенскую карьеру. Обсуждая вопрос о неизбежном расширении оркестровой ямы за счет первого рада партера, Бюлов позволил себе необдуманно задать риторический вопрос: "Ну и что от того, что тридцатью сволочами станет в театре меньше?" Бюлов вяло извинялся, но сказанного не воротишь, тем более что Бюлов был оголтелым "пруссаком", на которого, словно свора собак, и насела вся баварская пресса. Бюлова поливали злобной грязью, и как раз в это время в публику стали просачиваться первые слухи о Вагнере и Кози-ме. Накопившееся против Вагнера возмущение излилось на Бюлова — беззащитную жертву.
Любые попытки исполнить "Тристана" рождались под несчастливой звездой. Вагнер уже поручил заглавные партии супругам Шнорр, и на репетициях они вполне оправдали оказанное им доверие. А лучшего дирижера, чем Бюлов, изготовившего в свое время клавир оперы и внутренне сжившегося с нею, нельзя было и придумать. Поэтому Вагнер мог сосредоточиться на режиссуре и достичь в этой постановке редкостного совершенства. Однако премьеру, назначенную на 15 мая 1865 года, в последний момент пришлось отложить из-за серьезной болезни горла у Мальвины Шнорр. Наконец премьера состоялась 10 июня - она стала сенсацией. Опера была встречена с энтузиазмом и до 4 июля прошла четыре раза. Через три недели пришла весть о скоропостижной кончине Шнорра. Удивительно ли, что это событие усилило суеверный страх перед "убийственными" физическими требованиями главных партий? И действительно, "Тристан" оказался единственным произведением во всем творчестве Вагнера, которое длительное время никак не могло войти в постоянный репертуар оперных театров, за естественным исключением "Парсифаля", который согласно воле Вагнера мог исполняться лишь в Байрейте. Печальное известие буквально раздавило Вагнера.
“"Тристана" больше не будут исполнять, — написал он Пузинелли, — он останется памятником благородному певцу”. Вагнер вообще не скупился на высокопарные слова, он-то знал, что все это несерьезно и что "неисполнение" никому не послужит памятником...
Когда Вагнер судит о чувствах других, он стремителен и по-своему великолепен. Его разозлило, что Отто и Матильда Везендонк не приняли его приглашение и не присутствовали на премьере "Тристана". По этому поводу он пишет Элизе Вилле: "Как все вы мелки, если избегаете такого повода к волнению!" Вагнер совсем не желал взять в толк, насколько неприятно было бы для Везендонков видеть себя на сцене в образах Изольды и короля Марка, когда на них, наверное, стали бы показывать пальцем...
Бедный Петер Корнелиус тоже привел Вагнера в ярость: вместо того чтобы присутствовать на "событии", он отправился в Веймар на премьеру своего "Сида", и без того уже злившего Вагнера. Вагнер, надо думать, был совершенно вне себя, когда 22 июня 1865 года писал другу письмо с угрозой подорвать самую основу его существования: "Любезный Корнелиус! Обращаю твое внимание на то, что ты обязан обратиться к баварскому королю с изъявлением своего нежелания оставаться долее в Мюнхене и получать свое жалованье. Как мне представляется, ты должен просто указать на то, что в твоей судьбе произошел поворот, вынуждающий тебя пребывать за пределами Мюнхена и не позволяющий тебе вернуться сюда. Если до 1 июля ты не поставишь меня в известность о соответствующем твоем сообщении королю, я буду считать, что ты поручаешь мне сделать такое заявление от твоего имени, и именно так поступлю в указанный день".
Неизвестно, что отвечал Петер на этот ультиматум. Ясно, что и на этот раз ссора была улажена.
Многого не случилось бы, предположи Вагнер хоть на миг, что и другие люди могут быть обидчивы. Показательна забавная шутка, которую сыграли с ним, когда король даровал композитору чрезвычайную сумму в 40 000 гульденов, дабы Вагнер мог расплатиться со своими долгами. Козиме, которая по его поручению прибыла в королевскую кассу, вручили эту сумму серебряными гульденами, так что ей пришлось нанять две кареты, чтобы довезти домой тяжелые мешки с деньгами. Однако что значила эта невинная выходка по сравнению с грозовыми тучами, собиравшимися над его головой! Корнелиус предвидел эту опасность. "Я тебе никогда еще не говорил, — пишет он своей невесте, — что Вагнер находится также и в политических сношениях с королем, он при нем все равно что маркиз Поза... Так, один весьма приличный венский журналист, Фрёбель, станет, как говорят, редактором официальной "Баварской газеты"... Когда Бюлов сообщил мне об этом (это не для передачи другим), я внутренне содрогнулся, увидев в этом начало конца. Если человек искусства начинает оказывать решающее воздействие на жизнь целого государства, это не кончится, и не может кончиться, добром... Вспоминается старинная пословица: "Башмачник, оставайся при своих колодках!" А если иметь в виду Вагнера с его начатыми "Мейстерзингерами", то можно перелицевать се следующим манером: "Поэт, оставайся при своем башмачнике!"..."
Музыкальная школа нужна была Вагнеру лишь для воспитания вагнеровских певцов, театр — лишь для исполнения его произведений. Точно так же Вагнер полагал, что политики, министры, секретари ни на что не пригодны, если не считают нужным с должным рвением проводить в жизнь его планы. Он пытался настроить Людвига против Пфистермей-стера, потому что ему казалось, что тот не слишком охотно идет ему навстречу, и он непрестанно интриговал против премьер-министра фон дер Пфордтена, который, впрочем, с самого начала занял антивагнеров-скую позицию. В газетах появились статьи, где Вагнера травили, и тот приписал их появление стараниям личной канцелярии. Когда же Вагнер в неприкрытой форме потребовал от короля отставки Пфистермейстера, которого ненавидел теперь всем сердцем, и отставки самого премьер-министра, а также поместил в "Новейших известиях" неподписанную статью, где речь шла "о двух-трех личностях", удаление которых послужит общим интересам, то фон дер Пфордтен потерял терпение и начал настаивать на удалении Вагнера, присутствие которого в Мюнхене представляло, по его словам, опасность для общественного порядка и для взаимопонимания между королем и его народом. Пфистермейстер вручил королю адрес с четырьмя тысячами подписей, где утверждалось, что внутренний мир находится в стране под угрозой. Принц Карл Баварский, дядя короля, обратился к нему от имени всей королевской фамилии. Людвигу пришлось уступить и передать своему другу просьбу покинуть Мюнхен на несколько месяцев. 8 декабря 1865 года во всех немецких газетах можно было прочитать, что "господин Рихард Вагнер по высочайшему повелению обязан на несколько месяцев оставить Баварию". Ранним утром 10 декабря Вагнер распрощался с Мюнхеном: он вновь сделал рискованную ставку и вновь проиграл.
Вагнер, очнувшийся, униженный, вновь ищет убежища. Но он сохранил свою независимость, поскольку мог распоряжаться значительными средствами. Людвиг уступил, потому что давление на него было слишком велико, но сохранил неизменной свою любовь к Вагнеру. Вагнер продолжал получать весьма солидное жалованье; он испытывал сложные чувства к своему благодетелю — из его высказываний явствует, что он был высокого мнения о способностях и дарованиях юного монарха, однако не мог простить ему слабости, проявленной в сложной ситуации. В последующие годы не один поступок Вагнера свидетельствует о его упрямстве, а порой даже о враждебности к королю. Естественно, с этого момента композитор перестал вмешиваться в баварскую политику и осмотрительнее делился своими советами; только в одном отношении он сохранил твердость и решительность - когда надо было уговаривать короля, боявшегося появляться на людях, не отрекаться от трона. Впрочем, Вагнер понимал, что отречение ударит и по его, Вагнера, благополучию.
Вагнер искал подходящее место для спокойной, сосредоточенной работы сначала у Женевского озера, потом в южной Франции. Близ Фирвальдштетского озера, неподалеку от Люцерна, он нашел наконец то, что ему было нужно, — виллу Трибшен, в которой никто не жил и которая уже начала разрушаться. Вагнер велел отремонтировать ее, и весной она была готова. Сюда и переехала с тремя детьми Козима, которая превратила виллу в весьма уютное гнездышко; с того времени Козима никогда уже не расставалась с Вагнером. В начале того же года Минна умерла от застарелой сердечной болезни, и теперь хоть с этой стороны не было препятствий для брачного союза. Впрочем, Козима находилась в несравненно более сложном положении — и по внутренним, и по внешним причинам: Бюлов был очень нужен Вагнеру в Мюнхене, а потому надо было избежать прямого скандала. Ясно, что ситуация должна была разрешиться, и достаточно скоро.
Семилетие, проведенное Вагнером в Трибшене, — это самая мирная и счастливая пора его жизни. Он освободился от мюнхенских забот, беспокойств и интриг, он отдался своей работе, он живет в прелестном уголке природы, с ним любимая женщина, его быт устроен в соответствии с его привычками и желаниями. Самому Вагнеру 53 года, он крепок, здоров, жизнелюбив; он чувствует в себе творческие силы, сознает их энергическую мощь. В Мюнхене он успел только заняться партитурой "Зигфрида", второе действие которого не было окончено с 1858 года, и даже эта скорее техническая работа над инструментовкой не слишком быстро продвигалась вперед, И Вагнер словно инстинктивно ощущал, что не должен приниматься за главный труд тех лет, пока не наступит в его жизни пора ненарушимого спокойствия, теперь-то он и мог взяться за "Мейстерзингеров". "Нюрнбергские мейстерзингеры" явились первым плодом этого счастливого времени.
До мирных берегов Фирвальдштетского озера волны внешних событий доходили, сильно ослабев, утратив силу. Людвиг, который не мог лишить себя удовольствия поздравить с днем рождения своего возлюбленного друга, нанес ему краткий визит. Путешествуя инкогнито, он 22 мая прибыл в Люцерн. Этот визит подтвердил нерушимую верность короля Вагнеру и вновь вызвал целую кампанию в прессе против них обоих. Вояж короля непосредственно перед началом прусско-австрийской войны, в которой Бавария выступала на стороне Австрии, толковали только что не как дезертирство. Война завершилась поражением, и Бавария вынуждена была платить крупную контрибуцию, в связи с чем произошла смена кабинета, и фон дер Пфордтену пришлось уйти в отставку. Но Вагнер отказался вернуться в Баварию, чего страстно домогался король. Тем временем в Мюнхене была открыта музыкальная школа, которой руководил Бюлов, осуществился и старый проект издания газеты. Венский журналист Юлиус Фрёбель по рекомендации Вагнера получил королевскую дотацию для издания "Южнонемецкой газеты" и обязался предоставить в распоряжение Вагнера раздел фельетона. Вагнер опубликовал там, без подписи, серию статей, вышедших затем в виде книги под заглавием "Немецкое искусство и немецкая политика". Всего таких статей вышло двенадцать. Тринадцатая не увидела свет по указанию короля, так как Вагнер вновь пустился в поле мику по политическим вопросам и королю показалось, что такая публикация "самоубийственна". Вагнер был беспредельно раздосадован и безуспешно пытался протестовать. Это1 происшествие до какой-то степени способствовало охлаждению короля к его другу-бунтовщику. Была к тому и иная, более серьезная: причина: Вагнер и Козима превратили его в клятвопреступника. Торжественно заверив короля в своей полной невиновности, они заставили его подписать пространное, составленное самим же Вагнером заявление, чтобы покончить с клеветой в мюнхенских газетах. Цели своей они не достигли, а король в глазах общественности оказался покровителем грязного дела, сильно волновавшего умы всех.
Между тем осенью 1867 года Вагнер завершил партитуру "Мейстерзингеров". Этой музыкой Вагнер завоевал себе нового приверженца, который в дальнейшем принадлежал к тесному кругу его сотрудников. Этим приверженцем был Ганс Рихтер, молодой музыкант, валторнист венского придворного оркестра. Вагнер поселил его у себя, и Рихтер переписывал партитуру "Мейстерзингеров" лист за листом по мере того, как Вагнер сочинял. Весной в Мюнхене под управлением Бюлова начались репетиции оперы, и Рихтеру было поручено руководство хором. По случаю этой постановки Вагнер впервые прервал свое добровольное изгнание и прибыл в Мюнхен. Премьера стала величайшим триумфом Вагнера. Он писал своей верной домоправительнице Френели: "Вчерашний спектакль был великолепным торжеством; ничего подобного, видимо, уже не повторится. Я от начала до конца должен был находиться рядом с королем в его ложе, с высоты принимая овации публики. Никто никогда не переживал ничего подобного". Враждебная Вагнеру печать злобно отметила новое нарушение предписанных придворным церемониалом форм
Прошло еще восемь лет, пока Вагнер вновь не увидел своего короля. Ганс фон Бюлов подал наконец прошение о разводе, а одновременно сложил с себя все свои мюнхенские должности. Ситуация прояснилась, но король чувствовал себя оскорбленным. Мир вагнеровских волшебных чар по-прежнему владел его душой, и он готов был всячески помогать творцу этого мира. Но в будущем он избегал человека, обманувшего его. Быть может, тут играл свою роль и чисто эмоциональный момент — король мог испытывать простую ревность. В дальнейшем он отыскал иной выход для своих романтических художественных мечтаний: более всего на свете интересуясь фантастическими средневековыми замками, он стал возводить подобные замки в баварских Альпах и этим поставил себя и свои финансы на грань краха. А Вагнер больше не бывал в Мюнхене — если только не проездом и не по срочному делу.
"Мейстерзингеры" были завершены и поставлены на сцене - теперь Вагнер работал над монументальным творением всей своей жизни: он заканчивал "Кольцо нибелунга". Он сотворил чудо — после двенадцатилетнего перерыва продолжил "Зигфрида" так, что в его музыке нет ни малейшего стилистического сбоя. Миром Вагнера стала семейная идиллия, в какую не должен был проникать извне ни один диссонанс. В 1867 году Козима родила ему вторую дочь, Еву, а в 1869 году наконец и сына — Зигфрида. Через год, по окончании бракоразводного процесса, Вагнер и Козима сочетались узами супружества.
Небезынтересно приглядеться к тому, насколько по-разному выглядят одни и те же вещи с разных точек зрения. Процитируем для начала Глазенапа, приближенного биографа семейства, — что он скажет нам? "Нет брачного союза, более священного для всех немцев. Нет другого, заключенного с тем же самоотвержением, с высшими, сверхличными целями; нет другого, за который боролись бы столь беззаветно. Эти узы соединили пред богом и миром великого странника, гонимого глупостью и черствостью современников, что лишали его даже милости короля, что вновь и вновь гнали его на чужбину, и благородную натуру, не ведающую мелкого, недостойного страха, вступившую в его жизнь спасительницей, показав неземную силу любви".
Противопоставим этим словам один-единственный комментарий — письмо (написанное в оригинале по-французски) Ганса фон Бюлова сестре Козимы, графине Шарнасе (15 сентября 1869 года): "Поверьте, я сделал все, что в человеческих силах, чтобы избежать явного скандала. Я предпочел в течение более трех лет вести неописуемо мучительное существование. Вы не можете составить себе понятия о пожирающих душу волнениях, которые терпел я постоянно. Наконец, я принес в жертву мое положение в искусстве, материальное благополучие. Осталось только пожертвовать своей жизнью, и, признаюсь, это был бы простейший способ привести вещи в порядок — разрубить узел. Я этого не сделал — надо ли винить меня и в этом? Быть может, я пошел бы и на это — будь только в том, другом, хоть капля чести: он в своих творениях возвышен, в поступках — низок... Когда в ноябре я задал Козиме почти уже неприличный вопрос о причинах ее внезапного отъезда, она сочла правильным ответить мне ложной клятвой. Так что я лишь несколько месяцев назад узнал из газет о "счастье" маэстро, которому его любовница (там прямо называлось имя) родила наконец наследника, крещенного во имя Зигфрида, — счастливое знамение окончания новой оперы. Тем самым мои рога увенчаны блестящей короной. Я не мог исчезнуть из Мюнхена, но нельзя и вообразить себе ад, который терпел я там в последние месяцы... У меня было два варианта: либо считаться личностью, не ведавшей ничего из того, что знал каждый, и вызывать к себе оскорбительное сочувствие, либо же считаться таким подлецом, который согласен платить подобную цену за то, чтобы быть фаворитом королевского фаворита..."
Пусть читатель сам судит, где правда...
Вагнер в Трибшене, в полном уединении, работал над "Зигфридом", а в это самое время в Мюнхене готовилась постановка "Золота Рейна". Через полгода после нее должна была состояться премьера "Валькирии". Этот договор между Вагнером и королем был перечеркнут бракоразводным процессом и уходом Бюлова. Теперь Вагнеру не хотелось иметь дел с Мюнхеном - этим центром травли, где не щадили ни его, ни Козиму, не хотелось иметь дела и с придворным театром, руководство которого неохотно шло на то, чтобы предоставить Вагнеру всю полноту власти. Прежний дорогой его сердцу план построить в Мюнхене особый театр для осуществления своих художественных намерений — цюрихский друг Готфрид Земпер уже представил проект такого театра — перекочевал в небытие, и в Мюнхене уже не было Бюлова. Первоначально у Вагнера отнюдь не было принципиальных возражений против исполнения "Кольца" по частям. После ухода Бюлова он поручил "Золото Рейна" Гансу Рихтеру, как бы своему ассистенту. Однако все сложилось иначе. Создается впечатление, что Вагнер стремился всеми силами не допустить постановки, а молодой, неопытный и беззаветно преданный учителю Ганс Рихтер был его орудием, Вагнер потребовал телеграммой, чтобы премьера была отменена, так как на генеральной репетиции плохо действовали механизмы сцены. Ганс Рихтер отказался выслушивать указания театрального интендантства — он, мол, несет ответственность лишь перед учителем — и был немедленно уволен по приказу короля. Однако Людвиг ни при каких обстоятельствах не желал отказываться от спектакля, и спустя несколько недель, 22 сентября 1869 года, премьера состоялась под управлением Франца Вюлльнера — этот концертмейстер придворного театра был единственным, кто решился действовать вопреки воле самого Вагнера. "Валькирия" был исполнена 26 июня 1870 года, за несколько недель до начала франко-прусской войны; дирижировал Франц Вюлльнер, торжественно проклятый Вагнером. Король одержал верх. Вагнер отвечал ему - Байрейтом.
Однажды Вагнер написал Луи Шиндельмейссеру, другу юности: "Я никому не предлагаю уюта и удовольствия, но распространяю ужас и волную сердца; иначе на нынешнее человечество и нельзя воздействовать... Кто имеет дело со мною, должен уметь и хотеть играть ва-банк, потому что мои произведения — это создания человека, которому не нужна никакая иная игра, но только та, в которой либо срывают банк, либо губят самих себя; мне не нужно "уютное существование" знаменитости с хорошим доходом".
Никоим образом нельзя было бы сказать, что Вагнер не сознавал всего риска своего положения. Как часто в жизни он играл ва-банк и проигрывал!.. Он решительно, хотя и безуспешно, выступал против мюнхенских постановок. Людвиг не соглашался на его настойчивые просьбы о личной встрече. Король по опыту знал, сколь опасен "хорошо подвешенный язык" Вагнера, он понимал, что не сможет противостоять его искусству убеждения, его подавляющей воле. Маэстро сердился и давал почувствовать королю всю меру своего гнева. Он не соглашался представить партитуру законченного "Зигфрида", хотя к этому обязывало его заключенное в 1864 году соглашение, согласно которому король — в возмещение выплат из его личной шкатулки — становился собственником всех произведений, создаваемых Вагнером. Но доводы Вагнера были неопровержимы: он утверждал, что продолжает шлифовать музыку "Зигфрида". На худой конец он мог пригрозить вернуться к бедному существованию одинокого человека, а подобная угроза всегда производила впечатление на великодушного мецената.
Между тем сочинение "Гибели богов", заключительной части тетралогии, продвигалось вперед, и вагнеровские проекты постановки всего произведения вступили в начальную фазу своего осуществления. То, что задумал Вагнер, было не просто ударом для Мюнхена, но и тем начинанием, которое раз и навсегда должно было освободить Вагнера от ненавистной зависимости, превратив его тоже в короля — в своей сфере. Выбор места действия произошел случайно: в одном из томов энциклопедии Брокгауза Вагнер нашел указание на то, что в Байрейте, бывшей столице маркграфства, существует театр, построенный в стиле рококо. В апреле 1871 года Вагнер и Козима посетили этот городок. Театр оказался мифом, поскольку его здание было непригодно для современных целей, но местность произвела самое благоприятное впечатление. Вагнер быстро решился и предпринял нужные шаги на пути к осуществлению замысла, дерзость которого превосходила все мыслимое. Как мечтал Вагнер в цюрихские годы, "Союз покровителей" должен был собрать средства для постройки театра и устройства фестивалей. Байрейтский бургомистр Мункер и банкир Фейстель с восторгом подхватили идею Вагнера. Было решено выпустить тысячу патронатных билетов по три сотни талеров каждый. Их покупатели получали право доступа на первый фестиваль, который был назначен на лето 1873 года.
22 мая 1872 года состоялась торжественная закладка здания фестивального театра. Это событие было отпраздновано исполнением Девятой симфонии Бетховена под управлением Вагнера, сразу после чего приступили к строительству.
В финансовом отношении вагнеровский план повел к столь же плачевным последствиям, как и любое его начинание. По всей Германии основывались вагнеровские союзы, они пропагандировали идею Байрейта, и в "вагнерианцах" не было недостатка. Однако патронатные билеты никак не удавалось пристроить, и работы, начатые в кредит, пришлось приостановить. После победного шествия "Нюрнбергских мейстерзингеров" по театрам Германии Вагнер представлялся гигантом. Он словом и делом пропагандировал свою идею, он дирижировал концертами в пользу байрейтского фонда, он мобилизовал своих друзей. Но в конце концов остался один выход - обратиться к королю Людвигу. Тот взял на себя всю недостающую сумму, и, благодаря этому можно было продолжать строительство.
Среди всех забот и треволнений партитура "Гибели богов" была завершена - 21 ноября 1874 года. Договорились о том, что необходимые репетиции будут проведены летом следующего года, а первый фестиваль состоится в августе 1876 года. Одновременно с театром в Байрейте строился дом для самого Вагнера — вилла "Ванфрид", куда он въехал в апреле 1874 года. Теперь он был сам себе господин, никому не обязанный отчетом, — ни один художник не достигал еще таких высот. Однако эта последняя, величайшая победа далась ему нелегко: труды и заботы долгих лет, сизифов труд подготовки фестиваля, бесконечная утомительная борьба после его окончания, потому что и фестиваль принес дефицит, — это подорвало здоровье Вагнера и, надо думать, стоило ему нескольких лет жизни.
Первый байрейтский фестиваль 13—30 августа 1876 года стал вехой в истории оперы. Наивные слова, обращенные к Вагнеру самым вельможным посетителем фестиваля, первым немецким кайзером Вильгельмом I: "Я не думал, что вам удастся довести все это до конца", должно быть, совпадали с общим впечатлением. Людвиг, которого Вагнер увидел впервые после знаменательной мюнхенской постановки "Нюрнбергских мейстерзингеров", присутствовал уже на генеральных репетициях. На репетиции "Золота Рейна" Вагнер пошел на уступки своему покровителю, и король был единственным ее слушателем и зрителем. К этому времени Людвиг давно уже сделался затворником:он не терпел любопытства к своей особе, не выносил направленных на него взглядов и по его приказу спектакли ставили для него одного. После всего случившегося он сдержанно относился к Вагнеру, произведения которого по-прежнему приводили его в восхищение.
И еще раз пришлось взывать к великодушию монарха: как сказано, фестивали привели к значительному дефициту, и Вагнер безуспешно ломал голову над тем, как покрыть его. Бюлов тоже продемонстрировал великодушие, предоставив в распоряжение байрейтского фонда 40 000 марок - всю прибыль от концертного турне. Но что значила эта сумма, да и все то, что мог собрать концертами сам Вагнер, по сравнению со 150000 марок дефицита и тем капиталом, который необходим был для обеспечения планов последующих фестивалей. Германское правительство так и не удалось заинтересовать байрейтской идеей. Прошло шесть лет, пока двери фестивального театра не открылись вновь.
Чтобы позабыть о волнениях, Вагнер погрузился в новую работу, которая впитала в себя все лучшие его силы. "Парсифаль" стал его последним произведением, но самый первый замысел его тоже относился к творчески неисчерпаемой дрезденской эпохе. К весне 1879 года был готов эскиз, партитура—в начале 1882 года. Наконец байрейтские проблемы были решены — и вновь королем Людвигом, который принял на себя бремя дефицита и предоставил в распоряжение летнего фестиваля 1882 года хор и оркестр придворного театра. Узел был распутан, и король, уступая настоятельной просьбе Вагнера, не стал настаивать на постановке "Парсифаля" в Мюнхене, поскольку автор, ввиду особенного характера произведения, предназначал его лишь для Байрейта. 12 ноября 1880 года Вагнер исполнил для короля вступление к "Парси-фалю" с мюнхенским оркестром. Это была их последняя встреча. Вагнер не был царедворцем, что весьма простительно, но при этой встрече он без нужды обидел короля-благодетеля: тот попросил Вагнера повторить вступление и Вагнер с видимым раздражением сыграл его во второй раз, однако Людвиг пожелал услышать вступление к "Лоэнгрину", которым бредил, и тут Вагнер передал дирижерскую палочку придворному капельмейстеру Герману Леви, а сам отошел в сторону. Ему доставило удовольствие сыграть перед королем свое новое произведение, но он не был расположен выполнять его прихоти.
Вагнер разделял ложное мнение, что, распродав патронатные билеты, он будет исполнять свое произведение не перед ненавистной оперной публикой, но перед энтузиастами, перед любителями его искусства, Эта затея потерпела неудачу, и оставалось только пустить в свободную продажу билеты на второй фестиваль—16 спектаклей "Парсифаля". Фестиваль был отдан на откуп публике. Вагнер не сумел разрешить дилемму — зависеть от оперных театров и в то же время считать их вредными, достойными осуждения учреждениями. Он считал позором то, что был вынужден отдать театрам свои ранние вещи, включая "Лоэнгрина". Когда материальное положение Вагнера стало прочным, он начал чинить театрам всяческие препятствия. Но все равно отдавал свои произведения в театр, потому что его потребности в денежных средствах были безграничны. Он писал Генриху Лаубе: "Я столь дурного мнения о результатах деятельности постоянных театров, какие существуют в Германии, что определенно полагаю: как бы ни управляли этими театрами, они способны лишь умножать хаос и испорченность художественного вкуса немцев; поэтому я и решил лично не вмешиваться в их деятельность и лишь в конкретных случаях, если это возможно, забочусь о том, чтобы, когда какая-то моя вещь может быть поставлена хорошо, иметь дело с менее тупым и несколько более деловым человеком, нежели тот, что назначен ныне руководителем мюнхенского театра". Другой раз Вагнер пишет: "Отныне я не буду ни продавать, ни передавать своих произведений оперным театрам; "Мейстерзингеры" — последний случай, когда я вошел с ними в контакт".
Нужно ли говорить, что Вагнер не сдержал слова? Ведь нельзя выполнить абсурдное обещание. Сильнее любого каприза был денежный голод -никаких королевских милостей тут не хватало. После первого байрейтского фестиваля Вагнер стал разрешать всем театрам не только исполнять полный цикл "Кольца", но даже соглашался на исполнение отдельных частей. Он пошел даже на то, чтобы передать права исполнения "Кольца" человеку театра, предприимчивому директору Лейпцигской оперы Анджело Нейману. Тот составил труппу и объездил с ней всю Германию, а потом и Европу. От этого турне Вагнер имел немалый доход.
В 1882 фестиваль прошел с тем же блеском, что и в 1876 году. На этот раз доходы даже превысили расходы, ввиду значительно меньших затрат, — тем самым был материально обеспечен фестиваль 1883 года. Однако здоровье Вагнера серьезно ухудшилось, уже несколько лет его все больше беспокоило сердце. Когда на последнем спектакле "Парсифаля" Герману Леви стало нехорошо, Вагнер в третьем действии сам взял в руки дирижерскую палочку. Оркестр в байрейтском театре глубоко опущен, и никто этого не заметил. Он продирижировал своим произведением до конца и этим, в сущности, простился с миром.
Вагнера покоробило то, что на этот раз Людвиг не прибыл на фестиваль. Однако король был болен, страдал от невозможности преодолеть свой страх появляться на людях, к тому же едва ли он забыл, как повел себя Вагнер при их последней встрече в Мюнхене. Отношения Людвига с королевской семьей были в это время весьма натянутыми; король приводил в отчаяние министров своим нежеланием заниматься государственными делами. Трагическая судьба короля общеизвестна: в 1886 году медицинская экспертиза объявила его невменяемым, и король был лишен свободы. Сегодня многие сомневаются в том, что он был безумен: ведь ни один из четырех врачей, поставивших диагноз — паранойя, никогда не видел короля. Они вынесли свое заключение на основании расспросов придворных и слуг. Через несколько дней после этого король утонул в Штарнбергском озере — во время прогулки на лодке с надзиравшим за ним врачом, которого он увлек за собой в воду. Поведение отчаявшегося неотличимо от поступка безумца.
Но и Вагнера уже не было в живых. Нуждаясь в отдыхе, он провел в Венеции зиму после второго фестиваля. Здесь он вместе с семьей занимал роскошный дворец Вендрамин. Вагнер был по-прежнему активен и работал над несколькими статьями. Среди работ этой последней зимы отчет "О мистерии "Парсифаль" в Байрейте", эссе под названием "О женском начале в человеке", статья "Исполнение забытого юношеского произведения", написанные для одного еженедельника. "Юношеское произведение" — это симфония, которую Вагнер написал и исполнил в Лейпциге, когда ему было 19 лет. Вагнер считал, что произведение это давно потеряно, но совершенно случайно оно выплыло наружу. В первый день рождества, в день рождения Козимы, Вагнер исполнил эту симфонию с учениками лицея "Бенедетто Марчелло" в кругу семьи и друзей, в числе которых находился и Лист, навестивший своего друга. Вагнер не переставал интересоваться всем, что затрагивало его; в хорошие дни он даже чувствовал себя физически бодро. Но время его истекло. Сердечные спазмы стали повторяться все чаще и вызывали все большую тревогу — врачи не находили средств против них. Сердечный приступ 13 февраля 1883 года положил всему конец.
Две души в одном теле
Все небывалое, фантастичное, что присуще жизненному пути Вагнера, характерно тем, что в нем предельно деятельны задатки двух совершенно различных, редкостных человеческих натур. Это свойственная великим государственным мужам, политикам, реформаторам, направленная вовне неодолимая энергия и способность бессмертных художников предаваться своему труду — с предельной отдачей, сосредоточенно, забывая обо всем на свете. Вагнер — то и другое сразу. Он — Цезарь, Магомет, Наполеон, Бисмарк, когда нужно навязать миру свою волю, и он - Микеланджело, Гёте, Бетховен, когда нужно творить и когда художественный образ целиком захватил его воображение. В определенные периоды жизни Вагнер служил одной из этих задач. Само собой разумеется, что в определенном отношении Вагнер как политик от искусства проложил дорогу Вагнеру-художнику. Ведь отрешенный от мира мечтатель не смог бы одержать такие победы. А с другой стороны, Вагнер-художник всегда страдал от враждебности, которую возбуждал в людях Вагнер-политик и которую можно понять: кто же сражается с миром, не вызывая самой ожесточенной реакции?
У этих различных проявлений вагнеровской натуры, хотя они и кажутся совершенно несовместимыми, общий корень: необычно сильная, инстинктивная потребность в самоутверждении. Как бы парадоксально это ни звучало, возвышенная мораль художника и полная "бессовестность" человека выступают у Вагнера как побеги от одного корня, от вложенного в его душу глубочайшего влечения. Это, с одной стороны, влечение к художественному совершенству, к достижению наивысшего результата, какой только мыслим для его дарования, а с другой стороны, влечение к непременному, безоговорочному использованию любого преимущества в борьбе за существование. Что за нелепость — отделять человека от художника! Как будто человек и художник — это не один и тот же мыслящий, чувствующий, деятельный индивид. Но Вагнер — особый и, быть может, неповторимый случай: у него про явления "человека" и проявления "художника" становятся диаметрально противоположными крайностями — как если бы у них был не один и тот же хозяин. Вагнер — самовлюбленный человек. Это видно по каждому его высказыванию, по всему его поведению, по его размашистому, вдохновенному, красивому почерку, по самоотверженному служению своему творчеству, по его мысли. Всякое письмо, которое он пишет, создается с тщательностью, с явным расчетом на внешний эффект. Точно так же он в состоянии затрачивать неограниченное время и беспредельный труд на создание беловой партитуры. Работа над поздними произведениями — "Зигфридом", "Гибелью богов", "Парсифа-лем" — проходила три стадии: эскиз карандашом, партитура в черновике, беловая партитура, и каждая такая беловая партитура - это каллиграфический, притом отмеченный своеобразием, шедевр. Самовлюбленность перешла в любовь к собственному творению - к каждому отдельному такту, к каждому отдельному слову, относящимся к целому. Ему и для себя самого ничего не жалко — все должно быть самым лучшим и драгоценным, и над каждой деталью партитуры он трудится словно ювелир, словно Бенвенуто Челлини; и сама мысль, и почерк, выражающий мысль, — все определено чувством совершенной, законченной красоты. В конце партитуры "Нюрнбергских мейстерзингеров" Вагнер пишет: "Трибшен, четверг, 24 октября 1867 года, 8 часов вечера", прекрасно сознавая всю космическую значительность события. А на эскизе "Золота Рейна", подаренном королю Людвигу, Вагнер написал: "Завершено вечное творение!" (цитата из "Золота Рейна"). Все, что касается Вагнера и его творчества, несказанно значительно. Вот чем определялось величие созданного, и сам он сложился таким, каким только и может быть человек, одержимый самим собою.
Не бывает людей, которые не испытывали бы потребности в самоутверждении, Самосохранение немыслимо без такого свойства, однако оно уравновешивается в параллелограмме душевных сил, оно всегда подконтрольно. А у Вагнера самоутверждение беспредельно переоценивается, так что, можно сказать, оно способно становиться опасным для общества. Его художественная гениальность предотвратила худшее: в нем жило колоссальное давление сил, однако в критический момент открывался нужный клапан. Как бывает почти всегда, когда необычайная духовная одаренность находит для себя соответствующее поле деятельности. У великих творцов благодаря этому инстинкт самоутверждения иной раз нейтрализуется почти без остатка и для борьбы за существование остается лишь самый минимум энергии. Примеры из области музыки: Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт. Конечно, и внешние обстоятельства оказывают свое воздействие, а театр и всегда был местом борьбы. Прирожденные оперные композиторы, как-то: Гендель, Глюк, Верди, — принуждены были биться изо всех сил, как и Вагнер/
А у Вагнера ссора — в самой его натуре. С ранней юности борьба за самоутверждение происходит одновременно с творчеством, случалось, лучшие свои силы он отдавал борьбе. Иногда творческий родник дающий муж, у которого уводят жену, — вот фигура, коей всегда крепко достается в воспоминаниях Вагнера. Даже в адрес великодушного Отто Везендонка, деликатность которого повернула события в нужную колею, Вагнер отпускает лишь высокомерно-презрительные замечания.
Можно принципиально возражать против естественного стремления морально осуждать поведение Вагнера во многих ситуациях. Нравственные понятия теряют смысл перед лицом такого человеческого феномена, которому они вовсе неведомы. Его чувства — это стихия инстинкта, они интенсивны, а его мышление совершенно эгоцентрично, так что ему доступны лишь те чувства и соображения, которые касаются его самого. У него недостает нравственных тормозов, причем в такой степени, что в этом даже есть какое-то величие. Нужно же понять, что не что иное, как необузданность инстинктов, сказывается и в этом и, главное, в языке его музыки, которой придана небывалая интенсивность — она-то и составляет тайну воздействия этой музыки на слушателей.
Некоторые люди любят животных, но сердятся на лису, укравшую петуха, на кошку, поймавшую птичку. Столь же наивно было бы упрекать Вагнера в таких поступках, какие принято называть подлыми. Он невинен, как хищник.
Нельзя сомневаться в том, что проведенные в Париже годы, когда Вагнер испытал крайнюю нужду, оказали решающее воздействие на его душевную жизнь. Он узнал, что значит для человека, уверенного в своем таланте, в своих возможностях, быть смертельно оскорбленным, когда с тобой обращаются как с назойливым попрошайкой и в лучшем случае подают тебе милостыню. Вагнер никогда не простил этому городу причиненных ему обид, и вместе с тем тот никогда не переставал притягивать его к себе. Ненависть к Парижу, к французской "распущенности" концентрируется для него в Мейербере, который тождествен в его глазах французскому духу. Некогда Вагнер восхищался Мейербером, и, как показывает пример "Риенци" и отдельные отголоски в "Летучем голландце", отнюдь не из дипломатических соображений. Однако спустя два года Вагнера начинает очень раздражать, когда кто-либо замечает это — особенно если это Шуман, о котором Вагнеру было прекрасно известно, что он решительно отвергает искусство Мейербера. Вагнер писал Шуману по поводу его критической статьи о "Летучем голландце": "Во всем, что вы пишете о моей опере, я согласен с вами -в той мере, в какой вы знаете ее теперь; лишь одно сильно встревожило меня и - признаюсь - даже рассердило - это то, что вы совершенно спокойно говорите мне, будто многое звучит у меня по-мейерберовски. Прежде всего я совсем не знаю, что такое "мейерберовское" - быть может, утонченное стремление к пошлой популярности... Но вы так говорите, и это ясно показывает мне, что вы еще не смотрите на меня непредвзято; быть может, что-то можно вывести из знания внешних обстоятельств моей жизни, а в силу таких обстоятельств я действительно вступил с Мейербером в отношения, за которые обязан его благодарить".
С годами Вагнер все сильнее подчеркивал свой немецкий национализм. Несомненно, это объясняется всем пережитым им в Париже. Происшедший спустя двадцать лет скандал с "Тангейзером" подлил масла в огонь, укрепив Вагнера в его настроениях. Его отношение к французам и ко всему французскому продиктовано чувством мести — это доказывает прискорбное литературное изделие, самое жалкое, какое только Вагнер взял на свою душу, так называемая юмористическая драматическая пародия под названием "Капитуляция", в которой он в 1871 году издевался над поражением французов в войне. Он даже делал попытки — не выдавая, разумеется, своего авторства — пристроить эту пошлость в берлинских театрах, но, к счастью, ни один театр не пожелал ставить пьесу. Непостижимым образом Вагнер позднее включил ее в собрание сочинений. Этот факт вполне ясно показывает нам, что жизнь его души развивалась стихийно, инстинктивно, интенсивно, ненависть ослепляла его настолько, что он абсолютно некритично относился к своим поступкам. Еще одним представителем ненавистной французской культуры был для Вагнера Оффенбах. Вообще говоря, для человека его склада Вагнер был хорошим критиком, он хорошо чувствовал свежее в музыке и, к примеру, всегда отдавал должное Россини и даже Оберу, Но при имени Оффенбаха волосы встают у него дыбом:уступив просьбе молодого Вейссхеймера, Вагнер побывал в Майнце на представлении "Орфея в аду", которым дирижировал этот его приятель. "Я был в ужасе, — пишет Вагнер. — Приняв участие в молодом человеке, я опустился настолько, что присутствовал на представлении подобной мерзости; долгое время я дулся на Вейссхеймера и не мог не давать ему почувствовать, насколько я расстроен". А Глазенап сочувственно передает высказывание Вагнера, относящееся к последнему году его жизни; в то время много говорили о пожаре оперного театра в Вене, когда погибло 900 человек, пришедших на спектакль "Сказки Гофмана". Вагнер же сказал: "Люди на таком спектакле — самый пустой народ. Когда погибают рабочие в угольной шахте, это волнует и возмущает меня: вызывает ужас общество, которое таким способом добывает топливо. Но если столько-то светских людей гибнет во время представления оперетты Оффенбаха, в которой нет и малейшего намека на нравственное величие, — тут я совершенно равнодушен, меня это почти не трогает". В вагнеровском отношении к Оффенбаху сказывается, помимо всего прочего, еще и характерный для того времени недостаток культуры чувств — не попробовать ли назвать его тягой к ужасному? — и свойственное развитому романтизму специфическое понимание драмы. Кажется, публике было в те времена не по себе, если в драме не происходило несколько убийств. В юности Вагнер написал драму "Лейбольд и Аделаида", в которой успели вымереть целые семейства, так что в последнем действии оставалось только вывести на сцену нескольких призраков — иначе некому было играть. Это ребячество, но оно вполне соответствует духу эпохи, моде, которая удерживалась необычайно долго. Еще полвека тому назад в театрах венских предместий можно было практически познакомиться с тем, что такое "страх", посетив спектакль "Мельник и его дитя" по пьесе Раупаха. А Вагнер и вообще не понимал, кажется, что драма может служить поводом для душевной разрядки. Вагнер однажды назвал "Зигфрида" комедией—что ж, тут всего два мертвеца, Фафнер и Миме во втором акте, а их не жалко. В "Тристане", чтобы оплакивать мертвых, остается всего двое действующих лиц — король Марк и Брангена. А в конце "Гибели богов" из всех богов, людей, карликов и великанов в живых, помимо несчастной Гутру-ны, остаются лишь Альберих с тремя дочерьми Рейна, с жеманной болтовни которых в первой сцене "Золота Рейна" и начались все несчастья. Ни один драматург не расправлялся со своими героями так, как Вагнер.
Вагнер затронул в мемуарах характерный эпизод, относящийся к цюрихскому периоду жизни: "В эти зимние вечера я вновь перечитал Тристана" широкому кругу друзей. Готфриду Келлеру очень нравилась сжатость целого — всего только три развернутые сцены. Но Земпера [архитектора, позднее построившего фестивальный театр в Байрейте. — Авт.] это злило; он упрекал меня в том, что я ко всему подхожу с серьезной стороны, между тем как художественная обработка подобного сюжета тем и хороша, что его серьезность преломлена, отчего даже то, что глубоко волнует, начинает доставлять наслаждение. Ему и в "Дон Жуане" Моцарта нравится то, что там трагические типы как бы лишь выступают в маскараде, где домино еще предпочтительнее характерной маски. Я согласился с тем, что, конечно, было бы куда удобнее, если бы я к жизни относился серьезнее, а к искусству легкомысленнее, но у меня, должно быть, всегда будет наоборот". Земпер не мог тогда знать, что в оригинале, откуда Вагнер почерпнул свой сюжет, то есть в "Тристане" Готфрида Страсбургского, действительно встречаются и веселые, и даже бурлескные сцены. Но надо задуматься над тем, что такой художник, как Земпер, благодаря своей непредвзятости и большей дистанции по отношению к подобным вещам оказался в состоянии преподать урок музыкальному драматургу - заявив о подлинном величии Моцарта.
В Париже Вагнер на собственной шкуре испытал и навсегда запомнил: мало создать произведение, надо еще ухитриться поставить его! Вагнер в Дрездене - это уже большой авторитет, это ведущий художник эпохи. И успех произведений, и прирожденный дирижерский талант Вагнера - все пришлось кстати. И то, и другое наполняло его душу удовлетворением; такого настроения хватило на годы - отсюда и интенсивность творческого процесса, когда Вагнер, поднимаясь от "Тан-гейзера" к "Лоэнгрину", окончательно сформировал свой индивидуальный стиль и накопил творческие импульсы, разработка которых продолжалась затем всю жизнь. Кроме тех замыслов, которые Вагнер впоследствии осуществил, он в те же годы набросал и "Кузнеца Ви-ланда", и "Иисуса из Назарета", а помимо того, драму на буддийский сюжет "Победители", которой продолжал заниматься и в Мюнхене. Энергичный организатор, неутомимый спорщик, создатель бесконечных проектов, Вагнер стал масштабной личностью: многие склонны были последовать за ним, большинство относилось к нему с недоверием. Постепенно выяснилось и то, что такой беспокойный, безмерно честолюбивый, не терпящий никаких ограничений человек не сможет надолго удержаться в рамках какой бы то ни было организации. Этот взбунтовавшийся подданный саксонского короля взбунтовался бы и в республике; сам Вагнер очень скоро понял это.
Революция не просто отняла у Вагнера прочное положение в обществе. Как уже сказано, ему пришлось ждать пять лет, пока в нем вновь не заговорил музыкант. Эти пять лет — главный период в жизни Вагнера, когда он занимался культурно-политической деятельностью. Это годы, посвященные теории. Подлинной же целью теоретизирования была пропаганда собственного творчества, своих идей, своих планов, организация своей художественной партии. Поначалу друзей, приверженцев Вагнера была лишь горсточка, а всего через несколько лет ваг-неровская партия сумела стать могучим фактором в немецкой музыкальной жизни. Душой партии поначалу был Лист - вокруг него в Веймаре собралась группа молодых энтузиастов. Лист неутомимо провозглашал, словом и делом, идеалы "музыки будущего": недоброжелательный критик позаимствовал эти слова из книги Вагнера "Художественное произведение будущего", а Лист с гордостью воспользовался ими. Борьба вокруг "музыки будущего" принадлежит истории. Основным ее принципом было подчеркивание поэтического, выразительного элемента в музыке в противоположность абстрактной форме, а в связи с этим и склонность к описательным, внемузыкальным моментам формосложения. Знаменосцами этих тенденций были Берлиоз и Лист; Вагнер, с его неисчерпаемой, своеобразной фантазией, с его доведенной до предела интенсивностью выражения, реализовал их полно и совершенно. Несомненно, Вагнер был не просто самым значительным композитором всей группы, но он в своих теоретических сочинениях ясно изложил ее программу, ее философско-эстетическое оправдание. Лист был благороден, он, восторгаясь, восхищаясь Вагнером, признавал его превосходство, он неутомимо выступал в защиту, в поддержку изгнанника и нес при этом ощутимые материальные потери, начиная со времени изгнания и до неприятного эпизода в Венеции. Вагнер же, даже если его и не было на месте, заботился о том, чтобы "партия" получала необходимую информацию. Нередко он даже давал прямые указания Бренделю, издателю (после Роберта Шумана) "Нового музыкального журнала". Брендель стал как бы руководителем пресс-бюро "музыкантов будущего". Письмо Вагнера его дрезденскому другу Улиту, сотруднику журнала, читается как поручение, которое босс дает своему печатному органу: “Исключительно в этом духе и следует в дальнейшем реферировать в музыкальной газете; ты сам видишь, что тут есть что сказать. Следует неукоснительно придерживаться того принципа, который я выставил в письме Бренделю, - "музыку, которая развивается в направлении поэтического, следует всемерно возвышать, поддерживать, укреплять ее позиции; если же она отклоняется от такого курса, то нужно показывать ее ложность и ошибочность и предавать ее осуждению".
Теперь уместно хотя бы кратко познакомить читателя с теоретическими идеями Вагнера. Его теоретические статьи — нелегкое чтение, не просто потому, что Вагнер пишет чрезвычайно пространно, приводя разнообразные исторические, философские, эстетические аргументы, но и потому, что его стиль, обычно ясный и образный, сейчас же становится невообразимо путаным и выспренним, как только Вагнер начинает теоретизировать. Читателя нужно убеждать, и аргументы Вагнера сыплются на него как град. Чем сомнительнее утверждение, тем больше риторики — Вагнеру все равно хочется добиться требуемого результата. Как только Вагнер начинает крутить, мы вправе подозревать, что дело нечисто.
Вот основная мысль Вагнера, к которой он возвращается снова и снова: современное искусство потерпело полный крах. Вагнер пишет Августу Рёкелю, соратнику-революционеру: "Только теперь, когда оно отбросило последний стыд, видно, насколько подло и, говоря откровенно, ничтожно все наше сегодняшнее искусство..." Идеал искусства для Вагнера - античная трагедия; будучи совершенным выражением народной души, она объединяет весь народ под знаком художественной религии. А современное искусство - это предмет купли и продажи, современный театр - место развлечения. Нужно, чтобы все искусства вновь объединились в создании универсального художественного творения — "художественного произведения будущего", вот тогда человечество будет спасено и обретет подлинную культуру. В новое время театр развивался по двум направлениям: он дал чисто литературную драму, с одной стороны, оперу - с другой. И драма, и опера -одинаково ложные жанры, драме недостает души, которую может дать ей лишь музыка, необходимая ей стихия эмоционального, опера же — это сплошное извращение сценического искусства, самая низменная, презренная форма его проявления. Первородный грех оперы - в том, что цель театрального искусства, то есть драма, становится в ней средством, а средство, то есть музыка, — целью. Не меняют существа дела и драгоценные создания этого ложносинтетического жанра - произведения Глюка, Моцарта, Бетховена, Вебера. Ложна ведь самая главная предпосылка этого жанра, а кроме того - Вагнер неустанно подчеркивает это обстоятельство, - опера - это незаконный отпрыск итальян-ско-французского искусства, она враждебна немецкому духу, это вредоносная и в моральном, и в художественном отношениях статья импорта; заниматься оперой - позор для немецкой нации. "Волшебная флейта" Моцарта, "Фиделио" Бетховена, "Волшебный стрелок" и "Эврианта" Вебера - знаменательные попытки создания немецкой оперы. Попытки эти были заранее обречены на неудачу — недоставало истинной, бескомпромиссной драмы, недоставало подлинно немецкого стиля вокальной декламации и сценической игры.
Вот простейшая формула вагнеровской теории, его основной тезис. У нее есть и позитивная, и негативная стороны. Вагнер — пусть и не слишком определенно - видит свою цель: подлинную музыкальную драму. Он полемизирует со всем, что создано ранее, — оно должно быть преодолено и отброшено. Вот что писал Вагнер веймарскому интенданту фон Цигезару: "Чтобы явить идеал в осязаемой чистоте, нужно освободить его от любого воздействия существующего, это существующее необходимо отрицать, представить в его полнейшем ничтожестве, только тогда мною будет завоевана почва, на которой может быть понят мой идеал, причем понят так, чтобы вся убедительность его умножала мои силу и мужество, так, чтобы уже сейчас я мог предпринять ближайшие шаги к достижению этого моего идеала, то есть к созданию нового".
Доказательству того, что существующие художественные жанры должны быть преодолены и отброшены, посвящена большая часть ваг-неровских рассуждении. Утверждая, что все предшествующее художественное развитие шло по ложному пути, Вагнер позволяет себе поразительные откровения. Так, коль скоро Гёте потребовалась в "Фаусте" музыка, чтобы выразить все, что не скажешь словами, то, следовательно, литературная драма после Гёте — вещь совершенно излишняя. Бетховен в своей последней (Девятой) симфонии вынужден был прибегнуть к хору и солистам, потому что дошел до самых пределов того, что можно выразить с помощью инструментов, следовательно, симфония после Бетховена бессмысленна и излишня. Живопись, скульптура, а также и малые, интимные музыкальные жанры - все это чисто буржуазные развлекательные формы; посвящать себя им — значит распылять силы, тратить их попусту, тогда как они должны служить благородным, вечным целям, целям создания универсального произведения искусства, должны реализовать идеал подлинного немецкого искусства, выражающего существо немецкой нации. Надо сказать, Вагнер специально подчеркивает, что самому ему отнюдь не удалось еще осуществить свой идеал в собственных, созданных до той поры произведениях. Он осознавал фактическое положение дел. Но это лишь первый шаг к достижению цели.
Самое удивительное, что Вагнер пылко и искренне верит во все это. Его необычайно развитый ум обнимает все области знания, но сам Вагнер по своей натуре столь эмоционален, что неспособен мыслить аналитически, объективно оценивая положение дел. Он исходит из предвзятого мнения, и исследование вопроса должно лишь с логической непременностью подтвердить его. Вся теория с ее историческими и эстетическими выводами служит лишь тому, чтобы укрепить фундамент искусства Вагнера; сам же он — первый подлинный музыкальный драматург в истории, создатель творений, поднимающихся над низостью жалкой эпохи, устремленных к идеалу истинного искусства. Эта вера, эта мания величия были необходимы Вагнеру для реального создания того, что он создал. Лишь твердо веруя в свое историческое призвание, можно было написать "Кольцо нибелунга", "Мейстерзингеров". Когда Вагнер был молод, его еще мог манить успех, успех оперы, теперь же он оставил далеко позади столь банальные цели, теперь он может творить, лишь будучи уверен в том, что никто до него не создавал ничего подобного, что никому до него ничто подобное даже и не снилось!
Но, дабы исполнить свое призвание, найти подлинное понимание своих целей, своего пути, создать материальные условия для этого, необходимо одно — упразднение оперного театра, этого пошлого, фривольного развлечения, привлекающего пошлую и фривольную публику. Оперный театр пожирает те общественные средства, которые должны служить благородным целям — именно целям его, Вагнера. Читателю известен ход мысли Вагнера — по послесловию к первому изданию текста "Кольца", оно цитировалось выше. И эта idee fixe Вагнера, его ненависть к опере, вырастает на эмоциональной почве. В театре ставят пошлости, тогда как Вагнер в свое время не мог добиться того, чтобы в Париже были поставлены его произведения. Живя в Париже, Вагнер должен был калечить пальцы, аранжируя пакостную музыку Галеви и Доницетти. В Дрездене Вагнеру приходилось терпеть в репертуаре мерзости Флотова, Герольда, Доницетти, Беллини, приходилось даже самому дирижировать ими. Желание увидеть свои создания на сцене буквально сжигало молодого музыканта — отсюда и безусловное намерение быть единственным жрецом в том храме искусства, где публика, ищущая развлечения, доныне готова день за днем восторгаться гадкими произведениями Мейербера, Верди, Гуно; конкурировать с такой дрянью — значит снова и снова унижаться. Отсюда постоянный вывод: "Я страдал от этих опер — значит, опера должна исчезнуть".
Вагнер притязает на единовластие, чем в большой мере и объясняется враждебность к нему критики и многих музыкантов. Наивная публика не противилась — она позволяла ему увлечь себя. Вена была резиденцией главного противника Вагнера из числа музыкальных критиков - Эдуарда Ганслика; однако один театр в предместье Вены поставил "Тангейзера", добился сенсационного успеха и собирал полный зал — придворная сцена тогда еще и не прикасалась к сочинениям "человека с баррикад". А когда был поставлен "Лоэнгрин", на спектакли оказалось невозможно достать билеты. Такие факты недвусмысленно показывают, что критика оставалась совершенно бессильной перед искусством Вагнера; сам же он переоценивал ее влияние. Он преувеличивал и злонамеренность критиков! Критики, с музыкально образованным Гансликом во главе, были в большинстве своем тупы, глупы, но читать-то они все же умели! И если уж они с самого начала не решали для себя, что пойдут за Вагнером сквозь огонь, воду и медные трубы, то, читая его теоретические сочинения, наверное, легко склонялись к тому, чтобы отвергнуть их. Сам же Вагнер приписывал враждебность печати иному обстоятельству — именно публикации памфлета "Еврейство в музыке" (в 1850 году). Но, должно быть, совесть Вагнера была нечиста - ведь именно это и помешало ему опубликовать статью под своим именем. Вагнер яростно нападает в ней на двух самых знаменитых и самых влиятельных композиторов своего времени: Мейербера и Мендельсона. Вагнер придумал способ привести к единому знаменателю двух музыкантов, между которыми нет ничего общего, что, собственно, признавал и сам Вагнер. А ведь если принять во внимание, что Вагнер никогда и ни при каких обстоятельствах не желал признавать ни одного здравствующего композитора, ни одного здравствующего поэта — он равным образом выступал против Шумана и Брамса, против Геббеля и Грильпарцера, - вполне вероятно предположение, что Вагнер по крайней мере подсознательно следовал намерению единым махом выбить из седла двух столь значительных конкурентов. Задолго до Трейчке Вагнер выступил как представитель историко-культурного антисемитизма. И здесь, как и в своей эстетике оперы, он пользуется мнимыми доводами, которые должны подтвердить его предвзятые мнения, ведь, по мнению Вагнера, еврей совершенно не способен усвоить европейскую, а тем более немецкую культуру. Он признает дарование Мендельсона, и по Вагнеру получается, что Мендельсон в своих интересных и технически безукоризненных сочинениях передает совершенно ничтожное содержание. А оперы Мейербера — это чистая коммерция, утонченный расчет на эффект, стремление к нему любой ценой — к "действию без причины". Создается, кстати говоря, впечатление, что вагнеровский антисемитизм, все более резкий с годами, подхлестывался шумной реакцией, которую вызвал его памфлет. Таким образом, действие и противодействие приводили в данном случае к тому, что взгляды Вагнера получали все более заостренное выражение. Вагнер любил объявлять своих критиков евреями — например, Ганслика, который не был евреем, — а каждого еврея, например Мейербера, он подозревал в том, что тот поддерживает травлю его, Вагнера, в газетах. Жена Козима вторила Вагнеру как попугай.
Как только Вагнер вступил на арену полемики и публицистики, его имя оказалось в центре художественной дискуссии и, мало того, сам он сделался предметом споров и оставался таковым в течение всей жизни. Потребность публично высказываться обо всем на свете, что как-то волновало его, была в Вагнере непреодолимой, он постоянно нападал и сам был предметом нападок, всю жизнь он ссорился с людьми. В письме Корнелиусу из Трибшена Вагнер не без видимого удовольствия расписывает свою судьбу: "О себе много не скажу — ведь и без того только и говорят что обо мне. Если бы какой-нибудь человек целый день только и думал, как бы сделать так, чтобы о нем как можно больше шумели, так этот человек едва ли бы достиг большего, — я думаю, многие завидуют такому моему умению. Вот, например, Брамсу это совсем не удается". Видно, Вагнер плохо знал Брамса, если он подозревал в нем желание рисоваться на публике. Ганслик — филистер в музыке, но остроумный человек — относит к Вагнеру то, что писал Геббель о Шиллере: "Вот святой! Судьба вечно клянет, а он непрестанно благословляет!" И Ганслик продолжает: "И создателя "Лоэнгрина" судьба тоже вечно кляла — но только он отругивался еще громче!" Заметим, что критические статьи Ганслика все же объективнее вагнеровских. Ганслик прежде всего отметал вагнеровские притязания на единовластие. Он никогда не отрицал его величия. В статье о "Парсифале" Ганслик писал: "Мы все хорошо знаем, что Вагнер — величайший из ныне здравствующих оперных композиторов, что в Германии он — единственный, о ком можно вести серьезный разговор в историческом смысле". И с печальной интонацией замечает: "Кто в наши дни пишет не по-вагнеровски, дела того плохи, а кто пишет по-вагнеровски, дела того еще хуже".
Быть может, никто не характеризовал двойственность вагнеров-ской натуры столь живо, как эльзасский писатель Эдуард Шире, познакомившийся с Вагнером в дни премьеры "Тристана" в Мюнхене и навешавший его в Трибшене и Байрейте: "Посмотришь на него — с лица Фауст, в профиль Мефистофель. Вот Протей, чье богатство слепило, — пылкий, своевольный, безмерный во всем, и притом все находилось в нем в удивительном равновесии благодаря всеобъемлющему интеллекту... Он открыто выступал перед всеми, не таил ни достоинств, ни ошибок, одних магически притягивал к себе, других отталкивал".
Одним из самых знаменитых и значительных друзей Вагнера был Фридрих Ницше. Он изведал и то, и другое — и приятие, и отторжение. После фестиваля 1876 года Ницше сделался из Павла Савлом, из пылкого сторонника — непримиримым противником Вагнера. Он проницательно распознал слабости Вагнера, хотя оскорбленное тщеславие тоже сыграло свою роль. В высокоодаренном юном друге Вагнер видел лишь полезного для него пропагандиста. А Ницше претендовал еще на что-то свое, и это было непонятно Вагнеру. Прослушав доклад Ницше "Сократ и греческая трагедия", Вагнер отреагировал на него так: "Вот и покажите теперь, на что способна филология, и помогите мне утвердить эпоху великого возрождения, где бы Платон обнимал Гомера, а Гомер, преисполненный идеями Платона, стал пренаивеличайшим Гомером". Здесь видно, как оценивал себя Вагнер! Однако самолюбие Ницше не уступало вагнеровскому. Ницше представлял молодое поколение с его антиромантизмом: он первым отклонил весь романтический хаос и романтическое упоение чувством - этим и был предопределен разрыв с Вагнером. Позднейшие высказывания Ницше о Вагнере пышут ненавистью, а всего через несколько лет Ницше постигла духовная катастрофа, и, быть может, неумеренная раздраженность его слов отчасти объясняется его состоянием.
Вагнер — дух беспокойный; теоретические рассуждения помогали ему заглушить душевную пустоту в периоды, когда творческие силы ослабевали. Когда же энергия возвращалась, то Вагнер рад был забыть и о размышлениях, и о писанине, и о проповеди своего учения. Когда замысел "Нибелунгов" начал вырисовываться, Вагнер признавался Рёкелю: "Мои сочинения свидетельствовали о том, что как человек искусства я утратил свободу: я писал их как бы по принуждению, вовсе не намереваясь сочинять "книги"... Теперь же все это писательство позади: если бы я продолжал, то непременно погиб бы..." Позднее, во время работы над "Мейстерзингерами", когда после довольно длительной творческой паузы Вагнер почувствовал прилив свежих сил, он все же не удержался и уступил соблазну заняться политикой — хотя в свое время и пострадал от этого. Правда, кризис 1866 года предоставил Вагнеру немало поводов высказывать свое мнение и королю, и политикам, и журналистам. Не удержался Вагнер и от того, чтобы в знак протеста послать баварскому премьер-министру принцу Гогенлоэ конфискованную по требованию короля заключительную главу своего трактата "Немецкое искусство и немецкая политика". После этого Вагнер все же одумался и с тех пор уже не встревал в баварскую политику.
Тем более занимали его поистине колоссальные проблемы, связанные с реализацией идеи Байрейта. На счастье, к этому времени "Гибель богов" была уже готова, хотя бы в черновике. В тот момент, с переездом Вагнера в Байрейг, строительство вступило в решающую фазу и ко всем заботам о финансировании предприятия прибавился еще и сизифов труд в должности директора театра. Вагнер все это испытал на себе. Байрейт был последним и самым значительным трудом Вагнера - человека дела. Кстати, заметим, что благодаря этому предприятию Вагнер, хотя и очень поверхностно, познакомился с другим человеком дела; однажды, в период, когда Вагнер предпринимал самые первые шаги к подготовке фестиваля, его принял в Берлине Бисмарк. То была единственная их встреча. На письмо композитора, приложенное к его сочинению о байрейтском театре, имперский канцлер вообще не ответил. Очевидно, ему пришлась не по душе вагнеровская идея возрождения немецкой нации средствами театра. И Вагнер начал дурно отзываться о Бисмарке.
Деньги, долги, роскошь
Характер Вагнера отмечен многими замечательными чертами, и среди них первая — почти патологическая расточительность. Организм Вагнера был устроен как-то особенно — все, ему свойственное, предстает как бы в превосходной степени. Однако отношение Вагнера к деньгам столь загадочно, что стоит над ним поразмыслить. Вагнер и сам это чувствовал. Он затронул данную тему в письме своему другу — дрезденскому медику Пузинелли — в ту пору, когда он мог бы давно уже жить припеваючи благодаря щедрости короля Людвига. Вагнер рассказывает в своем письме о том, что больше всего мешало ему в жизни. "Самым ужасным, — пишет он, — была нищета. Унаследованное состояние, большое или незначительное, обеспечивает человеку самостоятельность, если тот хочет чего-то дельного и настоящего. Для моих же целей, притом в той сфере, в которой я действую, необходимость добывать себе деньги на пропитание — это просто проклятие. Многие, в том числе и великие люди, испытали это на себе, многие погибли. Я убежден, что, обладай я хотя бы самым скромным капиталом, внешняя сторона моей жизни стабилизировалась бы и любое беспокойство просто не коснулось бы меня. Я же находился в диаметрально противоположном положении и был равнодушен к цене денег, словно знал заранее, что никогда не сумею "заработать" их. От последствий этого я при своем стремлении к идеальному всегда несказанно страдал".
Можно сказать, что все знаменитые предшественники и современники Вагнера разделяли с ним этот недостаток — недостаток наследогненного капитала. За исключением двоих: Мендельсона и Мейербера. Очевидно, Вагнер сердился за это на них, точно так же, как был недоволен их славой. Неизвестно, в состоянии ли был бы Вагнер при каких-то условиях жить скромно и без затей. Но нет сомнения в том, что борьба за существование с юных лет предопределила его отношение к вещам, к материальным ценностям. Жажда жизненных впечатлений, интенсивность желаний и потребностей быстро научили Вагнера раздобывать все для него необходимое. Сначала Вагнер прибегал к помощи братьев, сестер, зятьев, друзей. А позднее не было буквально никого, кто приходил бы в соприкосновение с Вагнером и кому не грозили бы его грабительские набеги. Вагнер требовал, просил, молил, бесподобной силой красноречия выманивал деньги из карманов, если только те в них водились. Потребности его возрастали пропорционально росту его значения, самосознания, запросов. У разных людей разные жизненные реакции. Гайдн, Бетховен, Брамс, Верди с детства жили в бедности, и в дальнейшем их потребности были умеренны. А у Вагнера — обратное: бедность до предела обострила его потребность в дорогих, богатых вещах. Так Вагнер реагирует всегда: малейшее давление всякий раз вызывает с его стороны яростное, страстное противодействие. В парижские годы он был лишен самого необходимого, но сделался эпикурейцем на всю жизнь; в изгнании, в годы странствий он не был материально обеспечен, но стал сибаритом; наконец, благополучное существование было окончательно обеспечено и Вагнер мог жить, не испытывая непосредственных материальных затруднений, однако тут чувство зависимости от капризов короля привело к тому, что Вагнеру начало буквально мерещиться, будто лишь царская независимость совместима с его достоинством. И царский образ жизни. Вот Байрейт и стал резиденцией нашего государя. Отныне он ездил лишь в отдельном вагоне-салоне, а когда отдыхал в Италии, то на семь человек, из которых состояла его семья, приходилось восемь человек прислуги.
В том, как обращается Вагнер с деньгами, равно примечательны три момента: его колоссальные, притом все возрастающие потребности, его способы раздобывать средства и поведение по отношению к кредиторам. Чтобы выразиться помягче, Вагнер во всем поступает странно. Что касается потребностей, то тут у него нет тормозов: всем, чего ему хочется, он должен обладать, притом немедленно и невзирая на цену. Что касается раздобывают средств, то Вагнер имеет обыкновение обращаться в ломбард: он получает деньги как под залог ценных вещей (какие только окажутся под рукой), так и главным образом под свои будущие доходы, на какие только может рассчитывать. Расчеты, надо сказать, оправдывались, но, как правило, с большим опозданием. Предметом финансовых операций были и уже написанные произведения, но в те времена только самый крайний оптимист или же авантюрист могли бы рассматривать как твердую гарантию доходы от них. А Вагнер при этом всегда еще пытался свалить весь риск на кредитора. Уже в Магдебурге, на заре своей карьеры, он заложил фундамент своей задолженности. Он уже взял тогда двести талеров у своего состоятельного друга Теодора Апеля и вот что ему написал: "Мне не надо от тебя подарков, но купи у меня права на будущие доходы от моей оперы! Если ты мне доверяешь, то ты как раз и есть тот человек, кто ничем тут не рискует; я оцениваю эти доходы в сто талеров — ты дашь мне столько? Это честная торговля, и я лишь потому обращаюсь к тебе, что не без основания чувствую именно в тебе наибольшую веру в успех. Если еще в этом месяце у меня не будет денег, мне нельзя будет даже и показаться здесь". Предполагавшийся "доход" от оперы — это чистая прибыль от второго спектакля "Запрета любви", который должен был даваться в бенефис Вагнера, но так и не состоялся. Как только Вагнер получал ссуду, любое воспоминание о долговом обязательстве немедленно исчезало из его памяти. Требования по возможности игнорируются им, долги выплачиваются за счет новых ссуд и лишь в самом крайнем случае наличными.
Рост потребностей, беззаботность, нежелание платить — все это основывается на несокрушимой вере в то, что мир, черт его побери, обязан обеспечить его, Вагнера, достойное существование, что величие его творчества требует соответствующего вознаграждения и что всякий, кто в состоянии удовлетворять вполне оправданные его претензии, тем самым лишь исполняет свой долг и не заслуживает никакой благодарности. Так смотрит Вагнер и на своих поставщиков — он получает от них все необходимое в кредит. Вагнер, не задумываясь, подписывает любые векселя и долговые обязательства; сроки выплаты для него лишь отвратительная черта буржуазного общественного устройства. Зарабатывать на жизнь — ниже его достоинства. Пусть так поступают неучи, филистеры; он же довольствуется тем, что тратит деньги. Презирая филистера, Вагнер презирает и деньги, которые получает от него, потому-то и стремится как можно скорее отделаться от них.
При этом Вагнер следует не определенному ходу мысли, а инстинктивному чувству, — но ведь невозможно противодействовать иррациональным ощущениям. Бесчисленные высказывания Вагнера выражают именно такое чувство. Стоит только просмотреть его письма к Листу, который с бесконечным терпением и добротой снова и снова сколько мог давал Вагнеру деньги.
Вот маленькая выборка из этих писем. 23 июня 1848 года — Лист как пианист уже прекратил свои концертные выступления и обосновался в Веймаре, на постоянном месте со значительно меньшим жалованьем, нежели то, которого всегда не хватало Вагнеру в Дрездене. Вагнер пишет Листу: "Вы недавно сказали мне, что на время заперли фортепьяно, — предполагаю, что Вы сделались теперь банкиром. Мои дела плохи, и тут как молния меня пронизывает мысль, что Вы можете помочь мне. Я за свой счет издал три оперы, необходимый для этого капитал был взят в долг в разных местах; теперь векселя предъявлены к выплате, мне не осталось и недели... Речь идет о сумме в 5000 талеров... Можете Вы достать эти деньги? Есть они у Вас или у кого-нибудь, кто в угоду Вам даст их? Вас не заинтересует стать обладателем издательских прав на мои оперы? Дорогой Лист, этой суммой Вы выкупите меня из рабства! Вам не кажется, что, как крепостной, я этого стою?"
Шестью годами позже из Цюриха: "В течение ближайших трех месяцев мне предстоит получать доходы от опер за этот год; по всем признакам урожай будет хорош, и я надеюсь раз и навсегда выйти из затруднений. Самое малое, на что я могу рассчитывать, - это 1000 талеров. Кто ссудит мне такую сумму, тому я с чистой совестью выдам вексель на три месяца".
Спустя еще два года: "Спрошу тебя, не лучше ли будет, если ты подаришь мне те 1000 франков, о которых идет речь? И не можешь литы определить мне на ближайшие два года ежегодную доплату в том же размере?" А когда Лист посоветовал Вагнеру принять одно американское предложение, Вагнер ответил: "Боже милостивый, да те суммы, которые я мог бы "заработать" в Америке, их люди должны дарить мне, не требуя взамен решительно ничего, кроме того, что я и так делаю, потому что это и есть самое лучшее, на что я способен. Помимо этого, я создан не для того, чтобы "зарабатывать" 60000 франков, а скорее для того, чтобы проматывать их. "Заработать" я и вообще не могу:"зарабатывать" не мое дело, а дело моих почитателей давать мне столько, сколько нужно, чтобы в хорошем настроении я создавал нечто дельное".
И снова: "Я заявляю, что после того, как за десять лет уже привык к изгнанию, для меня самое важное не амнистия, а гарантия безбедного существования, которое позволит мне спокойно жить". Что же касается запросов Вагнера, то он пишет: "Если я должен вновь броситься в волны художественной фантазии, чтобы найти удовлетворение в воображаемом мире, то по крайней мере надо же оказать помощь моей фантазии и поддержать мое воображение. Я ведь не могу жить как собака, не могу спать на сене и услаждаться сивухой; если уж надо, чтобы мой дух успешно справился со смертельно тяжелым трудом сотворения прежде не существовавшего мира, то мне хочется, чтобы меня как-то ублажили". Элиза Вилле в Мариафельде записала слова Вагнера, которые он произнес в беседе с нею: "Я иначе устроен, у меня чувствительные нервы, мне нужна красота, блеск, свет! Мир обязан предоставить мне все, в чем я нуждаюсь. Я не могу прожить на жалкой должности органиста, как Ваш любимый Бах!"
Вагнер, кажется, сердился на Листа за то, что тот не заботился о нем еще больше; Вагнер — Фердинанду Гейне в Дрезден: "Сам по себе Лист, как теперь выяснилось, не в состоянии содержать меня, он и сам испытывает постоянные денежные затруднения... Он совершенно замечательный человек, наделенный великолепными качествами, он сердечно предан мне, но сокровенная сущность моей художественной натуры непостижима для него и навеки останется ему чуждой, это заключено в самом существе дела. Довольно того, что уже более трех месяцев я живу на несколько сот гульденов, которые дал мне в долг один здешний знакомый, пошедший ради этого на крайность. Месяц кончится, и я не знаю, как мне жить, причем для меня одного в том не было бы еще большой беды, но мне страшно за жену, для которой я по-прежнему остаюсь какой-то непостижимой загадкой".
Лист, сам переживая трудности, прямо-таки извиняется перед Вагнером в письме от 25 марта 1856 года: "Наконец я могу сообщить тебе, что в начале мая ты получишь 1000 франков... Я не раз писал тебе о тяжелых материальных обстоятельствах, которые сложились так, что моя мать и трое детей живут на мои прежние сбережения, тогда как я должен обходиться своим капельмейстерским жалованьем (1000 талеров и 300 талеров как презент за придворные концерты). Итак, не обижайся дорогой Рихард, если я не хватаюсь за твое предложение, — я не в состоянии принять сейчас на себя обязательство регулярной выплаты сумм. Если впоследствии мои обстоятельства изменятся в лучшую сторону, что не вполне за пределами возможного, то мне доставит радость облегчить твое положение".
Однако от Вагнера легко не отделаешься: Лист обязан устроить так, чтобы несколько немецких государей договорились между собой о выплате Вагнеру ежегодного пенсиона, который, "чтобы вполне удовлетворять его предназначению и моим, признаюсь, несколько болезненным и не вполне обыденным потребностям, должен быть не меньше двух-трех тысяч талеров. Я, не краснея, называю такую сумму, потому что, с одной стороны, знаю по опыту, что меньшей суммой мне при известных жизненных удобствах никак не обойтись — такой уж я (может быть, лучше сказать: ведь я и сам снабжаю свои произведения богатым приданым), — а с другой стороны, я ведь прекрасно видел, что таким художникам, как Мендельсон, хотя у него и без того был большой капитал, не платили меньших пенсионов, притом платило лишь одно лицо".
Не многие из друзей Вагнера выдерживали такой натиск. Более всего от долгов страдала Минна с крепко укоренившимися в ее душе бюргерскими привычками. И Вагнер боялся ее, предпочитая скрывать мелкие долги. "Когда из Вены поступят деньги, пожалуйста, выплати Мюллеру 100 франков (больше у него не было). Остальную сотню я занял у Земпера, в чем признаюсь тебе с некоторым душевным трепетом - Земпер не так торопит, однако предложи и ему".
Так было в Цюрихе, когда Вагиер жил скромно, а дела его благодаря жене были приведены в порядок. Но со времени парижской постановки Тангейзера" расходы Вагнера стали головокружительно расти, и Вагнер начал тратить деньги с нездоровой поспешностью. Это и привело к кризисной ситуации в Вене, когда Вагнеру пришлось скрываться и когда его выручил из беды баварский король Людвиг. С этого времени кривая расходов круто взмывает в небеса. Когда, вернувшись из России, Вагнер на вырученные от этой поездки деньги начал обставлять свой уютный дом в Пенцинге, он вступил в деловой контакт с венской модисткой Бертой Гольдваг — она приобрела известность тем, что нарушила тайну и опубликовала в газетах письма Вагнера к ней. В Вене Вагнер остался ей должен 1500 гульденов, которые впоследствии выплачивал малыми частями. Потом он велел ей лично приехать в Мюнхен и привезти с собой на 10000 гульденов всякого товара: парчи, атласа, бархата, шелка, кружев — все это было необходимо для нового дома.
Что-то похожее происходило потом и в Трибшене. Петер Корнелиус заботливый друг, только качал головой: "Он вложил в дом уйму денег строил и устраивал, и, когда видишь вольер, в котором разгуливают фазаны и прочие редкостные птицы, невольно думаешь про себя: милостивый боже, во что же обошлось ему все это! При этом еще надо обрабатывать несколько моргенов земли — парк и огород, — человек восемь прислуги, затем еще одноколка с лошадью... Но довольно об этом! Мне известно только одно: в один прекрасный день я буду сидеть с Вагнером за бутылкой вина или пива с очень простой закуской — уже не будет ни короля, ни Козимы. Тут он примется рассказывать мне о том и о сем, по временам выходя из себя..."
Эрнест Ньюмен подсчитал, что за четыре года (1864 - 1867) Вагнер истратил 130000 гульденов - четверть миллиона марок - из личной шкатулки короля. Не удивительно, что люди всякое болтали об этом! Убранство виллы "Ванфрид" стоило целого состояния, Вагнер писал из Байрейта издателю Шотту: "Вы оказали бы мне чрезвычайную услугу, если бы выплатили вперед оговоренную сумму в 10000 франков за право издания "Гибели богов"... Названную сумму я предназначил для окончания и внутренней отделки своего дома, и сейчас наступил такой момент, когда отсутствие этой суммы задерживает меня..." Шотт заплатил. Спустя несколько месяцев Вагнер возвращается к той же теме: "Мне нужно 10000 гульденов, чтобы кончить работы в доме и в саду". За эти деньги Вагнер обещает издателю шесть произведений для оркестра, которые напишет в ближайшие годы, и заканчивает письмо следующими словами: "Если мое предложение, мое желание, моя просьба и несколько необычны, то ведь обращаю-то я их не к кому-нибудь, а к Францу Шотту, и, в конце концов, обращается-то с просьбой не кто-нибудь, а Рихард Вагнер". И Шотт опять заплатил. Обещанных произведений для оркестра Вагнер так и не написал, но он отблагодарил издателя тем, что за право издания "Парсифаля" — отнюдь не за право постановки, которое он оставил за собой! — потребовал с издателя 100000 марок, на что издатель согласился, вычтя авансы из этой суммы.
Об одном очень колоритном эпизоде вполне в вагнеровском стиле мы знаем из воспоминаний Венделина Вейссхеймера, который постоянно общался с Вагнером в сезон 1861—1862 годов, когда Вагнер давал концерты в Вене. "Вагнер уже два месяца проживал в отеле, все ждал гонорара, который должны были выплатить ему сразу же после премьеры Тристана", а премьеры все не было и не было... Тут хозяин отеля забеспокоился и начал забрасывать Вагнера счетами... Однажды вечером я был в гостях у него с Таузигом, и Вагнер беспрестанно хныкал и плакался на свою судьбу. Мы с участием выслушивали его, сидя в прескверном настроении на софе, а он нервно бегал взад-вперед по комнате. Внезапно он остановился и сказал: "Ага, теперь я знаю, чего мне не хватает и что мне нужно", подбежал к двери и дернул звонок. Медленно и как бы нехотя подошел официант — эта порода людей всегда знает, откуда дует ветер, — и был удивлен не меньше нашего, когда Вагнер скомандовал ему: "Две бутылки шампанского со льдом, и не медленно!" "Боже правый! — воскликнули мы, как только за официантом закрылись двери. - В этакой-то ситуации!" Но Вагнер прочитал нам целую лекцию о незаменимости шампанского именно в отчаянных ситуациях - только оно-то и помогает пережить любые невзгоды... Когда имеешь дело с Вагнером, неожиданности сыплются на тебя словно из рога изобилия. Когда на следующее утро я вошел в его комнату, он показал мне 1000 гульденов, которые послала ему императрица Елизавета - должно быть, по наущению доктора Штандхартнера, друга Вагнера и лейб-медика императрицы".
Раз уж речь зашла о шампанском, упомянем, что, когда в Пенцинге распродавали движимое имущество Вагнера, в подвале вагнеровского дома было обнаружено сто бутылок этого прекрасного напитка. Не сообщается, были ли они оплачены.
Последнее письмо Вагнера было написано за два дня до его кончины и адресовано Анджело Нейману, предприимчивому импресарио, который гастролировал по Европе с циклом "Кольцо нибелунга", что приносило Вагнеру хорошие проценты. Письмо заканчивается просьбой прислать ему денег.
Композитор-поэт
За поколение до Вагнера обладание поэтической культурой было еще редкостью среди музыкантов. Вероятно, Вебер стал первым крупным композитором, писавшим по вопросам музыки, за ним последовали Шуман, Берлиоз, Лист... У Вагнера все обстояло совсем иначе: как рассказывает он сам, литературные занятия предшествовали у него музыкальным. Во всяком случае, литературное творчество продолжало занимать равноправное с музыкой место на протяжении всей жизни Вагнера, и современники очень скоро привыкли называть Вагнера композитором-поэтом, причем против этого никто не возражал. "Вагнерианцы" же готовы были сравнивать Вагнера-поэта с Гёте, Вагнера-композитора — с Бетховеном.
Одаренность Вагнера-драматурга необычайна, это великий природный дар; в области оперы это в известном смысле уникальный случай. Нужно принять во внимание, что даже самые великие оперные композиторы: Глюк, Моцарт, Вебер, Россини, Верди — совершали неизбежные ошибки в выборе сюжетов и в драматической обработке. С Вагнером ничего подобного никогда не случалось; у него был дар переводить в живую, наглядную драматическую форму любой сюжет, за который он принимался. И это, кажется, даже не представляло для него ни малейшей трудности: во время прогулки пешком он возьмет да и набросает драматический эскиз, а когда наступает пора разрабатывать его в поэтической форме, то и это он делает столь же легко и умело. Способность редкая и необыкновенная! Благодаря ей все его произведения, начиная с "Риенци" и кончая "Парсифалем", настолько твердо стоят на своих ногах, что никто и никогда не высказывал ни малейших сомнений относительно того, сценичны ли они; благодаря ей все его произведения, быть может за исключением "Риенци", с его еще не всегда качественной музыкой, закрепились в репертуаре театров и за все прошедшее время не утратили своей жизненности. Необыкновенное достижение! Благодаря ему Вагнер занимает совершенно особое место среди всех оперных композиторов.
Вагнер-драматург доказывает свою зрелость уже в ранних вещах, в юношеских операх "Феи" и "Запрет любви". Становление его как композитора протекало более постепенно. В ранних операх иногда слышишь музыкальную фразу, которую во всяком случае можно приписать Вагнеру. Это же приходится отметить и в других известных нам юношеских произведениях - в сонате для фортепьяно, в симфонии, которую Вагнер вновь исполнил в Венеции на рождество (последнее, какое суждено ему было пережить), в четырех увертюрах, написанных в Лейпциге, Магдебурге, Кенигсберге: "Король Энцио", "Христофор Колумб", "Полония", "Правь, Британия!". Все это - ученические работы солидного среднего музыканта, получившего приличную подготовку. У нас немало материала для сравнений: если отвлечься от примеров поразительно ранней зрелости - Моцарт, Мендельсон, - едва ли какой-либо по-настоящему одаренный музыкант не заявил о себе к двадцати годам подлинно своеобразными фантазией или выражением: Бетховен, Шуберт, Вебер, Шуман, Шопен, Брамс... А молодой Вагнер несамостоятелен, его стиль не устоялся и следует самым разным весьма сомнительным образцам. Иногда встречаются нерешительные, совсем робкие реминисценции Бетховена или Вебера. Юность Вагнера - эпоха падения вкуса, и у него это проявляется в том, что ему недостает настоящего чувства стиля.
Изучение причин упадка музыки, прежде всего оперной, еще при жизни Бетховена и Шуберта завело бы нас слишком далеко. Укажем на них в самой общей форме: события французской революции и наполеоновских войн глубоко перепахали весь культурный слой Европы. Вообще искусство - это чуткий барометр состояния умов. Наивная публика с неразвитым, первозданным вкусом заполняла теперь театр. В романах Стендаля и Бальзака - вот где дана наилучшая социологическая картина той эпохи. После блестящего, гениального Россини который в роли оперного композитора как никто другой символизирует эту эпоху и который, находясь на вершине славы, переносит свою деятельность в Париж, наступает пора Беллини и Доницетти. Отныне итальянская опера всецело подчинена задачам демонстрации виртуозного пения, между тем как последняя опера Россини - "Вильгельм Телль" - знаменует собой новую моду, моду на большую историческую панораму в романтическом стиле. Спонтини подготовил такой жанр, а с Мейербера, Герольда, Галеви начинается его расцвет. Вот что шло на немецкой оперной сцене, когда Вагнер приступил к деятельности оперного капельмейстера. В сравнении с импортной продукцией Франции и Италии, внешне весьма блестящей, операм немецких композиторов - Вебера, Шпора, Маршнера, Лортцинга - было куда труднее утвердиться на сценах театров.
С тех пор прошло больше ста лет, и для нас яркость музыки Россини затмевает всю современную ему оперу. У Беллини и Доницетти, его итальянских преемников, мы находим немало настоящей, приятной музыки в духе национальной традиции с ее приверженностью вокалу. Поэтому мы склонны прощать им примитивность формы и техники и ценим их достоинства - широкую, распевную мелодию Беллини, живые ритмы и неистощимый юмор Доницетти. Французской комической опере тоже присущ свой стиль, и прежде всего яркий комедийный характер, - все это можно найти прежде всего у Буальдье и Обе-ра, которых, кстати сказать, ценил и Вагнер. Но нам трудно симпатизировать большой опере и ее главному представителю — Мейерберу. Здесь с солидностью письма и очевидным чувством драматического эффекта соединяются такое отсутствие фантазии и такой пустопорожний пафос, что пышность сценического оформления и блеск театральной техники, к сожалению, вполне оправдывают вагнеровские слова - "действие без причины".
Только не надо забывать при этом, что в вагнеровском "Риенци" мало музыки, которая не могла бы встретиться в опере Мейербера, и что в "Гугенотах" можно найти места получше, чем самые яркие куски "Риенци". Редко где в этой колоссальной по масштабам опере встретишь что-либо своеобразно вагнеровское, и даже вдохновенный, блестящий хор "Santo spirito cavaliere" - это общее место. Вообще в любой детали утверждается фразеология французской оперы, и надоедливо повторяется мейерберовский каданс:
Этот каданс попадается иной раз даже в "Летучем голландце" и 'Тангейзере" - в конце концов, даже и Лоэнгрин, выдавая тайну своего имени, пользуется вариантом того же каданса:
Один из мотивов вагнеровского бунта против оперного стиля — это, вне всякого сомнения, неприязнь к первородному греху, который Вагнер совершил, а потом героически преодолел. Вагнер проникся той же ненавистью и к стандартным оперным либретто, а "Риенци", с его блестящей и энергичной драматургией и вполне условными характерами и конфликтами, - это и есть именно такое произведение. Правда, у Мейербера ни разу в жизни не было столь качественного либретто, и на этом примере видно, насколько драматург Вагнер обогнал Вагнера-композитора. Позднее он не очень сочувственно относился к этой своей опере и как бы избегал ее. У него действительно было мало общего с создателем той музыки — он стал другим, выработал свой язык, и, как бы ни развивался этот язык на протяжении долгой жизни композитора, как бы ни утончался он со временем, он продолжал оставаться все тем же - выразительным инструментом чуткой души художника.
Но вот что необычно — Вагнер как бы совершенно внезапно ощутил размах своих крыльев; произошло это, когда он работал над "Летучим голландцем". Как и его чувства, его творчество выражает движение необузданных внутренних сил. Едва закончив "Риенци", Вагнер обратился к новому замыслу, который долго вынашивал в душе. На следующее лето музыка полилась как река — то была реакция его творческого влечения на тяжкие переживания тех лет. Творческая потенция Вагнера как бы собрана в кулак. Бегство из Риги, опасные приключения на море, нищенское существование в Париже, унижения, долговая тюрьма — все эти впечатления сложились вместе и привели к тому шоку, под влиянием которого, как мы уже говорили, длительное время находилась вся душевная жизнь Вагнера; шок высвободил темные творческие силы, дремавшие до поры до времени в его душе.
"Летучий голландец" не выдуман Вагнером, он им реально пережит, и нас захватывает именно правдивость этого произведения. В музыке отзывается совсем не театральная буря. Норвежские матросы, прядильня, призрачный корабль — все это живо увиденные и прочувствованные реальные лица и вещи. А в образе Голландца, томящегося по искуплению, воплощены многие черты самого Вагнера, бесприютного скитальца. Вообще говоря, многим персонажам Вагнера присущи черты автопортрета. Второстепенные фигуры в опере достаточно условны по замыслу и по музыке — таков Да-ланд, благожелательный отец Сенты, прозаическая личность, прямо перешедшая сюда из французской оперы. Неудивительно, что и музыка начинает звучать по-мейерберовски. Таков Эрик, неудачливый возлюбленный, который в минуты лирического подъема напоминает плаксивого Маршнера.
И все же! Сцена, когда он рассказывает свое сновидение, а Сента переживает его как бы наяву, "погруженная в магнетический сон", - эта сцена так напряжена, что дыхание перехватывает: тут звучит совершенно новый музыкальный язык, несказанно выразительный, вся драма словно собрана в единый фокус. Есть и другая сцена, словно концентрирующая в себе целую драму, в третьем действии. Это стычка норвежцев с голландцами — реальности с миром призраков. Более захватывающей ситуации не удалось придумать и самому Вагнеру. Но Сента, символ истинной женственности, преданной жертвенной любви, — это прекрасный вымысел. Впрочем, таковы все героини Вагнера. Именно поэтому так трудно найти идеальную исполнительницу Сенты — нежность и героизм не слишком легко сочетаются в этом образе.
С "Летучего голландца" начались вагнеровские мытарства — поиски идеальных исполнителей. В драме тоже существуют определенные амплуа, приемам исполнения которых обучают начинающих актеров. Но в опере типизация образов сказывается гораздо сильнее, так как амплуа отождествляются с определенной тесситурой и характером голосовых данных. Отсюда всем известные типы старинной оперы, главный порок которых в том, что либреттисты разрабатывали сюжеты в расчете на такие амплуа: роль для легкого лирического сопрано, роль для сладостного тенора — первого любовника, роль для громового баса с густой бородой. Меломан сразу же узнает эти типы, стоит артистам появиться на сцене.
Вагнер с самого начала болезненно реагировал на оперные штампы, его характеры выходят далеко за рамки условного оперного стиля и оттого ставят актера-певца перед особой проблемой. Но при этом Вагнер не мог изменить физических предпосылок и условий пения. Драматический артист в принципе способен справиться с любой ролью, обладая самыми скромными голосовыми средствами: можно вообразить себе такого Фауста, который совершенно погрузится в себя и которому не придется даже повышать голос на сцене. Но пение в опере — совсем другое дело, тем более у Вагнера, с его страстным, полнозвучным, бушующим оркестром, с решительными кульминациями, каких требует вокальная линия. И Сента, и Венера, Брунгильда, Ортруда, Кундри — назовем хотя бы несколько женских ролей в операх Вагнера — все они вынуждены затрачивать на исполнение своей партии столько энергии, что это под сипу лишь физически крепкому человеку. То же можно сказать и о вагнеровских героических тенорах - Тангейзере, Лоэнгрине, Тристане, Зигфриде. В итоге Вагнер лишь прибавил к существовавшим до той поры амплуа певцов два новых — это героический тенор с мощным голосом, шеей быка и мышцами боксера и высокое драматическое сопрано в лице монументальной матроны с пышной грудью. Вот практический результат идеальных устремлений Вагнера - как и во многом ином, в этом сказывается утопичность его величественных замыслов.
Эти замыслы-видения не считаются ни с чем, заставляя забывать об опыте практика: Вагнер вознамерился написать для театра простое для постановки произведение, а получился "Тристан". Однако именно такая беспредельность мысли и предопределяет великолепное качество вагнеровской музыки, хотя вместе с тем служит источником всего сомнительного в его творчестве. Видения драматурга переходят в музыкальную идею — такую, что, кажется, она заключает в себе сущность всего произведения; таковы вагнеровские звуковые символы, несравненно точные, впечатляющие, запоминающиеся:
Так начинается увертюра к "Летучему голландцу", и каждое произведение Вагнера содержит подобные элементы, отмеченные стихийной изначальностью, — это словно низвергающийся поток лавы, захватывающей все на своем пути. Вот с чем удобнее всего сравнить ваг-неровскую вдохновенность.
Ненадолго отвлечемся от конкретных вещей, чтобы поговорить об общем. Музыкальная идея, этот загадочный акт творчества, лежит в основе любого музыкального произведения. Но существует два основных вида музыкальных идей, которые я, прибегая к терминам естествознания, назову вулканическим и осадочным. В одном случае идея — это результат внезапного и мгновенного интуитивного действия творческого воображения, столь мимолетного, что критическое сознание не успевает проследить за его стадиями и лишь спешит поскорее уловить его, чтобы идея не растаяла бесследно в воздухе. А осадочные идеи лишь очень постепенно и иной раз чрезвычайно долго накопляются в сознании — словно драгоценное вещество выпадает из насыщенного раствора. В этом случае действие воображения зависит не столько от инстинкта, сколько от опыта художника, а такой художник привык ждать, пока вещество не откристаллизуется и материал не обретет должной консистенции.
Обычно композитору доступны оба вида идей, но у каждого все же преобладает один из них. Так вот Вагнер представляется крайним примером почти исключительно вулканического творчества, тогда как у Брамса преобладает осадочный тип, а в черновиках Бетховена встречаются их необычайно занимательные комбинации. Не стоит и говорить о том, что в обоих случаях бесконечно много зависит от последующей работы композитора над идеей. Из идеи, из строительного материала необходимо возвести здание целого, и на каждой стадии обработки творческая фантазия оказывает определяющее влияние на весь ход процесса.
У Вагнера взрывчатая мощь идеи сочетается с безмерным терпением — он способен бесконечно долго ждать вдохновения. Ему лишь редко удается творить легко, непроизвольно. Для вдохновения ему нужно, чтобы вся его душа пришла в глубочайшее волнение. Вагнер определял: поэзия - это мужское, музыка — женское начало музыкальной драмы. Такой взгляд точно соответствует его собственному творческому процессу: лишь поэтическое представление оплодотворяет у него музыкальную фантазию. Не будь поэта, не было бы и композитора. А радости вольной импровизации совсем неведомы ему. В этом смысле вступление гостей в Вартбург, эпизод 'Тангейзера", на котором мы останавливались, - это исключение, которому способствовало состояние творческого подъема, характерное для Вагнера в то время. Вагнер не писал сочинений "на случай", а те, что написаны им — "листки из альбома" и тому подобные мелочи, - отличаются невообразимой скудостью. Кто бы подумал, что сочинил их великий композитор?!
В позднейшие годы Вагнер сочинил три подобных произведения больших размеров — это "Приветственный марш", "Императорский марш", "Торжественный марш"; все они заслуженно забыты. Единственное достойное его славы сочинение на случай - это идиллия "Зигфрид", написанная ко дню рождения Козимы в 1870 году. Произведение всецело коренится в мире чувств и настроений оперы "Зигфрид", и почти весь тематический материал его можно обнаружить в последнем действии оперы. Из вокальных сочинений Вагнера интересны лишь пять песен на слова Матильды Везендонк — материал двух лучших из них, "Мечты" и "В оранжерее", Вагнер использовал в "Тристане", над которым тогда работал. Весьма значительна увертюра "Фауст", созданная в Париже, -написанная за год до "Летучего голландца", она своеобразно предвосхищает его стиль. Но этому серьезному и выразительному сочинению недостает вдохновения. Вагнер был музыкальным драматургом, и ничем более, — он достигал своих вершин именно как композитор-поэт.
Правда, в пору создания "Летучего голландца" Вагнер едва ли смотрел на себя как на поэта. Это явствует из его письма Карлу Гайяру (от 30 января 1844 года), единственному берлинскому критику, который благожелательно отозвался о "Голландце". В письме, помимо всего прочего, изложен тогдашний принципиальный взгляд Вагнера на соотношение оперы и драмы, впоследствии решительно им пересмотренный. Вагнер пишет так: "Право же, я не строю никаких иллюзий относительно своего поэтического призвания и признаю, что приступил к сочинению либретто лишь потому, что мне никто не предлагал хороших текстов. Но теперь я бы не смог сочинять музыку на чужое либретто, и вот почему: я вовсе не берусь за первый попавшийся сюжет, чтобы изложить его стихами и только потом уже думать о подходящей для него музыке, — отнюдь нет, потому что в таком случае мне пришлось бы дважды вдохновляться по одному и тому же поводу, а это немыслимо. Мое творчество протекает совсем иначе: меня может привлечь лишь такой сюжет, который с самого начала явится мне и в своем поэтическом, и в своем музыкальном значении. Итак, прежде чем писать стихи, я уже погружен в музыкальное настроение своего создания, все звучания, все характерные мотивы уже у меня в голове, так что, когда затем я пишу стихи и располагаю в должном порядке сцены, опера в собственном смысле слова уже завершена, и мне остается только спокойно и сосредоточенно заняться детальной музыкальной проработкой целого, момент же настоящего творчества к этому времени уже остался позади. Но, конечно, я могу выбрать для себя лишь такой сюжет, который допускает музыкальную обработку, и никогда бы не выбрал тот, который мог бы быть использован драматургом для создания чисто литературной драмы. Зато, как музыкант, я могу выбирать сюжеты, ситуации и контрасты, совершенно чуждые драматургу. Вот, должно быть, точка, в которой пути оперы и драмы расходятся и каждая может спокойно идти своим путем... Для своей следующей оперы я выбрал прекрасное, неповторимо-своеобразное сказание о Тангейзере, который побывал в гроте Венеры, а потом отправился на покаяние в Рим; это сказание я соединил с другим - о соревновании певцов в Вартбурге, причем Тангейзер заместил у меня Генриха фон Офтердингена; благодаря такому сочетанию складывается многообразное драматическое действие. Сюжет таков, что, кажется, всем ясно — только музыкант может разрабатывать его".
В этом коротком письме Вагнер гораздо отчетливее постиг сущность принципиальных отношений музыки и слова, чем позднее в целой книге "Опера и драма". К тому же он исчерпывающим образом анализирует процесс творчества, как протекает он у композитора-поэта. Одно лишь утверждение Вагнера требует пояснений, потому что он представляет себе творческий процесс как бы в перспективном сокращении: разумеется, труд музыканта еще не окончен вместе с завершением поэтического текста. Так говорить было бы правильно, имея в виду то, что изначальное творческое переживание, целостный замысел вещи уже содержит в себе все произведение, словно первичная клетка, подобно тому как семя содержит в себе все дерево с его ветвями, листьями, цветами, плодами. Но от семени к завершенному произведению ведет долгий и нередко мучительный путь. И ни одного шага на этом пути нельзя сделать без вдохновения, без непостижимой готовности воображения творить, вызывая из мрака предчувствий и предвидений проработанную композицию, в которой каждый эпизод будет исполнять функцию, возложенную на него целым. Великое неизведанное преимущество гениального создания — его органическое единство, причем это свойство непосредственно передается любому инстинктивно-одаренному слушателю. Столь же непосредственно мы отличаем живой цветок от искусственного.
Очевидный симптом органического единства у Вагнера — это индивидуальность каждого его произведения. Одно не спутаешь с другим; если мы хоть сколько-нибудь знакомы с произведениями Вагнера, нам достаточно нескольких тактов, чтобы отличить "Лоэнгрина", "Тристана", "Парсифаля", даже если мы и не помним этих тактов... У каждого произведения свой индивидуальный стиль. Тот же феномен можно наблюдать у других больших оперных композиторов — у Моцарта, Верди. Но у Вагнера это свойство выражено еще ярче, что, видимо, объясняется гораздо большей поэтически-драматической индивидуальностью его либретто. Удивительно, но это относится и к четырем частям "Кольца нибелунга", сколь бы многообразные тематические линии ни связывали их между собой. Хотя здесь играет роль еще одно обстоятельство, о котором мы поговорим позднее.
На первоначальной стадии работы, когда материал, так сказать, не успел еще затвердеть, композитор может ошибочно оценить и стиль, и качество своих музыкальных идей. Однако внутренняя совесть музыканта своевременно побудит его отвергнуть все несовершенное и стилистически чужеродное. В черновых тетрадях Бетховена обнаруживаются самые поразительные примеры подобной самокритичности. Иная занимательная иллюстрация такого же творческого подхода содержится в письме Вагнера Матильде Везендонк, написанном во время работы над третьим действием "Тристана". "Представьте себе, — пишет Вагнер, — что, когда я в эти дни работал над веселой пастушеской мелодией, звучащей в ту минуту, когда подплывает корабль Изольды, мне в голову вдруг пришел другой мелодический оборот, гораздо более радостный, можно даже сказать — героически-торжествующий, и при этом вполне в народном духе. Я собрался перечеркнуть все написанное, но тут заметил, что мелодия эта вовсе не подходит для пастуха Тристана, а подходит для самого настоящего живого Зигфрида. Я немедленно заглянул в книгу, чтобы посмотреть, каковы заключительные слова Зигфрида, обращенные к Брунгильде, и убедился в том, что моя мелодия точно соответствует словам:
Sie ist mir ewig,
ist mir immer
Erb' und Eigen,
Ein und All.
Они прозвучат невообразимо смело, торжествующе. Вот так я нежданно-негаданно очутился в "Зигфриде". Как после этого не поверить, что я доживу, выдержу до его окончания?" Иной пример — пример неполноценной музыкальной идеи - Вагнер приводит в другом письме Матильде Везендонк, написанном, когда Вагнер только что приступил к сочинению "Мейстерзингеров". Вагнер предусмотрел следующую мелодию для Вальтера:
Что за филистерская мелодия, что за филистерские слова! Но Вагнер отбросил и мелодию и слова — вместо них появилась замечательная песня Вальтера, благословенный дар фантазии. Во всех подобных решениях сказывается чуткая совесть зрелого художника и не терпящий компромиссов категорический императив творчества. Сочинение "Зигфрида" Вагнер прервал на втором действии сугубо по внешней причине. Но была и внутренняя: Вагнер в работе над "Кольцом" явно подошел к мертвой точке. Сочиняя "Мейстерзингеров", Вагнер в первом действии, кажется, тоже подошел к такой мертвой точке. Вполне вероятно, что
Она мне вечно,
Она всегда мне -
Полным счастьем -
Вся и всё (нем.).
мучительное беспокойство, которым был охвачен Вагнер в Вене и затем в Мюнхене, связано именно с этим, хотя в таких случаях нельзя точно знать, где причина, где следствие. Вагнер писал Матильде из Пенцинга 28 июня 1863 года: "Я еще не настоящий мастер, должно быть, я в музыке ничем не лучше ученика; что будет дальше, бог весть!.. Сознайтесь, такому горе-мейстерзингеру нелегко писать Вам. Например, если бы я изрек, что мастер должен пребывать в состоянии покоя, то тотчас был бы вынужден сознаться, что сам не ведаю покоя, да, наверное, никогда и не узнаю, что это такое..."
Во всяком случае, тонкий слушатель почувствует в первом действии "Мейстерзингеров", что сцена собрания мастеров получилась суховатой по музыке, в противоположность предшествующей — очень живой и подвижной сцене с учениками. Как только Погнер обращается к собравшимся мастерам, музыка вновь приобретает пластичность и выразительность, а когда на сцену выходит Вальтер, становится очевидно, что мертвая точка преодолена. Может быть, кризис в сочинении "Мейстерзингеров" был спровоцирован сухостью сценической ситуации — она не будоражила фантазию художника. Это, кстати, один из "гвоздевых" моментов в создании музыкальной драмы вагнеровского типа, но об этом речь еще впереди. В целом же рождение "Мейстерзингеров" происходило под счастливой звездой, поскольку Вагнер начал со вступления - с вулканического извержения, сразу же и предельно непосредственно сформировавшего всю идею произведения. Вступление возникло даже раньше текста, оно целиком и полностью определило стиль произведения, а к тому же содержало необычайно богатый тематический материал. Единственный раз в жизни Вагнер начал с того, что обычно пишут в завершение. Увертюра - резюме, своего рода квинтэссенция произведения, а здесь она — начало всего, и каждый такт вступления, как тематический импульс, перешел затем в живой организм "Мейстерзингеров".
Мы не предполагаем сейчас детально анализировать произведения Вагнера. Но надо обсудить принципиальные вещи, а для этого из необозримого материала необходимо выбрать хотя бы некоторые характерные моменты. "Тангейзер" и "Лоэнгрин", созданные в Дрездене, - плоды совершенно непосредственного, спонтанного творчества, на которое не оказывала влияния никакая теория. Красота этих произведений заключена в непосредственности, с которой выражается в них символическое содержание сказочного действия, причем слушатель не обязан даже сознавать этой символики. Трагизм "Лоэнгрина" предопределен несовместимостью земного и божественного миров: суть небесного — тайна. Если тайна открыта, неземные силы пропадают. Тот же символ — в "Ундине" Фуке, в сказке, которая разработана и романтической оперой: Гофман, Лортцинг, Крейцер.
В "Тангейзере" уже в увертюре с двумя ее главными идеями - хором пилигримов и музыкой Венеры — символически, с предельной пластичностью, выражено лежащее в основе аскетического умонастроения средних веков противоречие между земной и неземной любовью, противоположность греха и покаяния. И здесь, как в "Летучем голландце", непосредственно постигаемая подлинность музыки заставляет позабыть о романтическом фасаде, об исторических костюмах. Создатель такой музыки познал до глубины души, что значит раскаяние грешника. А уж в том, что он сам побывал в гроте Венеры, нет ни малейшего сомнения. Оргиастическая музыка, какую услышал Вагнер в гроте богини, составляет самую увлекательную часть партитуры "Тангейзера". Кто, кроме Вагнера, мог создать столь напряженные и яркие звучания?
При этом именно в "Тангейзере" многое со временем поблекло: это произведение в большей степени, чем "Голландец", означало, что переход к новому музыкальному языку не завершен. Вагнер сам чувствовал, что сцена Венеры в первом действии недостаточно качественна, но и парижская редакция этого эпизода не спасла положения. Хуже то, что в сцене состязания певцов встречаются слабые места — она длиннее! Занятно, что всякий раз, когда действие подходит здесь к кульминационному моменту, Вагнер застревает на маловыразительном речитативе: несколько ариозо в этой сцене — словно кусочки мяса в жидком бульоне. Очевидно, трезвая дидактичность парализовала фантазию композитора — ведь надо было в приказном порядке рассуждать о "сущности любви". Но для развития вагнеровских музыкально-драматических принципов эта сцена весьма значительна — стиль определяется требованием ясной дикции. Заметим, что Вагнер странным образом чувствовал слабость к этому эпизоду. Неудача не послужила ему уроком, он и впоследствии всегда испытывал неодолимое влечение к многословию. Он не представлял себе, как бы он иначе мотивировал драматические событии. Всякий раз, когда в музыке Вагнера напряжение спадает и наше внимание к происходящему ослабевает, причина в одном - в убийственной пространности разъяснении (с рассказами, описаниями, толкованиями); они подрезают крылья вдохновения музыканта.
В "Лоэнгрине" окончательно вызрел новый стиль Вагнера — совершенно цельный и не знающий рецидивов. Это можно сказать и о характерной вокальной декламации Вагнера, и о его оркестровом письме, которое только теперь, когда композитор обогатился опытом творчества, достигло великолепной пластичности рисунка и цвета — в этом отношении никто из композиторов даже не приблизился к нему. Наконец, здесь, в "Лоэнгрине", Вагнер завершил то, что подготавливалось "Эвриантой" Вебера, "Гугенотами" Мейербера и его собственными операми, - он устранил форму "номеров", то есть тех речитативов, арий, дуэтов, финалов, из которых по традиции состояло каждое действие оперы и которые в это время все больше старались связывать между собой переходами, избегая резких заключений, как бы призывающих публику аплодировать певцам. Теперь действие, как в драме, состоит из сцен, непосредственно переходящих друг в друга.
Правда, это нововведение остается на поверхности. Ведь и "Лоэнгрина" можно было бы разделить на "номера", как Тангейзера": музыка непринужденно складывается в отдельные замкнутые эпизоды, что и соответствует ее природе. Склонность к подобной кристаллизации эпизодов можно наблюдать и во всех последующих произведениях Вагнера. Однако свобода от привычных условностей, связанных с замкнутостью номеров, была существенной составной частью нового оперного стиля. Вагнер видел в этом непременную предпосылку такого конструирования музыки, для которого драматическое действие — главная и основная цель: драма не идет больше на уступки музыке, ее конструктивным требованиям. И драматическая конструкция "Лоэнгри-на" — это уже шедевр. Нужно обратиться к величайшим драматургам мира: к Шиллеру, к Шекспиру, — чтобы найти драматическую конструкцию, подобную первому действию этой оперы, с его невероятной напряженностью, с тремя волнами нарастания, приводящими к победе Лоэн-грина в поединке и к торжествующему финалу. Для "Лоэнгрина" же 35-летний Вагнер создал и два оркестровых эпизода: вступление к опере и вступление к третьему действию, которые так и остались в его творчестве непревзойденными и по совершенству формы, и по своеобразию музыкальных идей, великолепию оркестрового колорита. При этом они противоположны по своему настроению - тающая идеальность, восторженная праздничность... Как разнообразна и широка фантазия Вагнера!
В "Лоэнгрине" Вагнер-драматург изобрел такой способ разрешения ситуации, какой я, право, не припомню во всем мировом драматическом репертуаре. Этим приемом он еще раз воспользовался в "Тристане". В прежние времена героини опер иной раз сходили с ума, но ведь куда проще, чтобы они умирали от тоски. Гениальный венский комедиограф Иоганн Нестрой не дожил до "смерти Изольды от любви", но написал пародию на "Лоэнгрина", свидетельствующую об острой наблюдательности сатирика. У Нестроя Эльза умирает со словами:
"Не нужен нож -
умру сама собой!"
Стало быть, Вагнера нельзя считать слишком разборчивым, когда дело касается средств драматического развития. Он наделен в этом смысле грубой кожей оперного либреттиста, о чем скажем чуточку позже. Вообще, полное равновесие между драматургом и композитором не может установиться раз и навсегда: тот или другой должен идти время от времени на жертвы. Но Вагнер не желал считаться с этим. И он никогда не сознавал, что принес уже самую нужную и решающую жертву! Ведь, вполне сознательно выбрав музыку, он потянул за собой и драматурга — без которого не мог существовать, без которого его гениальная музыкальная фантазия оказывалась на мели. Но при этом постоянно спотыкался и отставал поэт.
Тот, кто решит прочесть поэтический текст Вагнера, не думая о музыке, едва ли дочитает до конца хотя бы страницу, не испытав сильнейшего чувства ужаса. Тут уж ничем не поможешь — надо согласиться с тем, что Вагнер совсем не был поэтом, если только поэт должен обладать безошибочным чувством слова, звучания, тончайшего склада стиха. Этим чувством в полную меру обладали Гёте, Гёльдерлин, Мёрике — Вагнер же не имел ни малейшего представления о нем. Хотя ему это и не нужно: Вагнеру все заменяет вокальная линия. Направляемая словесной интонацией, она говорит на своем собственном языке. Дарования Вагнера развивались совсем в ином направлении — и, конечно же, за счет чисто поэтического дара. Поэт принес себя в жертву музыкальному драматургу, и выразительный стих, воспевающий глубинные сокровища души, бежал его.
Над входом в виллу Вагнера в Байрейте начертаны слова: "Здесь, где моя мечта обрела мир, Ванфрид Да будет назван мною этот дом". Раз уж Вагнер написал так, он должен был терпеть, когда остряки называли его "Ванфридрихом"! Аллитерированный стих (с повторением начальных звуков) "Кольца нибелунга" бросал вызов сатирикам, тем более что в нем присутствовали междометия вроде "вейа, вага" или "хойтохо, хейаха!". Поэтому, когда в Мюнхене ставили "Золото Рейна", где особенно доставалось трем дочерям Рейна, которым приходилось совершать головоломные трюки на невидимых зрителю качелях, в мюнхенском юмористическом журнале можно было прочитать следующее: "Витала, вогала вейа, Не упаду — заблюю, блея, Витала, вогала вак, Упаду, так шея — трак!"
В "Тристане" романтическая экзальтация чувства привела к крайней гипертрофии лирической метафорики, и здесь на каждом шагу спотыкаешься о такие "перлы", какие не позволил бы себе ни один поэт. Вот стихи:
Was wir dachten, was uns dauchte,
all Gedenken, all Gemahnen,
heil' ger Damm 'rung hehres Ahnen
loscht des Wahnens
Craus welterlosend aus.
("Что мы думали, что нам думалось, мысля все и все припоминая, — высокое предощущение священной тьмы навеки гасит весь ужас ложной видимости, искупая мир").
Однако вся эта напыщенность находит у Вагнера полное разрешение в музыке! Композитор воспользовался слогами, которые было удобно петь, а больше ничего ему и не надо было. Музыка позаботилась о поэзии, и набор слов отнюдь не помешал ясности лирического высказывания. Хуже бывало, когда поток слов претендовал на описательность, на рассуждения в философском духе, как это произошло в первой половине большой любовной сцены — здесь бесконечно долго обсуждают конфликт дня и ночи:
Doch es rachte sich der verscheuchte Tag;
mit deinen Siinden Rats er pflag:
Was dir gezeigt
die dammernde Nacht,
an des Tagestirnes
Konigsmacht
mufitest du's iibeigeben,
um einsam
in oder Pracht
schimrnernd dort zu leben.
("...Однако день — изгнанный — отметил за себя, сговорившись с твоими грехами: все, что явила тебе сумрачная Ночь, ты отдал царственному дневному светилу, живя одиноко, в блестящей пустыне роскошества".)
Композитору не легко было справиться с такими словами - по крайней мере представляется, что в музыке остались следы пережитых им мучений. Лучше всего было бы в разумных пределах сократить сцену, хотя это и не просто при вагнеровском способе сочинять, при сложных внутренних сочленениях частей. Несмотря на то что Вагнер очень настороженно относился к любым купюрам, он не был их безусловным противником. Он вполне сознавал, каких колоссальных физических усилий требует от исполнителя партия Тристана, а потому подумывал о сокращениях, прежде всего в третьем действии. "Допустимо и вероятно, — писал он Людвигу Шнорру, первому исполнителю этой партии, — что когда-нибудь третий акт "Тристана" будут играть без всяких сокращений, но на первых спектаклях это совершенно невозможно. Если надеяться на то, что качество исполнения будет превосходным во всех отношениях, то это может случиться лишь при самой наилучшей диспозиции, а такое и у самого одаренного человека не бывает каждый день. Поэтому я не считал бы целесообразным исполнение этого действия полностью уже на первых спектаклях, потому что даже если певец и в состоянии спеть его целиком, то длительность действия такова, что мы многим рискуем перед лицом театральной публики". Альберту Ниману, одному из первых вагнеровских теноров, Вагнер писал: "Мне следовало бы еще переделать Тристана по человеческим меркам, а для этого мне необходим покой, иначе же мы перегружаем публику и стремимся к невозможному в исполнении".
Практические вопросы нельзя решать раз и навсегда, а отношение к проблеме купюр как бы описало крут в течение одного века. В продолжение десятилетий вагнеровские произведения возможно было исполнять без малейших купюр — длиннот не замечали, или они, во всяком случае, никому не мешали. Сегодня положение иное: театр должен будет научиться решать проблему купюр в операх Вагнера в интересах целостного впечатления, причем решать ее сдержанно и с пониманием музыки. Есть свидетельства, что театр кое-где уже научился этому.
Призрак универсального произведения искусства
...С народного собрания, с агоры, из сел, с кораблей и военных лагерей, из самых отдаленных областей стекался этот народ, чтобы тридцатитысячной толпой заполнить амфитеатр и присутствовать на исполнении самой глубокомысленной из всех трагедий — "Прометея", чтобы внутренне собраться, понять себя, постичь свою собственную деятельность перед этим могучим созданием искусства, чтобы слиться воедино с своей сущностью, с своей общностью, с своим богом, чтобы, обретя идеальный покой, вновь стать тем, чем был за немногие часы до того, но только тогда — в беспокойном возбуждении, при полной обособленности всех индивидов... В трагедии греческий человек обретал сам себя, а именно благороднейшую часть своего существа, он объединялся с благороднейшими частями общности, всей нации..."
Так Вагнер в своем сочинении "Искусство и революция" объясняет соотношение искусства и жизни в античной Греции — в золотой век государственности, опиравшейся на идеальное социальное устройство. Вагнеру не мешало то обстоятельство, что это государство не могло существовать без рабского труда, ведь его рассуждения замечательны тем, что основываются на фантастических представлениях. В дни дрезденской революции соратники Вагнера, должно быть, приходили в отчаяние от этого ясновидца — человека, не умевшего толком различать реальность и фантазию. В изгнании, когда Вагнер приводил в систему свои идеи, в центре его размышлений находился античный театр, который стал ему близок благодаря изучению греческих трагиков и философии Платона. И тут он нашел связь античности с его собственной ситуацией. Вагнер вступил в политический конфликт с государственным порядком^ в художественный конфликт с оперной традицией, а двойственность конфликта подсказала его теоретической мысли возможность связать воедино все нежелательные для него факты, все недостатки, препоны. Отсюда конструкция идеального государства, в котором художнику отведена такая роль, какая только и могла удовлетворить теперь Вагнера: художник — это духовный центр всего, он вещает, он пророчествует...
Начиная с первых музыкально-драматических экспериментов античности, гуманистический образ греческой трагедии играл свою роль в истории оперы. Тогда этот образ был продуктом фантазии — он и оставался таковым у Монтеверди, у Глюка, у Вагнера. Продуктом фантазии, поскольку все известное нам об античной трагедии ограничивается поэзией. О музыке в трагедии мы не знаем ровным счетом ничего и не можем составить представление о целостном воздействии драмы. Небольшое число драматических шедевров, переживших времена уничтожения свидетельств античного искусства, литературы и философии в эпоху раннего христианства, оправдывает живой интерес к этому погибшему миру. Но этот мир не поддается реконструкции — его социальные, художественные, религиозные условия нельзя перенести в цивилизацию, устроенную на совершенно иных основаниях. Вагнеровская конструкция — фантасмагория.
Французский философ и эстетик Анри Лихтенберже написал некогда толстую книгу о Вагнере — "Рихард Вагнер как поэт и мыслитель". И сам Вагнер считал себя поэтом и мыслителем. Община вагнерианцев, а позднее весь мир почитали его как поэта и мыслителя. Но он не был ни поэтом, ни мыслителем. О поэте уже говорилось. А Вагнеру-мыслителю, при всей остроте и всеохватности его интеллекта, недостает одного фундаментального свойства, без которого объективное мышление невозможно, — способности углубляться в проблемы человеческой совести. Вместо этого Вагнер занят рациональным освоением собственных иллюзорных впечатлений, мечтаний. Он бесконечно субъективен в своих суждениях. Вагнер вошел в конфликт с существующим гражданским обществом, и, следовательно, рассуждает он, этому обществу грош цена. Исторически сложившийся оперный театр не дает Вагнеру возможности достичь высочайших вершин славы, а потому он, полагает Вагнер, осужден на гибель и должен уступить место новому, лучшему театру. Задача Вагнера - претворить в жизнь такой театр. Он единственный человек, от которого можно ждать, что, синтезируя все существующие художественные средства, он осуществит идеал, какой не был достижим со времен античности, и создаст художественное произведение будущего — универсальное творение искусства.
Для этого Вагнеру прежде всего нужно опровергнуть мнение, что современное искусство все же существует. Что касается оперы, то доказательство просто — недостатки современной оперы труднозащитимы. А что же инструментальная музыка, что же Бетховен, которого Вагнер боготворил? Тут аргументом служит Девятая симфония: "Последняя симфония, созданная Бетховеном, есть акт искупления музыки — она, не оставляя присущей ей стихии, превращается во всеобщее искусство. Эта музыка — человеческое евангелие искусства будущего. После нее невозможно никакое поступательное развитие, потому что непосредственно после нее может явиться лишь завершенное художественное творение будущего — всеобщая драма, и Бетховен выковал для нас ключи к ней... Однако для композиторов, современных Бетховену и последовавших за ним, те формы, в которых осуществлялась художественная и всемирно-историческая борьба Мастера, оставались не более чем формами, они перешли у них в манеру и стали модой, а потому, несмотря на то что ни один композитор-инструменталист не был в состоянии придумать даже и в этих формах хотя бы капельку оригинального, они не теряли терпения, продолжали сочинять симфонию за симфонией и тому подобные пьесы, и мысль, что последняя симфония уже написана, так и не приходила им в голову" ("Художественное произведение будущего"). Итак, Шуберт, Мендельсон, Шуман осуждены — не говоря о композиторах меньшего достоинства. А драма? Вагнер доказывает, что уже немецкие классики глубоко заблуждались: "Драматическое творчество Шиллера тяготеет, с одной стороны, к истории и роману, с другой — к совершенной форме греческой драмы...
Так Шиллер и повис в воздухе между небом и землей... А в новой драме, которая как искусство лишь питается опытами Гёте и Шиллера, ставшими памятниками литературы, колебания между названными направлениями стали головокружительными метаниями". А театр? "Единственная цель наших театров — ежевечерне забавлять публику, причем никто энергично не требует такого развлечения, но его навязывает населению крупных городов дух коммерции, а население, объятое социальной скукой, принимает все без рассуждения".
Всем подобным изъянам противостоит идеал: "Художественный человек вполне удовлетворится лишь объединением всех видов искусства во всеобщее художественное произведение искусства; пока же его художественные способности разъединены, он не свободен, он -не вполне то, чем может быть, тогда как во всеобщем произведении искусства он свободен, он вполне то самое, чем может стать... Высшее всеобщее художественное творение — это драма; в возможной полноте своего осуществления она наличествует лишь тогда, когда в ней пребывают — каждое в своей наивозможной полноте — все виды искусства".
Излишне вдаваться в обсуждение таких тезисов. Ни одно из утверждений Вагнера не выдерживает элементарной критики. Взгляд Вагнера основан на том, что он тщательно избегает принимать во внимание реальные предпосылки музыкального и литературного развития нового времени, делая вид (что за нелепость!), будто Бетховен в Девятой симфонии впервые соединил оркестр и голоса певцов, будто Бетховен не написал после этой своей симфонии пяти струнных квартетов, которые сам же Вагнер ставил превыше всего на свете, и не достиг в них вершины того, на что была способна инструментальная музыка. Но все это оказывается несущественным для Вагнера просто потому, что его теория была жизненной необходимостью для него, потому, что только ей он был обязан крепкой верой в свое призвание, а ведь вера и гору с места сдвинет. Но подобные взгляды опасны тем, что нелепая по существу доктрина непременно поведет к нелепым результатам, если только инстинкт художника не окажется сильнее любой теории. Величие зрелых созданий Вагнера тем и объясняется, что он в нужный момент забывал о своей доктрине. Да и вообще он не был педантом. Яростный антисемит, он был искренним другом Карла Таузига, Генриха Поргеса, Германа Леви, Иосифа Рубинштейна, Анджело Неймана. Убежденный вегетарианец, он любил съесть бифштекс. Осуждение всей инструментальной музыки не мешало Вагнеру сочинять и издавать "Листки из альбома", идиллию "Зигфрид", рекомендовать Шотту — с уколом в адрес "скучной камерной музыки" Брамса - два фортепьянных квинтета итальянского композитора Джованни Сгамбати, а в последние годы жизни думать о сочинении "жизнерадостных симфоний", которых Вагнеру, к сожалению, уже не суждено было написать.
И тем не менее Вагнер не расставался с химерой греческого театра, и идея эта оказывала на него серьезное влияние. Яснее всего она сказалась в монументальном замысле "Кольца нибелунга", который целиком овладел фантазией Вагнера и, очевидно, решающим образом способствовал направлению его художественной философии. А с другой стороны, Вагнер едва ли задумал бы столь широкий план, полностью игнорирующий реальность тогдашнего театра, если бы его не вдохновляла колоссальная по широте теория, если бы она не оправдывала его планов и не вызывала их к жизни. Вагнер ставит сказание о Нибелунгах, цикл германских мифов рядом с циклами сказаний, отразившихся в античных трилогиях - в трагедиях об Атридах, в трагедиях об Эдипе, - и объявляет миф единственно достойным материалом драматического творчества: только общечеловеческий по своему содержанию миф с его глубоко символическим смыслом способен захватить чувство зрителя. В древневерхненемецких и скандинавских источниках Вагнер почерпнул аллитерацию, которую объявил наиболее отвечающей музыкальной драме формой стихосложения. К счастью, в 'Тристане и Изольде", "Нюрнбергских мейстерзингерах" и "Парсифале" Вагнер отказался от своей idee fixe. Что касается "Кольца нибелунга", то Вагнер поначалу строго придерживался принципа греческого театра, полагая, что исполнение столь необыкновенного произведения не должно становиться театральной повседневностью, но, как единичное по своему значению национальное празднество, должно объединить весь народ — создать культурную общность, как то было в Древней Греции. Вагнер наряду со своими художественными целями постоянно подчеркивает свою великую национальную цель — создание новой художественной формы, отвечающей духу немецкого народа и выражающей все его своеобразие. Обращаясь к публике после последнего исполнения "Кольца" в Байрейте, Вагнер говорил: "Сейчас вы видели, на что мы способны. А теперь дело за вами - хотеть. И если вы захотите, у нас будет искусство". Вагнера никогда не оставляло гордое убеждение — он первый и единственный, кто воссоздал немецкий идеал искусства (и это несмотря на Шиллера и Гёте, Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта). Так, после мюнхенской премьеры Тристана" Вагнер писал супругам Шнорр: "Несравненное достигнуто. И если когда-либо вызреет в моей душе истинный плод самого своеобычного, самого немецкого искусства, глубина и красота которого превзойдут все, что создавали во славу свою иные нации, то будьте уверены — мир не забудет вас, ибо ваше деяние ознаменовало начало весны, даровавшей моему творчеству тепло, моим стремлениям - силу и свет!"
Среди всех людей, свершивших подвиги, не было никого, кто бы нуждался в столь невероятных иллюзиях для того, чтобы их свершить.
Переоценивать себя можно по-разному ~ можно в своих творениях видеть больше того, что в них заключено, а можно недооценивать создаваемое другими. Вагнер склонен ко второму варианту, и здесь он совершенно уникальное явление среди знаменитых музыкантов XIX столетия. Вагнер, великий мастер, страдал от недостатка, обычно свойственного дилетантам, - от узости своего художественного кругозора. И его творчество, и его слушательские привычки, и его исполнительская манера -все было сосредоточено исключительно на эмоциональной стороне музыки. Другую сторону музыки — сторону объективную, с радостью от игры, с красотой формы, пронизанную импульсами ритмов и полифонии — он вообще не принимал к сведению, либо же оценивал лишь исторически, как нечто давно устаревшее. Редкие исключения лишь подтверждают правило и объясняются им: чтобы сочинить веселый наигрыш пастуха в "Тристане", торжествующую тему "Зигфрида" — он должен думать о чем-то совершенно объективном, стороннем. И ему надо, чтобы в его воображении возник старинный Нюрнберг с его архаичным, педантичным цеховым устройством, с его гордым и самодовольным бюргерством. Тогда Вагнер явит свету чудо, вступление к "Мейстерзингерам", с его живописным миром объективных форм и контрастирующим с ним миром самого безудержного лирического выражения, миром души рыцаря Штольцинга. Объективный - классический мир был доступен Вагнеру лишь при условии, что он отождествит его с определенным историческим "костюмом", и даже самому Вагнеру требовался "костюм"— то есть шелковое белье, роскошные шлафроки, бархатные береты, портьеры и чехлы мягких тонов, кроме того, в изобилии парфюмерия, — чтобы прийти в необходимое состояние сосредоточенности и творческой самоуглубленности. Было бы занятно написать обо всем, что в вагнеров-ском романтизме соответствует пышно декоративной живописи в духе Ганса Макарта с его приверженностью "костюму".
Итак, Вагнера интересует исключительно эмоциональная сторона музыки, и в соответствии с этим он оценивает произведения даже того единственного композитора, перед которым преклонялся, — Бетховена. Объективно-классическая сторона бетховенской музыки, его сознательное и холодное отношение к форме совершенно не занимали Вагнера. К другим классикам он относился отстраненно, с прохладцей, в лучшем случае признавая, что и эти старые парики могли иной раз создавать что-то не совсем пустое. Вагнер вырос в Лейпциге, но из всей музыки Баха знал разве что "Хорошо темперированный клавир". Если в Байрейте Вагнер и брал в руки ноты Баха, то ради какой-нибудь лирической прелюдии, выражающей определенный аффект; такие бахов-ские прелюдии Вагнер очень любил. А когда в Ванфриде исполнили до-мажорный квартет Бетховена (третий из "Квартетов Разумовского") , то Вагнер был почти возмущен: это все "сонатный" Бетховен, до которого ему, Вагнеру, нет дела. Четвертая симфония тоже не доставляла ему удовольствия, а когда речь заходила о "Фиделио", то Вагнер находил там сплошные слабости и несовершенства. Конечно, музыкант не мог пройти и мимо Моцарта, но, снимая перед, ним шляпу и восхищаясь "Волшебной флейтой" и "Дон Жуаном", Вагнер не забывал об условности и традиционности их формы и выражения, а остального Моцарта — например, симфонию "Юпитер", — должно быть, воспринимал тоже как "сонатного". Генделя он игнорировал. "Сотворение мира" Гайдна понравилось ему, когда он дирижировал этой ораторией в Дрездене и ради этого впервые взял ее в руки. "Времена года" Гайдна Вагнеру впервые довелось услышать в Париже в 1858 году, и он не без язвительности заметил, что публика "с особенным удовольствием, как нечто оригинальное и особо привлекательное, выслушивала без конца повторяющиеся кадансы со стандартными мелизмами, которые совершенно перевелись в современной музыке". Он ценил некоторые песни Шуберта, вроде "Привета" или "Серенады", но никак не мог взять в толк, что Лист находит в шубертовских трио или сонатах с их "бюргерским самодовольством". Чтобы найти узость вкуса, подобную вагнеров-ской, надо обратиться к его решительному противнику Ганслику, для которого музыка существовала лишь тогда, когда он мог, так сказать, потрогать ее руками, когда она была мелодичной "движущейся формой звучаний". Такова собственная формулировка Ганслика, для которого Бах был не менее архаичен, чем для Вагнера.
Несомненная убежденность в поступательном развитии музыки и неуважительное отношение к шедеврам прошлого - слагаемые защитного механизма, выработанного сознанием Вагнера. Ни настоящее, ни прошлое не должны мешать ему, не должны стоять у него на пути. Наверное, Вагнер заговорил бы до смерти либо самого себя, либо своего врага, который осмелился бы в его присутствии утверждать, что презренный автор "Трубадура" тоже может создавать музыкально-драматические шедевры. А если бы Вагнер осознал не постижимый и не превзойденный никем уровень моцартовских шедевров, бетховенского "Фи-делио", то он уже не смог бы следовать совершенно противоположному идеалу музыкально-драматической формы, который он обосновывал в "Опере и драме". Отрекись Вагнер от призрака универсального произведения искусства, и он кончился бы как художник.
Впрочем, у этого призрака была вполне реальная сторона — фактическое превосходство Вагнера-драматурга над обычными либреттистами. Что же касается музыканта, то ситуация не столь проста, а отсюда и бесконечные попытки Вагнера (в "Опере и драме") доказать несостоятельность всех традиционных форм оперы. Его главный аргумент состоял в том, что драма несовместима с желанием музыканта создавать самостоятельные, отдельные музыкальные номера, прерывающие и останавливающие действие, и тем более с его претензией на главную роль в этой комбинации поэзии и музыки. "В опере поэзия должна быть послушной дочерью музыки", — писал Моцарт. Естественно возразить Вагнеру: а как же строить музыку, если ей запрещено развиваться по своим законам формы? Вагнер находчиво отвечает на этот вопрос: вокальная линия, уже не связанная стандартной формой арии, будет выразительно следовать речевой интонации, а создание формы как таковой, без которой немыслима музыка, будет предоставлено оркестру как самостоятельной величине: свободный от мелочного педантизма былых "номеров", он будет сопровождать действие на сцене в качестве "бесконечной мелодии", строя симфоническую форму. Оркестр что хор в античной трагедии — красноречивый комментатор событий, отражающий их детально и подробно, достигающий полнейшей определенности выражения благодаря тому, что материал симфонического целого, темы и мотивы, обладают поэтическим, то есть драматически-психологическим, значением. Вагнер употребляет выражение "напоминающий мотив" (он никогда не пользовался словом "лейтмотив", введенным комментаторами Вагнера Поргесом и Вольцогеном). Такие мотивы до Вагнера применяли в опере Вебер, в поэтически-программной симфонии Берлиоз; применял их и сам Вагнер в "Летучем голландце", "Тангейзере", "Лоэнгрине", где они играли значительную роль. Но тогда напоминающие мотивы, от которых отнюдь не зависело построение самостоятельных номеров, арий или дуэтов, служили средством связывания целого, ассоциаций идей, они активизировали фантазию слушателя. Когда Тангейзер на состязании певцов переходит к последней строфе своей песни, с которой и начались все его беды, в оркестре звучит характерный мотив Венеры, показывая, в каком направлении движутся его мысли. А когда в оркестре зловеще звучит фраза Лоэнгрина — "Ты никогда не спросишь!.." — мы взволнованы, потому что понимаем, что мучает Эльзу. Мотивы воздействуют непосредственно — таково их значение, они музыкальны, они пластичны. Но все намного усложняется, когда вся музыка состоит из намеков и указаний, когда она превращается в сложный и запутанный лабиринт, когда мотивы контрапунктически соединяются друг с другом или цитируются фрагментарно, как это часто бывает в "Кольце", В начале века, когда культ Вагнера достиг своего апогея, в либретто его опер иногда вкладывали листок с пронумерованными "мотивами", цифры в тексте отсылали к соответствующему мотиву, и интеллигентные слушатели считали своим долгом следовать за музыкальными событиями, сверяясь по бумажке с этими "мотивами". К счастью, такая нелепость вышла из моды. Но она подтверждает то, что и так с самого начала должно было быть ясно для критического ума: если желаемая ассоциация идей не возникает сама собой, если приходится буквально забрасывать слушателя лейтмотивами, то это значит, что исходная предпосылка безнадежно абстрактна. Напоминающий мотив может быть существенным музыкально-драматическим приемом, но, становясь манерой, утрачивает свое воздействие.
В музыке "Кольца нибелунга", "Тристана", "Мейстерзингеров" есть немало прекрасных исключений, однако в общем смысле мозаика напоминающих мотивов не имеет ничего общего с симфонической структурой музыки.
В симфоническом построении появление тем и мотивов обусловлено музыкальными соображениями, их контрастом, их способностью к развитию, всей конструкцией целого, составленной из больших плоскостей. Если же принять принцип лейтмотивов, то мотив появляется не тогда, когда в тексте возникает соответствующее слово. Если же текст не способствует лирическому или драматическому выражению, то мотив остается голой цитатой, лишенной внутренней необходимости, а цепочке подобных цитат недостает самого существенного, что присуще симфонической структуре, — последовательности развития. Универсальное произведение искусства — это химера, и оркестровая симфония, построенная из звуковых символов, столь же химерична.
Величие созданного Вагнером объясняется его способностью виртуозно обходить расставленные им же самим ловушки. Лучше всего это удается ему тогда, когда тематическое развитие непосредственно следует вдохновению, как во вступлении к "Мейстерзингерам", а символический характер тематических находок осознается лишь позднее, или же тогда, когда, как во вступлении к третьему действию "Мейстерзингеров", в "Полете валькирий", "Заклинании огня", творческая фантазия композитора до конца овладевает звуковыми символами и, возбужденная яркими образами, органически творит на их основе. Но это лишь предварительное условие симфонической техники, не более того. Даже и там, где Вагнер, по крайней мере для поверхностного взгляда, ближе всего подходит к созданию симфонического целого, он остается оперным композитором. Так и во вступлении к "Мейстерзингерам". Средства Вагнера обширны, техника письма и оркестровки ослепительна, но он, как и в увертюрах к "Летучему голландцу" и к "Тангейзеру", по-прежнему следует веберовскому типу увертюры -составленному из отдельных эпизодов конгломерату, который лишь внешне соответствует строению сонатного allegro. Это видно по переходам — они не сплачивают целое, а склеивают. Увертюра к "Летучему голландцу" — это великолепное, гениальное произведение, но переходы в ней удивительно примитивны. Стоит вспомнить хотя бы переход к коде — заключительному апофеозу в ре мажоре: весь переход заключается в разложенном уменьшенном септаккорде, какой встречается в любом сборнике упражнений для начинающих:
Таких наивностей уже не найти в увертюре к "Тангейзеру". Зато тут бросается в глаза совершенно несимфонический элемент, настоящая оперная мелодия - песня о Венере. Она словно прямо позаимствована из увертюр Вебера. Вагнер нашел наилучшее для себя интуитивное решение в "Лоэнгрине", перейдя от формы увертюры к вступлению, состоящему из одного цельного тематического комплекса. Вступления к "Лоэн-грину" и "Тристану" — это и есть наивысшие достижения Вагнера-симфониста. Когда Вагнер на самом деле работает тематически, он ограничивает себя одной-единственной музыкальной мыслью, с ее возможностями развития и вариантами, - такая мысль воплощает сущность целого произведения. Вот границы Вагнера-симфониста. Во вступлении к "Мейстерзингерам" Вагнер вновь вернулся к веберовскому типу увертюры, только воспользовался ею с бесподобным мастерством. Но от этого вступление не становится подлинно симфоническим.
Несколько десятилетий тому назад внимание музыковедов привлек многотомный труд Альфреда Лоренца, озаглавленный "Тайна формы Рихарда Вагнера". Теперь мы можем сказать, что такой "тайны" не существует. При помощи кривых и диаграмм можно доказать все что угодно. Изыски Лоренца, наверное, рассмешили бы Вагнера. А когда Лоренц переходит к детальному анализу, он находит в музыке Вагнера то самое, что услышит любой неглупый слушатель: каждый из многочисленных эпизодов, из которых состоит действие вагнеровской оперы, написан в соответствии с естественным чувством формы и представляет собой маленькую, органически построенную музыкальную пьесу. Значит, самое существенное — это то, что есть эпизоды, а не охватывающая целое действие единая конструкция формы, что противоречило бы даже и драматическому чувству. Примечательно то, что в одном-единственном случае, когда Лоренц вознамерился найти у Вагнера большую, цельную форму — во вступлении к "Мейстерзингерам",— он совершенно не понял ее. Лоренц не заметил, что ми-мажорная мелодия песни Вальтера представляет собой побочную партию явного сонатного allegro, а ми-бемоль-мажорный эпизоде темой мейстерзингеров в уменьшении открывает разработку.
Во всяком случае, ни один художник не работает над техникой, которая ему не нужна. Вагнеровское чувство формы исключительно "оперное", оно рождено верным ощущением того, что в опере воздействие целого складывается из воздействия отдельных эпизодов. Музыке Вагнера всегда присущ эпизодический характер - противоположный симфонизму. Такие великолепные эпизоды, как "Полет валькирий", "Заклинание огня", "Шелест леса", "Путешествие Зигфрида по Рей-ну", вовсе обходятся без конструирования большой формы - бывает достаточно одной основной музыкальной мысли, и поток фантазии довлеет себе. Когда же поток подходит к концу, эпизод оканчивается или же, как во вступлении к "Мейстерзингерам", начинается новая мысль, которая в свою очередь, довлея себе, разворачивается в отдельный эпизод. Контрапунктическое соединение трех главных тем — в симфонической форме это была бы разновидность сокращенной репризы — производит большое впечатление, но поверхностное, как всегда в опере. Однако со стороны техники контрапункта это не так уж блестяще:
Вагнер был великим контрапунктистом и был способен на большее.
Как симфонист Вагнер — музыкант беспечный, и в этом один из источников его неодолимого воздействия на слушателей. Ганслик в своей рецензии на первый концерт, данный Вагнером в Вене в 1862 году, говорит о "демагогическом" воздействии его музыки. Неплохо сказано! Демагог воздействует на людей зажигательной фразой, а Вагнер — своей неотразимой, стихийно-первозданной фантазией. Ясно, что критик почувствовал гениальность вагнеровского замысла и пытается рационалистически обосновать свое неприятие несимпатичного ему феномена ссылкой на то, что пользоваться подобными средствами нечестно.
Вагнер иногда довольно хорошо сознавал несимфонический характер своей музыки. По этому поводу он высказался в статье "О применении музыки к драме", предназначенной для "Байрейтских листков", и его аргументация явно направлена против Брукнера, который по-детски почитал байрейтского мастера: "По существу, немыслима такая главная тема симфонического allegro, которая содержала бы гармонически слишком заметную модуляцию, особенно если бы при первом своем появлении она предстала в таком смущающем душу гармоническом виде..." И Вагнер цитирует из первого действия "Лоэнгрина" выход Эльзы как пример того, что в опере вполне уместны вещи, непозволительные для симфонической структуры:
То же можно сказать о хоре пилигримов, о музыке Венеры в увертюре к Тангейзеру" и вообще о самых чарующих образцах вагнеровской фантазии. Все это Ганслик и назвал "демагогией". "Полет валькирий", "Заклинание огня", исполнявшиеся в венском концерте, — это несомненные образцы такой "демагогии", оркестровые пьесы, непревзойденные по пластичности и блеску, соединяющие в себе дерзновенную фресковую композицию и тончайшую гармоническую и контрапунктическую проработку. Любая вагнеровская партитура — это книга с картинками, необычайно привлекательная для знатока, который не преминет, например, заметить, что в "Полете валькирий" Вагнер виртуозно пользуется барочной венецианской техникой, составляя отдельные хоры инструментов, как поступал и Бах в первой части "Магнификата"
или в "Санктус" си-минорной мессы, - у Вагнера накладываются друг на друга трели деревянных, низвергающиеся арпеджио струнных, пунктированный ритм галопа у фаготов и валторн, и на этом фоне вырастает поразительно пластичная мелодия валькирий, которую исполняет басовая труба, усиленная двумя валторнами, — словно валькирии на самом деле, скача на конях, являются на фоне рваных туч.
Правда, это вовсе не симфонизм — по уже изложенным причинам. А коль скоро права Вагнера на лавры симфониста не очень-то обоснованны, встает вопрос и о том, как обстоит дело с претензиями музыкального драматурга. Было бы нечестно обращаться с этим вопросом к его ранним произведениям — это оперы, и не более того. Однако зги ранние вещи содержат в себе указание на первоначальную направленность вагнеровских драматических опытов и потому не лишены значения. А если подвергнуть критическому разбору поздние тексты музыкальных драм Вагнера, принять во внимание объединяющие их моменты и окружение, в котором воспитывался Вагнер, то в итоге выявится недвусмысленный факт — основу драматургии Вагнера составляет романтическая мелодрама.
Те черты, которые подразумевает этот термин, в самом типичном виде можно найти именно в романтической опере. Романтическая склонность к фантастическому колориту, к чисто эмоциональному восприятию вещей нашла здесь для себя обильную пищу и благодарную публику. Сюжеты очень часто заимствовались из современной литературы, прежде всего у Вальтера Скотта и Виктора Гюго. Но по своему характеру они восходят к более раннему времени — "Разбойники" Шиллера, "Праматерь" Грильпарцера. Однако именно в вагнеровское время расцветает безудержный мелодраматизм; "Лючия ди Ламмермур" Доницетти по Вальтеру Скотту, "Эрнани" и "Риголетто" Верди по Виктору Гюго — вот типичные образчики драматургии, которая не стесняется громоздить ужасы, представлять преувеличенные чувства, изображать как голубиную кротость, так и мрачное коварство. Большая опера Мейербера комбинировала такую драматургию оперы с большими историческими сюжетами и соответствующей им картинностью.
Итак, вполне был бы понятен решительный отход столь умного и критичного художника, как Вагнер, от подобного направления. Однако Вагнер — это дитя своей эпохи. Его критика направлена не столько против содержания романтической драмы, сколько против ее формы. Он сам уходит корнями в эту драму, и, хотя Вагнер был в состоянии разобрать, какая варварская бессмыслица составляет содержание вебе-ровской "Эврианты", это не помешало ему воспользоваться в "Лоэн-грине" четой злодеев-интриганов (у Вебера это Эглантина и Лисиарт) и позаимствовать в опере Маршнера "Храмовник и еврейка" (сюжет по Вальтеру Скотту) мотив поединка — божьего суда, призванного доказать невиновность героини. Что можно возразить против этого! Драматические мотивы кочуют из произведения в произведение. Но мотивы эти — типично мелодраматические, и Ортруда не перестает быть отвратительной колдуньей наподобие веберовской Эглантины, хотя Вагнер и пытался придать ей демоничность и показать ее на известном фоне — Ортруда у Вагнера фанатически привержена ниспровергнутым древнегер-манским божествам. Вагнеру не составляло труда мотивировать все что угодно, у него неисчерпаемый запас находок, — другое дело, что порой он мотивирует катастрофически-пространно.
В самой жизни Вагнер страдал от того же порока — от многогово-рения, от задиристости. Должно быть, заходил он в этом очень далеко, коль скоро ему приходится приносить свои извинения Матильде Везен-донк. Поводом (что тоже показательно) послужили нападки Готфри-да Земпера на нестерпимую серьезность Вагнера, "Вспоминаете последний вечер, когда в гостях был Земпер? Я вдруг потерял покой и обидел собеседника нарочито резким обвинением. Слово вылетело, и я внутренне сейчас же остыл и стал думать лишь о том, как бы восстановить мир и должный тон беседы, потому что необходимость этого я понимал. Но в то же время известное чувство подсказывало мне, что невозможно просто замолчать, а нужно постепенно и сознательно перевести разговор в другое русло. Я помню, что, решительно выражая свое мнение, я тем не менее уже вел разговор с известным сознанием художественной формы, и он, несомненно, завершился бы тем, что мы поняли бы друг друга и успокоились... Но, как мне кажется, даже Вы в какой-то момент пришли в замешательство, опасаясь того, что мои непрестанные громкие речи объясняются сильной взволнованностью, и все же я помню, что спокойно возразил вам: "Позвольте же мне только повернуть разговор назад, так быстро ведь ничего не решается".
Несмотря на свое беспримерное чувство сценичности, Вагнер вновь и вновь становился жертвой непреодолимой потребности все аргументировать, и в его произведениях нередко встречаются места, где никак не удается подавить досаду: "Ну разве надо объяснять все столь обстоятельно?!" С Вагнером здесь происходит то же, что с его эстетической теорией, — его красноречие беспредельно, если только он подозревает, что не все тут чисто. Мелодраматичный — но с нечистой совестью, Вагнер не может отрешиться от наследия мелодрамы, как ни старается углублять характеры и подробнейшим образом мотивировать завязку.
Типичнейший аксессуар мелодрамы — интригующий персонаж. Вагнеровские интриганы, враги его положительных героев, - жалкие личности, они бедны музыкой, и их создателю явно пришлось с ними туго. Их музыка, за редким исключением, условна, она показывает, что Вагнер не любил этих героев, да и за что их любить? Достаточно лишь прибегнуть к сравнению и посмотреть, чего достиг Верди в изображении таких персонажей: от Спарафучиле ("Риголетто"), графа да Луна ('Трубадур") , Карлоса ("Сила судьбы"), Ренато ("Бал-маскарад"), Амонасро ("Аида") до несравненного Яго в "Отелло". Какая жизненность, какая музыка! А вагнеровские злодеи невыносимо мрачны и тусклы: Тель-рамунд под сапогом своей супруги, неловкий грубиян Гундинг (который только и может сказать своей жене, что "приготовь нам пищу" да "жди меня в постели"), сумрачный Гаген ("Оставь печального мужа!") , оскопивший себя Клингзор, брызжущий проклятиями Альберих.
Ах, эти проклятия! Чары проклятий — опять же изобретение вагнеровской эпохи, новый мелодраматический реквизит. Из Ветхого завета известна чудесная сила благословения, однако проклятия бог оставил за собой и редко пользуется этим своим правом — разве что проклинает Каина. Мелодраматические проклятия мы находим у Верди в "Риголетто", в "Силе судьбы", и там они на месте. У Вагнера же проклятие становится драматическим приемом, против которого можно многое возразить. Альберих клянет, защищая свои жизненные интересы, — он клянет любовь, чтобы обрести золото, и клянет золото, чтобы досадить грабителю. Зато проклятия Кундри совершенно беспредметны, она просто до крайности раздражена, и невозможно понять, отчего проклятия ее обладают такой силой, что ни в чем не повинный Парсифаль должен из-за них годами скитаться по свету?.. Альберих мог по крайней мере сослаться на символическое значение золота... Приходится прибегать к символическому значению, оправдывая и другой аксессуар мелодраматической режиссуры — волшебный напиток. Вполне можно представить себе, что первый импульс к созданию Тристана" Вагнер почерпнул из необычайно популярного "Любовного напитка" глубоко презираемого им Доницетти. Конечно, в "Тристане" мотив налитка понятен — это символ неодолимого влечения двух юных героев друг к другу, но тут добавляется еще и роковая подмена волшебных напитков — настоящий фарс, не будь при этом трагического фона! Неужели же дубиного-ловая Брангена не нашла ничего более невинного в сундуке с зельями, когда ей было приказано приготовить напиток смерти?
Наконец, в "Гибели богов" использование напитка, обращающего героя Зигфрида в безголовую марионетку, не ведающую, что творит, в драматическом отношении ниже всякой критики. Здесь изъяны внутренней взаимосвязи событий, характерные для "Гибели богов", становятся очевидны — ведь и сами мотивы сказаний в "Кольце нибелунга" плохо совмещаются друг с другом. Все, что внутренне не взаимосвязано, все, что приходится соединять силой, — все это здесь расползается во все стороны. Зигфрид, убивший дракона и взявший в жены Гутруну, то есть на самом деле Кримхильду, — это одно лицо, а Сигурд, пробудивший ее ото сна и взявший ее себе в жены, - другое; у Вагнера оба превращены в одно лицо, и напиток оправдывает такое слияние. Странные - и предательские - вещи творятся и с главным реквизитом тетралогии, с кольцом:
Зигфрид подарил его Брунгильде, а потом стягивает его с ее пальца (всегда ли мужчины так поступают, когда дерутся с женщинами?), но на следующее утро уже не помнит об этом своем подвиге, зато помнит, что отнял кольцо у дракона Фафнера. Итак, чудесный напиток действует выборочно — люди то забывают, то не забывают, в зависимости от того, чего требует ситуация.
Впрочем, если досконально разбираться в событиях "Кольца", то конца не будет всплывающим на поверхность нелепостям. Вот хотя бы Вотан — какой-то необычный, непоследовательный "бог". Он строит себе дворец, но денег на постройку у него нет, тогда он отдает в залог богиню Фрейю, жизненно необходимую для богов (золотые яблоки!), потом он платит за нее выкуп — награбленное золото, с которым расстается, однако, с крайней неохотой. Невольно думаешь о Вагнере —должнике и неплательщике, невольно вспоминаешь о Вагнере и Минне, когда Вотан ("Валькирия", второе действие, вторая сцена) поступает со своей женой Фриккой как неверный супруг, совесть которого нечиста и который именно поэтому вынужден уступать там, где прав и где должен был бы показать характер. Когда же Брунгильда нарушает его повеление и поступает мужественно и человечно, он карает свою любимую дочь, словно мстительный бог Иегова, — навеки изгоняет ее из мира богов!
Тут ворчуну-критику следует прерваться, чтобы откровенно заявить: все его возражения не имеют ни малейшего значения. Ни один восприимчивый зритель ни на минуту не задумывается о непоследовательностях и драматургической недобросовестности Вагнера. Он примирится со всем — потому что эмоциональное воздействие музыки таково, что о подобных вопросах сразу забываешь. Вот почему в глазах публики Вагнер всегда был прав, вот почему его критики никогда не были правы. У сценического действия свои законы, своя логика. Правда, иногда Вагнер заходит слишком далеко: в последней сцене "Тристана" вооруженные мужи с остервенением бьются у врат замка Кареоль (итог — двое убитых), тогда как стоит пройти два шага... и Брангена без труда перебирается через низкую стену, чтобы поспешить к своей госпоже Изоль-де. Мы все это видим, но никогда над этим не задумываемся. И все наши возражения направлены не против произведений Вагнера, а против его претензий на величайшую славу и непогрешимую святость его драматического искусства, против призрака универсального художественного произведения. Если Вагнер воздействует на зрителя глубоко и серьезно, то это всякий раз воздействие оперного искусства. Если принять его произведения за оперы, какими они и являются на деле, то и все мелодраматическое в них уже не вызывает возражения. Начинаешь искать в них только то, что можно в них найти, — великолепные, красивые места. Драматург превосходно потрудился ради музыканта, он предоставил ему такие возможности для демонстрации выразительности, какими никто прежде не располагал. Уровень созданного - вот единственный реальный критерий оценки всего творчества композитора-поэта.
А все сомнительное в его сочинениях восходит к противоречию между сознательно поставленными целями и фактически достигнутым, между претензиями теории и неискоренимым инстинктом художника. Педант-драматург, правда, воздвиг на оперных подмостках чудовищные горы балласта, не думая о последствиях: все надо объяснять, все мотивировать, и предыстория становится известной нам в мельчайших подробностях. В "Кольце нибелунга" все это доходит до крайности и, вероятно, объясняется тем, что текст тетралогии возникал по частям, в обратной последовательности, или, что тоже не исключается, желанием автора обеспечить возможность исполнения каждой из частей по отдельности. Но разве не жестоко заставлять нас выслушивать в "Валькирии" подробный рассказ обо всем том, что произошло в "Золоте Рей-на", в "Зигфриде" — о том, что происходило в "Золоте Рейна" и "Валькирии", а в "Гибели богов" еще раз, с начала до конца, воспроизводить всю цепь событий "Золота Рейна", "Валькирии" и "Гибели богов".
Но все не беда, если бы только музыка была на должной высоте! А это, увы, не так: разве вечное пережевывание одного и того же может вдохновить композитора? Посвященные пересказу давних обстоятельств сцены - во втором действии "Валькирии" (Вотан и Брунгильда), в первом действии "Зигфрида" (сцена Странника) — выдержаны на точке замерзания фантазии, это суховатый диалог, простроченный лейтмотивами. В такие минуты осознаешь всю мудрость "сухого речитатива" в старинной опере — там диалог заканчивается с минимальной тратой времени, а "негативное" музыкальное содержание речитатива подчеркивает рельефность следующей за ним арии.
Но со всеми слабостями "Кольца" контрастирует такая высота реально достигнутого, что уже ввиду колоссальных размеров произведения ему присуще совсем особое достоинство. Человек, сумевший создать все это, был громадной личностью - с твердым характером, с крепкой верой в свои художественные идеалы. Это произведение уникально, и столь же уникальна линия развития его стиля, в котором отразился 25-летний процесс становления, от первого дрезденского замысла до завершения в Байрейте. Вот в чем, по-видимому, основная причина чрезвычайных различий в стиле четырех составляющих единое целое произведений. Самое прекрасное и словно предначертанное судьбой в становлении гигантского замысла - это невольный, непредусмотренный результат развития: по мере того как сам Вагнер изменялся, старея, параллельно с этими изменениями шло и действие тетралогии, охватившее историю целого мира, от первозданного состояния до гибели, от наивной простоты "Золота Рейна" с непосредственными изначальными мотивами словно еще не тронутой природы через потрясающие бури "Валькирии" с их стихийным разгулом страстей, через светлый, полдневный героический ландшафт "Зигфрида" до скрывающихся в черных тучах вершин "Гибели богов" с колоссальным финалом, громоздящим в небеса весь тематический материал произведения. Вместе с возрастом росло художественное самосознание музыканта — подлинный центр всей энергии его существа, за эти два десятилетия оно достигло самой безмерности. Отсюда величественность стиля "Гибели богов", его полифоническое великолепие, неисчерпаемое богатство гармонического и оркестрового колорита. Многие музыкальные символы-лейтмотивы, проходящие сквозь всю тетралогию, мотив дочерей Рейна, мотив золота, Валгаллы, копья Вотана, мотив проклятия Альбериха и многие другие при своем первом появлении в "Золоте Рейна" - всего лишь музыкальные значки. Трудно даже предположить там их тематическое значение в высшем, симфоническом смысле. В "Гибели богов" эти мотивы складываются в комбинации, непревзойденные по силе впечатления.
Здесь, в "Гибели богов", — видимый пик целого, это самое монументальное создание Вагнера. Эмоциональная же вершина тетралогии, по-человечески волнующая, — это "Валькирия". Судьба двух прекрасных, несчастных, гонимых страстью людей: Зигмунда и Зиглинды -Вотан бездумно произвел их на свет и столь же бездумно губит — потрясает до глубины души. И первый, кого так тронула, кого так возмутила их судьба, поднялся в своей музыке, созданной для них, на вершину своих величайших достижений. Можно считать, что первое действие "Валькирии" — самое лучшее оперное действие, какое когда-либо писал Вагнер. Это музыка, отмеченная такой проникновенностью, глубиной, внутренним жаром, что ничего подобного он уже не писал впредь. Колоссальное внутреннее развитие, которое ведет от "Золота Рейна" к "Валькирии", не объяснить разделяющим их промежутком времени, — как сказано, оба произведения создавались непосредственно друг за другом. Их разделяет внутреннее переживание — переживание фантазии, переживание драматурга, ни с чем не сопоставимое во всем творческом развитии Вагнера. "Золото Рейна" - это сказка. И все, что в ней происходит, подобно книжке с картинками, яркими и живыми, веселыми и пугающими. А "Валькирия" переносит нас в сферу подлинной человеческой трагедии. Зигмунд и Зиглинда — простые люди, они созданы, чтобы жить. Однако неумолимый рок преследует их, и вся их жизнь сводится к блаженству одной-единственной весенней ночи, с которой начинается их гибель. Катастрофе в конце второго действия предшествует сцена, отмеченная потрясающим трагизмом: валькирия является перед Зигмундом и возвещает ему смерть, но буря его чувств заставляет ее отступить, нарушив повеление Вотана. И сколь же жалка в сравнении с этой трагедией живых людей, с их чувствами вся политика Вотана, политика силы! Кстати, если только отвлечься от непоследовательности поступков Вотана, сама драма отличается классической мощью и единством развития. Более того, это цепь образных, волнующих, удивительно законченных как в драматическом, так и в музыкальном отношении сцен, производящих огромное впечатление в театре. Говоря иначе, это настоящая опера.
Единственное произведение Вагнера, которому нельзя сделать такой комплимент — или же, рассуждая по-вагнеровски, которому нельзя предъявить такой упрек, — это "Тристан и Изольда". В этом сочинении художник наиболее последовательно шел за теоретиком, и, если только не обращать внимания на неискоренимые мелодраматические предпосылки произведения, Вагнер-драматург вполне удовлетворил здесь самым строгим требованиям классической драмы. Вагнер из сказания заимствовал лишь одно — мотив рокового любовного напитка и образ волшебницы Изольды, которая является слишком поздно, чтобы спасти смертельно больного Тристана. Все остальное принадлежит Вагнеру. Ярко образные мотивы сказания Вагнер скрестил с построениями мысли в духе Шопенгауэра, хорошо ему тогда известного, но в итоге он вложил в произведение слишком много абстрактной рефлексии — сказочный сюжет не выдержал такого бремени. Это повсеместно приводит к чрезмерной широте. Такова бесконечная экспозиция первого действия — тут необходимо мотивировать отчаяние, овладевшее Изольдой, приводящее ее на грань самоубийства вместе с Тристаном. Во втором действии бесконечными разъяснениями надо оправдать все нелепое, что было и осталось в поведении Тристана. В третьем действии жестокие в отношении к самому себе монологи больного Тристана должны проиллюстрировать бесконечное ожидание опаздывающей Изольды ("...это ведь так быстро не бывает!"). Если это изъяны, то вместе с тем и непременные своеобразные особенности произведения, которое в том виде, в каком оно существует, представляется выдающимся шедевром. Осторожные купюры в первой половине любовной сцены и в третьем действии, предложенные самим Вагнером, могут лишь яснее выявить совершенство целого. Однако от этого не исчезает проблематичность вещи: порожденная экзальтированным чувством, она пребывает в сфере экстаза, не всегда доступной здоровому чувству. Тристан и Изольда ходят на котурнах, их чувства превышают обычные человеческие, предельное напряжение, для которого отождествляются жизнь и смерть, пронизывает целое произведение. Даже песня матроса за сценой в начале первого действия звучит ирреально (с хроматическими смещениями!) — и это тоже фрагмент иного мира. Сотворенного фантазией мира не по-земному напряженных, сверх меры натянутых чувств. Вагнер это понял! "Боюсь, мою оперу запретят, — писал он Матильде Везендонк, — если только скверное исполнение не превратит ее в пародию. Итак, только посредственное исполнение может меня спасти! А исполнение совершенное сведет людей с ума — иначе я себе этого не представляю".
Уже "Лоэнгрин" смутил ум молодого короля Людвига; "Тристан" же смутил целое поколение! Кстати говоря, из всех фантастических капризов Вагнера самый странный - это его шопенгауэровская поза. Наиболее послушный своей воле из всех когда-либо живших на земле людей, Вагнер заговорил о преодолении воли, об отречении! Однако Вагнер веровал и творил. Судя по дневникам, которые Вагнер писал в Венеции для Матильды Везендонк, его фантазия завела его очень далеко - он с головой ушел в тристановские настроения: "Итак, ты посвятила себя смерти, чтобы даровать мне жизнь, и я принял в дар твою жизнь, чтобы вместе с тобой расстаться с миром, чтобы страдать с тобой, чтобы умереть с тобой!" Непостижима способность Вагнера-художника переносить весь жар своей фантазии в творчество — не расплескав, не остудив его по дороге! Трудно даже судить о вагнеровском "Тристане" — трудно потому, что, собственно говоря, надо или любить, или ненавидеть его, или любить и ненавидеть сразу. Корнелиус прямо-таки боялся Тристана". Он писал своей невесте: "Андер в Вене учил эту партию и уже почти твердо ее знал. Поэтому для Вагнера тяжелейший удар, что Андер умер в безумии, а Шнорр, исполнивший ее, - от тифа. Не должно ли это событие послужить, словно пограничный столб, предостережением: не надо натягивать сверх меры лук, выпуская стрелу энтузиазма в самое сердце слушателя; предостережением: не надо вступать в сферу такого искусства, беспощадного, дергающего и взвинчивающего все нервы и фибры души?" Кто равнодушен к этому произведению, тот страдает от недостатка фантазии. А для оценки этого произведения важны такие критерии — колоссальный факт существования стиля, отмеченного самым дерзновенным своеобразием, и раскрытие мелодических и гармонических тайн, какие до Вагнера никому и не снились.
Если даже и не предаваться полностью воздействию "Тристана", в общем впечатлении все равно должны отложиться два эпизода, по потрясающей напряженности отразившегося в них переживания не имеющие параллелей в искусстве. Оба эпизода связаны с умирающим Тристаном. До какой же степени Вагнер внутренне слился с его страданиями! Тристан, мучимый жаром, вслушивается в "печальный наигрыш" пастуха — тот переходит в оркестр и, видоизменяясь, продолжает звучать. И вот Тристану на этом фоне, на этом cantusfirmus гложущей сердце, мучительной, несказанно жуткой мелодии, представляется вся его жизнь. Трудно сказать, музыка ли это еще — это передаваемое средствами музыки выражение больной души! Второй эпизод наступает позднее: приходя в себя после обморока, больной Тристан думает, что видит корабль с Изольдой на борту. Четыре валторны исполняют здесь парафраз лирической мелодии из любовной сцены второго действия; спокойная и проникновенная, она постепенно достигает вершин ликования, и пение Тристана поднимается вместе с нею к лирической кульминации — "Изольда! Как ты прекрасна!". Наконец на самой точке кипения раздается веселый наигрыш пастуха, который увидел приближающийся корабль Изольды, — это прекрасная музыка, и едва ли можно говорить об исключительно музыкальном воздействии такой сцены. Вот где истинная драма — в единстве действия, звучащего выражения и нашей собственной взволнованности, передающей нам художественное переживание подобной степени интенсивности.
Стоит ли указывать на те средства, которыми маг и волшебник Вагнер достигал подобного воздействия на слушателей. Интересующийся этой проблемой музыкант должен будет заняться тайной побочных доминант, благодаря гармоническому освоению которых все интервалы полутоновой гаммы приведены в диатонически-тональную взаимосвязь. Однако о вагнеровской гармонии, и особенно о гармонии "Тристана", написано немало неразумного, и не будет излишним указать на то обстоятельство, что Вагнер действительно постиг самые тонкие возможности тональности, подчинив их своим потребностям в выражении, но что он ни на йоту не отошел от тональности с ее полем притяжения. У Вагнера даже бывает и так, что, как во всех операх Моцарта, а также в "Волшебном стрелке", "Эврианте" и "Обероне" Вебера, целое сценическое произведение написано в своей особой тональности, которая, словно дуга, соединяющая начало и конец, творит в произведении единство, которое мы ясно слышим. В "Лоэнгрине" это ля мажор, в "Мейстерзингерах", в "Парсифале" — ля-бемоль мажор. Вагнеровский ответ на вопрос о тональности вступления к "Тристану", на вопрос, далеко не всем ясный, недвусмысленно дан уже тем, что для концертного исполнения вступления Вагнер приписал к нему завершение, приводящее к ля мажору, — это необходимо вытекает из того, что вступление коренится в тональности "ля", в тональности, которая, однако, становится у Вагнера символом вечного томления: гармоническое развитие все время приближается к тонике "ля", но никогда не достигает ее.
Гармоническое мышление Вагнера - это особенный феномен. Чтобы подыскать пример столь же уверенного обращения с тональностью, необходимо обратиться к решительному антиподу Вагнера, к Брамсу, у которого никто еще не находил склонности к атональности. В соль-минорной рапсодии Брамса (Ор. 79, № 2) нужно дойти до самой середины разработки этой большой, написанной а сонатной форме пьесы и пересечь эту середину, чтобы утвердилась тональность пьесы. А последняя из пьес Ор. 76, до-мажорное каприччио, с самого начала недвусмысленно вращается вокруг своего тонального центра, но утверждает его лишь своим последним аккордом. Бессмысленно выводить из "Тристана" необходимость атональной музыки: ведь Тристан" — это самый последовательный итог тонального стиля. Безошибочно ориентируясь, Вагнер шел по трудному пути, и нельзя возлагать на него ответственность за то, что люди, шедшие вслед за ним, заблудились. Правда, Вагнер-композитор вдохновлялся драмой, его музыкальное мышление определено поэтическим текстом, однако тенденции выразительности, тенденции звукописи не способны были нарушить его чувства целостности, внутренней взаимосвязи музыкального произведения. Ни в одной вагнеровской партитуре нет ни одной ноты, которая не была бы однозначно определена с музыкальной стороны. Теория Вагнера — но не его музыка! — правда, повинна в том, что в истории музыки наступил период величайшего хаоса, что целое поколение музыкантов было выбито из равновесия и что многие — в гармоническом отношении - начали жить не по средствам. Хотя рок и на этом не остановился, и все мы присутствуем при бунте огромного большинства людей против музыки, при восстании против нее немузыкальных людей всех стран. Вот что повернулось за это время на 180 градусов - общественное мнение! В эпоху "Тристана" Ганслики ворчали, а публика толпами бежала за Вагнером, как дети за крысоловом из Гамельна. Теперь наоборот: публика не желает слушать новую музыку, а критики восторгаются, потому что пример Ганслика научил их предусмотрительности. И только одного они не поняли — и для предусмотрительности нужен разум.
Вагнер обладал абсолютно здоровой натурой, и вот симптом — после всех экстазов и хроматических сумерек "Тристана" он вернулся в посюсторонний мир, и притом вступил в полосу такого яркого света, какого ему до той поры не доводилось видеть. Переход потребовал времени и явной смены всей обстановки. Человек волевого действия, Вагнер должен был заново осмотреться в мире, сразиться с ним, наставить себе синяков, о чем побеспокоился парижский "Тангейзер" да и вся действительность до и после этой постановки. По "Вакханалии", которую Вагнер писал в Париже, можно заметить, что "тристановская" инфекция все еще оставалась у него в крови. Нужен был какой-то основательный, решительный толчок, чтобы оживить его творчество и направить в русло, отвечающее его натуре. Тут-то Вагнер и разыскал в закоулках своей памяти "Мейстерзингеров" — сюжет, который он набросал за шестнадцать лет до этого в Дрездене.
Естественно, что и "Мейстерзингеры" не стали легкой комической
оперой — а именно это пообещал Вагнер своему издателю, — как не стал итальянской оперой для Рио-де-Жанейро "Тристан". Вагнер не способен высказываться иначе как широко и весомо, у него была не легкая рука. Верди, антипод Вагнера, подарил миру "Фальстафа", когда ему исполнилось 80 лет, и ему тоже надо было пережить для этого чудесное превращение: художник, всю свою жизнь преданно служивший трагической музе, обрел в комедии новый взгляд на мир. Верди научился ко всему относиться легко - вот откуда прелесть "Фальстафа". А "Мейстерзингеры" были написаны за двадцать пять лет до этого — за четверть века, и Вагнер еще нес на своих плечах тяжкое бремя романтического мира чувств, исторических костюмов, декораций. А романтик обязан ко всему относиться с предельной серьезностью — к себе и к своим чувствам, без такой серьезности он вовсе немыслим. Уже первые такты вступления к "Мейстерзингерам", тяжеловатые и торжественные, не оставляют сомнения в том, что нам скорее предстоит пережить праздник, чем просто посмеяться. "Мейстерзингеры" слишком серьезны для комедии, в них сознательно вложено слишком много мировоззренческого, это одновременно драматическое высказывание в свою пользу, сатира, самовозвеличивание, уникальное соединение прокламации, драмы, оперы.
Несомненно, произведение это — подлинная опера. Теоретику музыкальной драмы пришлось закрыть глаза на происходящее! Вся композиция "Мейстерзингеров" с развернутыми музыкальными эпизодами, с ярким светом, льющимся на главных героев, с широкими финалами — все соответствует идеальной форме оперы, форме, созданной мудростью многих поколений, форме, которую не разрушит никакое отрицание. Непосредственные музыкальные импульсы сюжета дали здесь самый богатый урожай — в отличие от состязания певцов в Вартбурге, где Вагнер не сумел ими воспользоваться, — а песня Вальтера — это благородный цветок вагнеровской лирики. И—о чудо! — оперный композитор перехитрил сурового драматурга и отвоевал у него даже маленькую балетную сцену - танец подмастерьев на лугу, красивый, прелестный, с которого начинается финальная сцена оперы. От музыкальной драмы "Мейстерзингеры" получили в наследство лишь небывалую широту и пространность — без этого Вагнер никак не мог бы высказаться. Но, собственно говоря, всего только три эпизода своей прозаической прохладой, обстоятельностью диалогов усложнили здесь работу оперного композитора. Это, во-первых, уже упомянутое собрание мастеров в первом действии, во-вторых, сложные теоретические пояснения касательно поэтики, которые дает Ганс Сакс Вальтеру Штольцингу в своей мастерской, и, наконец, совестливость, с которой он же очень обстоятельно рассказывает собравшемуся на праздничном лугу народу, что теперь будет, хотя к этому времени все хорошо известно и нам, и, наверное, собравшимся на праздник нюрнбергским бюргерам тоже. Однако балласта тут меньше, чем обычно у Вагнера, и если отвлечься от упомянутых сцен, то в "Мейстерзингерах" совсем нет длиннот — вот торжество самой богатой, льющейся непрерывным потоком фантазии.
У автора этого произведения музыка, как говорится льется неудержимым потоком, а причина этого, не осознанная самим композитором, заключалась в следующем: Вагнер блаженствовал, потому что был избавлен от темного (скрывшегося за занавесями, должно быть из атласа и парчи) мира сказаний, от богов и героев, великанов и нибелунгов, любовных напитков и шапок-невидимок — перед ним настоящие люди, настоящие чувства, реальные факты, люди, с которыми можно искренне смеяться и плакать, радоваться и сердиться. И как же хорошо от этого всем вокруг! Ева — самая поэтическая и самая естественная среди всех женских персонажей Вагнера, Вальтер Штольцинг - единственный его герой, у которого к романтической экзальтации прибавляется капелька душевности и даже крупица юмора, а Ганс Сакс с его глубокой человечностью и крепким здравым смыслом принадлежит к числу бессмертных драматических характеров.
В процессе работы над материалом Вагнер сместил центр тяжести оперы, и это обернулось большим преимуществом для произведения. Создавая первый набросок в тридцатилетнем возрасте, Вагнер отождествлял себя с молодым героем — Вальтером Штольцингом, гениально одаренным музыкантом, который перед лицом мастеров со смехотворными условностями их искусства выступает в полном сознании своего превосходства, будучи убежденным в своей правоте. Пятидесятилетний Вагнер сам стал большим мастером, и теперь, заново приступив к эскизу, он уже отождествлял себя с Гансом Саксом, в которого вложил все то зрелое и благородное, что смог найти в тайниках своего сердца. Итак, сложилась двойная связь автора с персонажами своего произведения, и благодаря этому оба главных героя, и Вальтер, и Ганс Сакс, обретают несравненную жизненность, а все произведение — такую реальность и такую душевность, какой больше нигде не встретишь у Вагнера. Здесь самовозвышение становится столь непосредственным выражением крайне эгоцентрической личности, что не дает воли и крупице тщеславия. А эгоцентризм вагнеровской натуры помешал ему рассмотреть в пору борьбы за Козиму, в какой мере сам он погрешил против своего идеального представления. Ганс Сакс находился в том же положении, но он великодушно отказался от юной Евы... Познай себя!
Наряду с главными героями необычайно четко охарактеризованы и второстепенные. Достаточно сравнить Погнера, доброго, благожелательного отца, с Даландом, его предшественником из "Летучего голландца", традиционно условным представителем того же амплуа, чтобы понять, как далеко вперед продвинулся Вагнер в своем искусстве. И вторая любовная пара "Мейстерзингеров" удостоилась самой живой, индивидуальной характеристики — Давид и Магдалена. А если характерные типы "Мейстерзингеров" сравнить с персонажами "Кольца нибе-лунга", всякому станет ясно, сколь огромен контраст между ними. Мы уже указывали на то, что в "Кольце" злодеи, интриганы обделены музыкой — как и в "Лоэнгрине", "Тристане", "Парсифале" — и что это связано с самой "конституцией" этих произведений. В "Мейстерзингерах" любая фигура полнокровна, пропитана музыкой, и даже на Котнера, суховатого старшину гильдии, проливается яркий свет музыки, когда он зачитывает табулатуру — правила цеха мейстерзингеров. И Бекмессер, писарь, воплощенный враг искусства, любого чувства, — живая, оригинальная личность. Пародировать легче всего, и Бекмессер мог бы стать простой пародией. Но композитор ограничивает пародийность этого образа весьма одержанными намеками. Поэтому серенада, которую исполняет Бекмессер, — это непревзойденный шедевр; несмотря на все пародийные частности, это великолепная мелодическая находка, благословенный ритм, из всего этого и вырастает чудесно задуманный финал второго действия. Раздраженный прямолинейной критикой Ганса Сакса, который, отмечая ошибки, знай себе бьет молотком по подошве башмака, Бекмессер вне себя от возмущения с трудом "продирается" сквозь последнюю строфу своей песни, и тут на него набрасывается с кулаками Давид, который, увидев своими зоркими глазами сидящую в окне переодетую Магдалену, решил, что ей-то и предназначалась серенада незадачливого писаря. Так и начинается славное побоище, где никому не ведомо, кто кого бьет и за что... А из "Мотива драки" вырастает фуга с мелодией серенады Бекмессера в качестве второй темы! Эта тема поднимается по терциям вверх, чтобы — ради этого и все нарастание! — приземлиться на фа-диез, единственной ноте, какую издает рожок ночного сторожа, который уже довелось услышать в предыдущей сцене. Этот фа-диез - сигнал ужаса: все немедленно разбегаются... А вместе с тем с него начинается поразительно прекрасная мелодия: прежде она звучала, когда Вальтер и Ева сидели в уединении под липой, и, кажется, все волшебство теплой летней ночи перешло в эту мелодию. Когда же ночной сторож выходит на сцену и, зевая, напевает свою песню, думая, должно быть, что услышанный им издалека шум просто-напросто пригрезился ему, а затем мелодия летней ночи, нарушаемая тихим отголоском отшумевшей драки, перебивается клочками бекмессеровской серенады, на звуках которых и опускается занавес, — это самый чудесный финал оперного акта, который когда-либо был написан.
Брамс, всегда настороженный, сдержанный критик своего знаменитого современника, нечаянно процитировал это завершение в одной из поздних фортепьянных пьес (Ор. 119, № 2) - вот изящный, непроизвольный знак признания! На полях заметим для себя, что тождественность тональности, как всегда, ясно указывает на подсознательно закрепившийся в памяти образ:
И еще одно замечание на полях; радость, которую доставляет этот финал, портит одно-единственное обстоятельство — вокальный характер сцены драки невыносим. Кто с некоторым знанием дела заглянет в клавир, поймет почему:
Артикуляция и фразировка в вокальных партиях такова, как если бы это были инструменты, не голоса. Вагнеровский слух, безошибочный во всем, что касается оркестра, странным образом подводит его, когда речь заходит о человеческих голосах: тонкое чувство выразительной декламации сольного пения изменяет ему в ансамблях, где Вагнер поддается искушению требовать от голосов вещи, которые им противопоказаны. Встречаются хормейстеры оперы, которые хвастаются тем, что их хор может исполнять сцену драки без сопровождения! В репетиционном зале — да! Но не на сцене, где все обращается в беспорядочный крик. Хорошо еще, когда кричат в такт, хотя все равно некрасиво. Можно возразить: откуда быть красоте в сцене драки? Но остается вопрос: заслуживает ли этот шум и гам бесконечного труда, какой приходится на него положить?
К счастью, Вагнер умел писать иначе и не раз доказал это в тех же "Мейстерзингерах". Самое поразительное из всех его теоретических заблуждений — это отказ от ансамблей, прекраснейшей возможности оперного стиля. В "Кольце нибелунга", в "Тристане" Вагнер, за малым исключением, придерживался того принципа, который был метко определен Гансликом — "петь гуськом". В "Мейстерзингерах" Вагнер позабыл о нем. Конечно, он не пошел так далеко, чтобы сцена Евы и Вальтера или Сакса и Евы превратилась в простой оперный дуэт. Но когда теплота чувства побеждает - сцена крещения новорожденной песни Вальтера, — Вагнер способен составить квинтет из пяти участников -вот эмоциональная кульминация всего произведения, соответствующая внешней кульминации на праздничном лугу, она словно ореол окружает всю оперу. Иной раз, слушая Вагнера, теряешь терпение: когда он слишком уж многословен. Зато в преддверии волнующих событий чувство выражается сосредоточенно, музыка кристаллизуется и дает неповторимый, несравненный склад. И коль скоро автор "Мейстерзингеров" делает типично оперные выводы из типично оперной ситуации, с ним даже случается вот что — он прибегает к такой форме, которая со времен Россини встречалась в любой итальянской опере, к такой, в которую легче всего отливается оперный ансамбль. Такая форма на деле создана Россини, она органически вытекает из его стиля, где мелодия — единственное, о чем вообще идет речь. Ансамбль начинается так, как будто это ария: сольный голос исполняет широкую певучую мелодию; в среднем разделе к нему один за другим присоединяются, чуть контрастируя с ним, остальные голоса, внутреннее волнение нарастает и подводит к первоначальной мелодии, которая выразительно поддерживается всем ансамблем и достигает теперь кульминации. Нет менее замысловатой идеи формы, но если мелодия и голоса красивы, она завораживает — вот квинтэссенция того, что может предложить итальянская опера. Вагнер без смущения пользуется такой формой здесь, и это свидетельствует о его непредвзятости — когда нужно! А что касается мелодического дара, Вагнер, когда душа его захвачена, обойдет любого...
Между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами, в период создания "Мейстерзингеров", Вагнер, как почувствовал он сям, достиг вершины творчества. В шестьдесят лет он завершил "Кольцо", "колоссальное творение", как назвал он его сам. В то же время он сознавал, что его силы неисчерпаемы; он чувствовал себя избранником. Тогда он писал Пузинелли: "Что касается моего здоровья, я — особенно знатокам дела — представляюсь экземпляром особой человеческой породы, какому предстоит долгая творческая жизнь... Мне требуется много времени - ведь все, что я ни пишу, является в превосходной степени". А издателю Шотту Вагнер пишет: "Судьба - об этом можно говорить с уверенностью — уготовала мне крепкое здоровье и преклонный возраст, с тем чтобы один человек смог добиться того, на что в Германии потребны две человеческие жизни". Вагнер наверняка оправдал бы приговор судьбы, если бы не его последняя фантастическая авантюра — Байрейт, стоивший ему здоровья. Партитура "Парсифаля" показывает нам, что произошло с Вагнером в эти годы. "Парсифаль" - осенний пейзаж, с деревьев облетели листья, выпал иней, солнце скрылось за облаками. Эта музыка полна достоинства — отмечена подлинной взволнованностью, бескомпромиссной суровостью стиля, мудрым распределением красок. Но эта музыка создана утомленным человеком, которому недостает того, что всегда составляло магию вагнеровской музыки, — недостает вулканической фантазии. Священный Грааль - он в "Парсифале" лишь туманный образ без ясных очертаний в отличие от того Грааля, который был символом Лоэнгрина... Быть может, король Людвиг руководствовался инстинктивным ощущением подобного свойства, когда пожелал сравнить с "Парсифалем" вступление к "Лознгрину", а Вагнер почувствовал себя задетым — быть может, этим и объясняется недовольство, с которым он прореагировал на каприз короля. В "Парсифале" все как бы взято из вторых рук, правда из рук большого мастера. Когда во вступлении полный оркестр исполняет тему причастия, сначала звучавшую одноголосно, гармония— сказочна, звучание оркестра—неземное. И только недостает самого нерва, благодатного вдохновения. И нет его, за исключением нескольких более оживленных тактов в миг появления Парсифаля, до самого конца бесконечно длинного первого действия, где две трети времени уходят на неугомонную болтовню Гурнеманца, который должен вынести на себе все бремя экспозиции. А финал первого действия — вновь словно величественный собор; правда, воздействие финала зависит по преимуществу от распределения обширных спокойных плоскостей конструкции.
По контрасту со статичным первым действием, которое почти целиком занято экспозицией, второе действие — это опять настоящая опера, где Вагнер проявляет безошибочное чутье драматурга. К сожалению, и здесь наиболее важная сцена — та, в которой Кундри пытается соблазнить Парсифаля, — чуть подморожена. Драматург опять вмешался в дела оперного композитора и круто подвел его: до сих пор мы ничего не знали о личных обстоятельствах жизни Парсифаля, а потому Кундри обязана просветить нас. Вот она, словно старая тетка, и ведет рассказ о его происхождении, о его детстве - в музыке начинаются хлопоты с длиннотами, а в результате Парсифаля так и не удается соблазнить... Музыкальная кульминация этого действия — сцена с девами-цветами, эпизод поразительной свежести, материал которой, видимо, принадлежит более раннему этапу творчества Вагнера. Это же нужно сказать и о благолепной сцене чуда святой пятницы в третьем действии. К этому действию относится и самая значительная часть всего произведения — большой заключительный апофеоз, где внушает уважение прежде всего его резкий контраст со сценой в том же храме святого Грааля в первом действии. Но замедленный пульс этой музыки мешает полностью отдаться ей. Эта музыка означает конец, прощание, это памятник абсолютной художественной цельности художественных намерений. Универсальное произведение искусства превратилось здесь в мистерию; Вагнер хотел, чтобы "Парсифаль" исполнялся только в Байрейте, и хорошо понимал, почему ему так хочется этого.
Когда в 1913 году истек срок, определенный авторским правом, все оперные театры стали ставить "Парсифаля", и воспрепятствовать этому не было никакой возможности. Однако "Парсифаль" так и не стал органической частью репертуара, его исполняют редко, его чтят, но врядли любят.
Е.Г.Соколов. Артистический миф Рихарда Вагнера
Е.Г. Соколов
(СПбГУ)
Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Сборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича. Серия «Мыслители». Выпуск №8 - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского философского общества, 2001. - C. 300.
Одним из важнейших аспектов эстетики Р. Вагнера, кардинальным образом повлиявших на всю европейскую культуру, является исследование продуктивных особенностей мифа. Без сомнения, композитор стоят у истоков того необыкновенного интереса к мифу, который пронизывает все области гуманитарного знания в ХХ столетии. Он весьма способствовал тому, что к мифу установилось совершенно иное отношение: миф стал важной частью активно востребованного общекультурного фонда. Миф уже не игнорировался как пережиток прошлого, как некое рудиментарное наслоение, от которого надлежало избавляться цивилизованным народам, миф постепенно стал перемещаться из сектора негативности (превратности) в сектор позитивности (обоснованности) и занял там одно из почетнейших мест — легального и дискурсивно-легитимного конститутивного фундамента любой культурной системы.
Как в большинстве теоретических выступлениях Р. Вагнер и в своей теории мифа отталкивался от немецкого романтического наследия, в рамках которого произошла одна из первых в новоевропейской рефлективной традиции попыток реабилитация мифа. Романтики дали общехудожественную трактовку мифу, получившую отражение в учении о «художественной мифологии» (Kunst-Mythologi). Самыми яркими представителями данной трактовки мифа можно считать К.Ф. Мориц и К.А. Беттигер. В литературе это направление развивали Ф. Шлегель и А. Шлегель, Л.А. Арним, К. Брентано, Я. Гримм и В. Гримм и др., Уже Ф. Шлегель в работе «Разговор о поэзии» (1800) ставил задачу создания новой мифологии, которая «должна быть произведена из сокровеннейших глубин духа; она должна быть самым художественным из всех художественных произведений, ибо она должна охватывать все остальные…». Поскольку мир трактовался в немецком романтизме чаще всего как откровение народной мудрости, то вся мировая мифология понималась как универсальная символика общечеловеческой мудрости народов. Таких же взглядов придерживались Хр.Г. Гейне, Ф. Крейцер и Й. Геррес.
Во всех романтических проектах миф фигурировал в качестве презентанта народности (фольклорности), встраиваясь в один ряд с народными песнями, сказками, легендами, притчами, поэтическими фрагментами и пр., т. е. выступал новым фрагментом активной художественной циркуляции, прежде выпадавшем из поля зрения практики искусства. Эстетизация и культ старины (неклассицистической, неантичной, но «собственной») — предел теоретического осмысления мифологического опыта в пределах романтизма. Без особой натяжки можно утверждать: попытки проекции мифологических нарраций в художественный контекст носили в романтизме внешний, декоративный характер и могут рассматриваться как расширение изобразительной сферы компетенции искусства.
Но также как и во всех остальных случаях, когда Р. Вагнер отталкивался от той или иной романтической интенции, миф в его трактовке претерпел существенные изменения как на уровне теоретического осмысления, так и в пределах собственно художественного опыта — в операх и музыкальных драмах. Хотя специальной, отдельной работы, посвященной мифу у Р. Вагнера нет, тем не менее данной проблематики композитор касается во многих своих теоретических сочинениях, уделяя различным аспектам конструирования и функционирования мифа в культуре достаточно много внимания.
Свое отношение к мифу композитор определил в работе «Вивелунги. Всемирная история на основании сказани» (1848). Так или иначе по данному поводу Р. Вагнер высказывается в третьей части трактатах «Оперы и драмы», в работах «Произведение искусства будущего», «Музыка будущего», «О назначении оперы» и пр. Рассуждения композитора о мифе носят в некотором смысле «прикладной» характер, т. е. миф его интересует как одна из существенных коститутивных позиций общей системы художественной и жизненной артикуляций, а также как один из способов интеллектуальной интервенции в опытные контексты. Другими словами: миф как фундамент артистических проектов, и как основополагающее условие культурных модуляций. «Технология» мифа, в данном случае, не отделяется от «онтологии» мифа, а сама обособленность — миф — выступает подчас как связующая скрепа мыслительных / жизненных циркуляций, либо — как «культурный стандарт», макет и матрица.
Прежде всего, миф противопоставляется истории — «исторической хроники». Темпорально-топографическая разъединенность мифа и истории делает практически невозможным редукцию одной системы в другую Миф, с точки зрения Р. Вагнера, — «начало и конец истории». Разумеется, симпатии композитора — на стороне мифа: рыцарский роман, легенда, сказание, притязания христианской культуры (европейской культуры) на универсальность им отвергаются. Схваченное в модусе историчности не может, поэтому, служить фундаментом — «вечной основой» — беспрерывных трансформация, происходящих на поверхности жизни. Таковым может быть только миф — реализованная народность, фиксированная коммунаторность, синоним и принцип единения человеческих индивидуумов. В мифе, по Вагнеру, представлена «обобщенная человечность». В третьей части работы «Опера и драма» композитор говорит, что не мелкая и всегда изменчивая, совершенно ненадежная и абсолютно случайная современная человечность, но именно обобщенная человечность привела его к мифу. Как и в многих других случаях, в поисках идеала композитор обращается к античности: именно там он находит «вожделенную» обобщенную человечность (уточним, обобщенную «древнегреческую человечность») в актах представления аттической трагедии. И эта же самая обобщенная человечность, как признается Вагнер, привела его к родной немецкой старине и, прежде всего, к мифу о Зигфриде.
Таким образом, миф — это презентация истины естественного человека вообще. Иначе говоря, в мифе Р. Вагнер увидел уникальную ситуацию: фиксацию полноты истинной сущности человека как такового, той сущности, которая действует «везде и всегда», проявляясь в разнообразных исторических ситуациях по разному. В работе «Музыка будущего» он пишет: «Я счел необходимым в качестве идеального поэтического материала указать на мифы, на возникшее в стародавние времена безымянное народное творчество, к которому снова и снова возвращаются великие поэты культурных периодов; в мифах почти полностью исчезает условная, объяснимая только абстрактным разумом форма человеческих отношений, зато в них с неподражаемой конкретностью показано только вечно понятное, чисто человеческое, именно это и придает каждому подлинному мифу легко отличимый индивидуальный характер» 1. Поэтому-то мифологическое столь притягательно: в ней каждый обретает свою подлинность, а миф — общенароден и по форме представления, и по онтологическим характеристикам.
Но так же и драма: «Драматическое действие… является веткой с древа жизни». Эта «ветка», «став чем-то отличным от жизни, делает наглядным для жизни ее собственную сущность, поднимает бессознательное в ней до сознания». 2 Отсюда — необходимость совмещения мифа и драмы. Вернее, и миф и драма, для Р. Вагнера, — различные аспекты одного и того же. Существующая же практика разнесения — либо умозрительная спекуляция, либо — признак ущербности и неправоты, как то имеет место, например, в современных композитору художественных манифестация и, в частности, в жанре оперы. Музыкальная драма — произведение искусства будущего — должно, по мысли Р. Вагнера, и может состояться только на почве мифа.
Следовательно, принципиальное значение имеет то, что кладется в качестве «литературной» основы — нарративная последовательность и поэтический текст: «…сказочный характер сюжета дает и для поэтического текста то существенное преимущество, что несложная внешняя связь действия легко схватывается и поэтому не приходится задерживаться на внешнем объеянении событий и можно отвести почти весь стихотворный текст показу внутренних мотивов действия, тех внутренних душевных мотивов, которые одни и должны объяснить нам неизбежность данного действия именно тем, что мы сами в глубине сердца сочувствует этим мотивам». 3 Именно мифологическое повествования в музыкальной драме, кроме того, необходимо еще и потому, что рассудок и чувство синтезируются в фантазии художника, которая приводит к чуду; и это чудо в драме есть не что иное, как ее мифология.
Вагнер уверен, что подлинное художественное произведение воспроизводит всю полноту естественной жизни, и именно поэтому оно — всегда произведение мифологическое. Сюжет такого произведения должен презентировать общность. В нем не может идти речь о случайных бытовых мелочах повседневности, но о предельной человечности как сущности. «…для либретто к «Тангейзеру» и для всех моих следующих замыслов я раз навсегда отказался от сюжетов из области истории и перешла к сюжетам из области саги… У саги, какому бы времени и народу она ни принадлежала, есть то преимущество, что надо схватить только чисто человеческое содержание ее времени и ее народа и передать это содержание в ей одной свойственной, чрезвычайно выразительной, а потому легко понятной форме».4
Несомненно, Р. Вагнер артикулировал многие существенные аспекты мифологического пространства и мифологического сознания. И это очень ценно в теоретическом отношении. Но едва ли менее интересно проследить за «мифологической техникой» Вагнера-композитора, т. е. каким образом он продуцирует миф в пространство художественной манифестацию, разворачивая сам жест артистического выражения в мифологическую артикуляцию. Почти все вагнеровские оперы (за исключением первых трех) написаны на мифологические, либо тяготеющие к мифологии, сюжеты. При этом для разработки либретто и написания поэтического текста Р. Вагнер не опирался на какой-то один литературный источник, какую-то одно версию, получившую когда-либо фиксацию. Композитор использовал целые нарративные массивы, мифологически-легендарные комплексы, «монтируя» свою версию из разнообразных вариация. Он, как то обычно говорят, «творчески перерабатывал» первичный сюжетный материал. По сути дела Р. Вагнер предлагал свои версии тех или иных повествовательных конструкций, зачастую существенно отклоняясь — в силу тех или иных причин — от первоисточников.
Сюжеты вагнеровских опер — именно «версии мифа», а не просто изложение уже утвержденного в традиции. Но не таковы ли и оперативные принципы актуализации мифа!? Фиктивность многих вагнеровских повествований — сюжеты «Нюрнбергских Мейстерзингеров», «Парсифаля», «Лоэнгрина» и пр. сконструированы самим композиторов, никаких прототипов ни литературных, ни мифологических они, по сути дела, не имеют — при продуцировании в контекст художественного представления оборачивается как раз мифологической подлинностью. Перед нами — «в самом деле» миф, хотя и сознательно смоделированный, но по «настоящему рецепту», а потому вполне может как слыть, так и быть аутентичным.
Большинство мифологических комплексов до нас дошли «культурно обработанными». Нагляднее всего это можно проиллюстрировать на примере мифологии античной. То, что мы знаем из «легенд и мифов Древней Греции» — переработанный в иной размерности материал. Это Р. Вагнер прекрасно понимал, говоря что в эпоху расцвета древнегреческой трагедии сакральная сфера уже не имела особого веса, а сам миф уже воспринимался в большей степени как «культурный генофонд» (или «культурный код»). Сам композитор поступает точно также: он как раз и переводит мифологичность в историчность (или культурность). Здесь дело даже не в утопичности его проекта «произведения искусства будущего», который на всю вагнеровскую теорию мифа отбрасывает тень. Но в самой интенции: мифологичность, сам миф «спасаются» произведением искусства. А произведение искусства, как таковое, претендует на роль тотального мифологического конститутива, покрывающего и поддерживающего все мыслимые и немыслимые пространства. Причем, все «несогласное» с ним — отлучается и выбрасывается в зону негативности.
В итоге получается, что Р. Вагнером реабилитируется не миф, но художественный проект. Многие поколения европейцев знакомились с древнегреческой мифологией по снимкам с аполлодоровской «Мифологической библиотеке» — источнике, весьма отстоящем от аутентичности прототипов, — наивно полагая, что это-то и есть древнегреческая мифология. Любопытно, что практически по той же схематике действует и Р. Вагнер в «Кольце Нибелунга», ставшем в последующем почти что синонимом немецкой мифологии. С этой точки зрения композитор — творец германского мифа. Но на самом деле — лишь ее транслятор, популяризатор, проводник в пространство именно культурное и историческое.
(Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ. Грант № 99-03-19877)
Примечания
1 Р. Вагнер. Избранные работы. М., 1978. С. 510.
2 Там же.
3 Там же. С. 457.
4 Там же. С. 345.
Марина Малкиель. Рихард Вагнер и его оперы на сцене Императорской русской оперы (Мариинского театра)
В биографии Рихарда Вагнера, дающей завидный материал для увлекательного романа, тема России, Петербурга звучит одним из важных лейтмотивов.
В северной российской столице Вагнера приняли не сразу и неоднозначно.
Имя Вагнера появляется на орбите музыкально-художественной жизни Петербурга в 1841 году публикацией его статьи "Об увертюре". И хотя, начиная с 50-х годов, музыка немецкого композитора, уже заявившего о себе созданием "Риенци", "Летучего голландца", "Тангейзера" и "Лоэнгрина", все чаще звучит в Петербурге и Павловске в симфонических концертах, внимание столичной музыкальной общественности привлекает не столько Вагнер-композитор, сколько Вагнер-эстетик, теоретик искусства.
На первой волне вагнеризма в России — В. Одоевский, братья В. и Д. Стасовы и особенно А. Серов. Пройдут годы, и Серов станет самым пламенным российским вагнерианцем, безоговорочно уверовавшим в весьма противоречивые художественно-эстетические идеалы своего кумира. Для Серова Вагнер — “прямой продолжатель всего превосходного, что до сих пор существовало в драматической музыке”, а “вагнеровы произведения... стоят на самом высшем месте”,.. “чему примеров и не на оперной сцене было не так чтобы очень много. Пример этому разве только что в Шекспире.”
В начале же 50-х годов Серов оценивает Вагнера иначе. Он совсем не в восторге от "Тангейзера" и "Лоэнгрина", которые ему представляются не более, чем “карикатурным преувеличением стиля "Эврианты"” Вебера, а общее впечатление от музыки Вагнера для него — “несносная скука и какое-то мучительное чувство "неудовлетворения"”. В одном из писем к Стасову, тогда идейному единомышленнику Серова, читаем следующий пассаж, посвященный Вагнеру: “Он человек страшно умный — многие вещи в музыке понимающий совершенно наперекор общему мнению. /.../ Но при всем этом хорошем,.. он не туда клонит, куда следует, и — или чересчур хватил a priori... или просто заврался, желая теоретически "оправдать" свои неудачные практические стремления”.
С середины 50-х годов Серов постепенно входит во вкус вагнеровской музыки, подпадает под неодолимое воздействие чар Вагнера-композитора ("нашего идола", по выражению Серова). Одним из первых в России он приобретает клавиры “Летучего голландца”, “Тангейзера”, “Лоэнгрина” и не только сам тщательно их штудирует, но и настоятельно рекомендует заняться тем же своим друзьям и коллегам-музыкантам - Даргомыжскому, Балакиреву, Кюи, Стасову. Однако благие намерения Серова остаются безуспешными: оперно-эстетические позиции Даргомыжского и композиторов “Могучей кучки” несовместимы с вагнеровскими.
Даргомыжский, “просмотрев только пол-оперы” ("Тангейзера" — М. М.), возвращает Серову клавир со словами: “Правда правдой, а ведь надобен и вкус”. Балакирев, пожалуй, один из наиболее твердых и яростных антивагнерианцев, предварительно отряхнув “фунта два пыли” с “заброшенной” партитуры "Лоэнгрина", — в чем признается, откровенно бравируя, — с насмешливой ироничностью просматривает Вступление к опере, невыразимо скучает от дуэта Эльзы и Лоэнгрина и, наконец, приходит к пониманию, “как нужно делать оперу”, (не предоставив, однако, ни современникам, ни потомкам возможности судить о его оперных открытиях).
Что касается Стасова, то в конце 50-х годов он сворачивает в сторону с тропы вагнеризма, позднее с восторгом принимая единственно "Нюрнбергских мейстерзингеров". В авторе же "Тангейзера" и "Лоэнгрина" Стасов видит композитора, который, “не имея ни малейшей способности к употреблению человеческих голосов,.. к речитативу, хочет основать оперу на речитативе и на каждом шагу доказывает отсутствие творческого дара и художественного вкуса и такта”. По убеждению Стасова, Вагнер — композитор, не оперный, а “чисто сочинитель оркестрный, симфонический... Лучшее у него — музыкальные оркестрные картинки...”
Замечу, что именно полемика вокруг Вагнера, разгоревшаяся между Серовым и "кучкистами", развела некогда творческие единомышленников по непримиримо враждующим лагерям. Защита Вагнера отождествлялась многими радикально мыслящим” представителями русской культуры с изменой идеалам отечественного музыкального искусства, олицетворяемого М. И. Глинкой: вагнеризм, с точки зрения "кучкистов", означал антиглинкианство.
В начале 60-х годов вагнеризм в России постепенно начинает входить в моду. О Вагнере ожесточенно спорят, им все более интересуются, наконец, его желают видеть в Петербурге в качестве дирижера, интерпретатора собственных сочинений.
Инициатива приглашения немецкого музыканта в Петербург в руках Серова, который для осуществления этого предприятия вступает в тесные контакты с дирекцией Императорских театров и Филармонического общества. В этом Серова поддерживают известный виолончелист-любитель и меценат граф М. Виельгорский, пианистка В. Муханова-Калерджи, в трудных обстоятельствах не раз помогавшая Вагнеру, и другие деятели русской культуры.
Вагнер, вопреки острому денежному дефициту, встречает приглашение в гордой позе, со свойственным ему одному величавым достоинством и, как бы делая одолжение, почти услугу российской стороне и самому Серову, отвечает снисходительно: “Я принимаю приглашение в Петербург, ибо подумал о Вашем стремлении завоевать для меня славу у Вас и о возможности разделить с Вами прекрасный успех, сделав Вас соучастником моего петербургского предприятия”.
В феврале 1863 года гость прибывает в Петербург и останавливается в немецком пансионе на Невском проспекте (Невский пр., 38). Сюда с визитами к Вагнеру не раз является Серов. Это не первая их встреча. Еще в 1859 году Серов специально приезжает к Вагнеру в Люцерн, чтобы ближе познакомиться с выдающимся композитором. Спустя годы на страницах "Мемуаров" Вагнер с редкой для себя благосклонностью выскажется о русском музыканте, как о человеке “оригинальном, интеллигентном”, заслужившем его “уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью”...
В Петербурге намечено три выступления немецкого музыканта. Но Вагнер дает шесть концертов, вдвое превысив число запланированных. В его распоряжении оркестр Императорской русской (Мариинского театра) и итальянской оперы — всего 120 человек, — которым маэстро остался чрезвычайно доволен. Обширные программы концертов наряду с симфониями Бетховена (Третьей, Пятой, Шестой, Седьмой, Восьмой) включают музыку самого Вагнера — увертюру "Фауст", сцены и отрывки из опер "Летучий голландец", "Тангейзер", "Лоэнгрин", а также фрагменты музыкальных драм "Валькирии", "Зигфрида", "Тристана и Изольды", "Нюрнбергских мейстерзингеров". Именно в Петербурге Вагнер впервые публично представляет переработанные им для концертного исполнения "Vorspiel" и "Liebestod" из "Тристана и Изольды".
Концерты эти становятся событиями историческими. Едва ли преувеличивал Серов, утверждая, что “прием знаменитому гостю был сделан блестящий. После каждой симфонии (Бетховена),.. после каждого отрывка из произведений самого Вагнера громовые аплодисменты раздавались неумолкаемо”.
Среди публики в зале Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии) и Большого театра (сегодня на его месте здание консерватории) вся петербургская музыкально-художественная элита — Балакирев, Стасов, Кюи, Одоевский, Виельгорский, Серов, братья Рубинштейны, Ларош, Чайковский и другие. Их впечатления, как и отзывы прессы весьма разноречивы. Лишь немногие тогда могли осознать и принять новаторство Вагнера-композитора, создателя нового типа музыкальной драмы. Но по сути все — и сторонники, и противники Вагнера — единодушно сошлись в признании его выдающегося таланта и мастерства дирижера, помимо непревзойденной интерпретации, поразившего слушателей необычной в то время манерой дирижировать: стоя лицом к оркестру и спиной к публике. Спустя шестнадцать лет, в 1879 году, Чайковский, размышляя о дирижерском искусстве, в котором, по его убеждению, непременно должна присутствовать магнетическая сила, подчиняющая музыкантов оркестра “до того, что все они делаются как бы одной душой, одним колоссальным инструментом”, называет единственного дирижера, отвечающего его идеальным представлениям, способного служить неким эталоном: “Впрочем, во всей своей жизни я видел только одного такого капельмейстера: — это был Вагнер, когда в 1863 году он приезжал в Петербург давать концерты, причем продирижировал несколько симфоний Бетховена. Кто не слышал этих симфоний в исполнении Вагнера, тот не вполне их оценил и не вполне постигнет все их недосягаемое величие”.
В Петербурге Вагнера принимают в лучших традициях российского гостеприимства. В его честь Виельгорский дает торжественный обед, на котором немецкий музыкант встречается с А.Рубинштейном. Вагнер присутствует на концерте Бесплатной музыкальной школы, в котором под управлением Балакирева исполняется, в частности, "Камаринская" Глинки. Маэстро положительно оценивает искусство Балакирева-дирижера и, должно быть, немного пополняет свои, не слишком богатые, познания в области русской музыки: за исключением "Камаринской", они включали в себя Русский гимн А. Львова, специально разученный и исполненный Вагнером в Петербурге, романсы и отдельные фортепианные пьесы А. Рубинштейна, "Юдифь" Серова.
Помимо сенсационного успеха у публики, в целом доброжелательного приема у коллег-музыкантов и критики, Вагнер встретил в Петербурге покровительственное отношение высших кругов во главе с великой княгиней Еленой Павловной, заботившейся о судьбах русского музыкального искусства. Приглашенный царствующей особой, Вагнер читал в великосветском салоне Елены Павловны свои тексты "Кольца нибелунга" и "Нюрнбергских мейстерзингеров". Благосклонность к немецкому музыканту "высших сфер" не помешала, однако, Третьему отделению завести на Вагнера досье и установить за ним слежку: бывший революционер, участник дрезденских беспорядков вызывал большое беспокойство.
Из России Вагнер привез 4000 талеров — сумму немалую, однако, меньше той, о которой помышлял. На эти деньги он обставляет виллу в Пенцинге, нанимает слуг, садовника и прелестную горничную. Но, что гораздо важнее: Вагнер увез с собой радужные надежды и далеко идущие планы. Он рассчитывает возвратиться в Россию и, ожидая помощи коронованного мецената в лице великой княгини, намеревается развернуть широкую дирижерскую, композиторскую и организаторскую деятельность. И хотя честолюбивым мечтаниям не суждено было воплотиться в реальность, Вагнер, предаваясь воспоминаниям о России, находил в них то, что возвеличивало его в собственных глазах и давало повод к столь необходимому ему самоутверждению. Ведь Вагнер едва ли сомневался, когда в "Мемуарах" заявлял, что именно благодаря его таланту не только петербургская публика, но и оркестранты — о чем не страдающий избытком скромности дирижер будто бы слышал сам! — смогли узнать, “что такое музыка”.
В 1864 году судьба неожиданно делает Вагнеру подарок: взошедший на трон молодой баварский король Людвиг II, очарованный вагнеровским романтизмом, покоренный миром его идей, призывает высокочтимого им маэстро с намерением всячески способствовать осуществлению его грандиозных планов. Фактически восторженный монарх делает Вагнера своим фаворитом.
"Летучий голландец", не имевший постоянного пристанища, спасавшийся бегством от постоянно преследующих его кредиторов, негодующий и страдающий от травли прессой, Вагнер в один миг получил все: впервые в жизни он обрел творческую и материальную независимость. Из личных средств мечтательного короля были погашены все многочисленные долги композитора, содержался его роскошный дорогостоящий дом. Людвиг помог Вагнеру осуществить казавшуюся почти призрачной мечту о постановке "Тристана": 10 июня 1865 года состоялась историческая премьера оперы в Мюнхенском театре. Наконец, при содействии короля воплощается еще одна заветная мечта композитора — он получает возможность построить собственный театр в Байройте.
В 1866 году "Лоэнгрину" рукоплещет задающий тон в Европе Париж. Имя Вагнера отныне не сходит со страниц прессы. Лучи его славы достигают России: в Петербурге решают ставить Вагнера, избрав для знакомства оперу "Лоэнгрин".
На сцену Императорской русской оперы "Лоэнгрину" пришлось пробиваться с немалыми усилиями. Два года чиновники от искусства глубокомысленно обсуждали возможность и целесообразность постановки. Одна сторона равнодушно настаивала включить вагнеровскую оперу в репертуарный план Мариинского театра, другая — лениво, но неотступно отвергала это предложение. Приводимая аргументация не допускала возражений. Дирекция Императорских театров была не столь богата, чтобы на должном уровне представить новый спектакль. К тому же существовали твердые обязательства в сезоне 1866/67 годов поставить некую итальянскую оперу (это была "Флорина" К.Педротти — ныне богом и людьми забытое творение забытого сочинителя, которое сошло со сцены уже после третьего представления!) Кроме того, возникали серьезные опасения относительно неуспеха оперы Вагнера у петербургской публики. Наконец, имелся и самый весомый довод, выраженный в сакраментальной фразе: "Высочайшего соизволения не последовало". И все же в конце сезона 1867/68 годов благодаря хорошо продуманному маневру, мастерски проведенному вновь назначенным директором Императорских театров С. Гедеоновым, "Лоэнгрин" был принят к постановке.
Подготовкой спектакля руководил фанатичный ревнитель вагнеровской музыки Серов — полномочный представитель маэстро в Санкт-Петербурге. Работа велась в течение четырех месяцев — методично, тщательно, с особым старанием. Из Германии были выписаны костюмы и мизансцены. Трудно сказать, в какой мере воспользовался опытом немецких коллег режиссер петербургского "Лоэнгрина" Илья Сетов, более известный публике как певец. Ведь, по собственному гордому признанию постановщика, он “не принимал ни одного мизансцена к операм, которые... ставил”. Преисполненному стремления к творческой самостоятельности, изобретательному Сетову, по-видимому, не удалось избежать режиссерской рутины. В спектакле встречались отдельные несообразности и промахи. Так, например, Лоэнгрин появлялся в раковине вместо ладьи, в то время как приветствующий героя хор располагался спиною к светлому рыцарю. И тем не менее режиссер не ударил в грязь лицом. “Распределение и движение групп, входы и выходы, шествия, марши — все слажено превосходно”, — писала вполне удовлетворенная его работой критика. По всей вероятности, на сцене был обеспечен некий порядок, что в ту пору считалось едва ли не высшим критерием режиссерского мастерства.
Декорации к спектаклю, выполненные в живописно-реалистической манере, с подробной проработкой деталей и с соблюдением почти что археологической точности, создали замечательные художники русской сцены — И. Андреев, М. Бочаров и М. Шишков.
Дирижером спектакля был назначен главный капельмейстер Императорской русской оперы Константин Лядов, в то время уже пришедший к финишу творческой карьеры. И потому основной груз подготовительной работы лег на плечи молодого дирижера, помощника Лядова, Эдуарда Направника. Об этом факте своей биографии он впоследствии запишет: “Ввиду больших технических трудностей при разучивании Лоэнгрина мне, как знающему основательно весь первый период Вагнера, поручили приготовить всю черновую работу с солистами и хором”. В таком решении был немалый резон. На эту "роль" лучшей кандидатуры, чем Направник, тогда в Петербурге нельзя было и придумать. И причина заключалась не только в том, что главный капельмейстер Императорской русской оперы оказался уже попросту неспособен осуществить музыкальное руководство столь сложным спектаклем, как "Лоэнгрин": чешский музыкант имел неплохое представление о постановках вагнеровских опер в пражском Сословном театре и к тому же хорошо знал партитуру "Лоэнгрина".
Заглавную партию в спектакле исполнял ведущий солист Императорской русской оперы Федор Никольский. Певец-самородок, обладающий уникальным голосом, “тенор-алмаз, равного которому нет в настоящее время ни на одной сцене в мире” (Серов), он, однако, был лишен драматического дарования. С блеском и невероятной легкостью преодолев все вокальные сложности партии, творя голосом поистине чудеса, Лоэнгрин - Никольский выглядел на сцене беспомощным и ходульным.
Партнершей Никольского выступила певица Юлия Платонова, создавшая возвышенно-одухотворенный, трогательный образ Эльзы. Правда, в интерпретации этой выдающейся, а в известном смысле, и образцовой исполнительницы русского оперного репертуара брабантская принцесса обрела скорее черты соотечественницы певицы. Не случайно Эльза Платоновой одному из рецензентов живо напомнила Катерину из популярной тогда пьесы А.Островского "Гроза", ставшую воплощением хрестоматийно классического типа русского характера. Однако такая трактовка певицей образа своей героини не только не диссонировала с общим решением спектакля, но и в полной мере отвечала его художественной идее.
16 октября 1868 года "Лоэнгрин", наконец, увидел свет рампы Мариинского театра. Резюмируя впечатления от спектакля, Серов писал: “Поставлена опера отлично хорошо. С археологической стороны у нас много вышло даже лучше и вернее, чем на немецких сценах (кроме сцены Мюнхена...); костюмы весьма живописны. Из декораций вообще очень хороших особенно замечательна вторая (мрачный кремль Антверпенский). Утренний рассвет прелестен естественностью. Но приезд и отъезд Лоэнгрина на немецких сценах выглядит гораздо лучше. Общая картинность в разные моменты расписана отчетливее, чего прежде у нас почти не случалось”. От проницательного взгляда Серова не ускользнуло и то специфическое отличие петербургской постановки, в котором нашла свое выражение реалистическая природа русского оперного театра. Это, верно подмеченное критиком, — "отсутствие зыбкой туманности (vageu), составляющей сущность мистической и легендарной концепции германской поэзии". Петербургский Лоэнгрин прочно стоял на грешной земле и, казалось, совершенно не стремился в заоблачную даль Грааля, "...контуры стали слишком определенными, слишком ясными, а это чрезмерно прозаический реализм, тогда как у Вагнера торжествует "шиллеровский идеализм", — подытожит свои художественные наблюдения Серов.
Спектакль вызвал оживленную полемику. В разноголосом хоре критики звучали высказывания от восхищенно-восторженных до откровенно издевательских. Последние принадлежали "кучкистам", чье резкое неприятие Вагнера Римский-Корсаков позже назовет "передовым мракобесием".
У Балакирева после премьеры "Лоэнгрина" “трещала голова, как будто” он “продумывал миры (выражение Серова — М.М.) и всю ночь видел во сне гуся” (т.е. лебедя — М.М.; из письма Стасову). Из этого "квинтета" в ту пору выделялись лишь голоса Бородина и Мусоргского. Последний в письме Балакиреву выскажется достаточно определенно: “Мы Вагнера ругаем, а Вагнер силен и силен тем, что щупает искусство и теребит его. Будь он талантливее, он бы не то сделал”. Объективно осмысливая культурно-художественную ситуацию 60-х годов прошлого века. Римский-Корсаков спустя десятилетия откровенно признается: “ Лоэнгрину было выражено с нашей стороны полное презрение, а со стороны Даргомыжского неистощимый запас юмора, насмешек и ядовитых придирок. А в это самое время "Нибелунги" были уже наполовину готовы и сочинены были "Нюрнбергские певцы", в которых Вагнер опытной и смелой рукой пробивал дорогу искусству куда далее вперед по сравнению с нами, русскими передовиками!”
Как никакому другому вагнеровскому творению, "Лоэнгрину" в Петербурге светила счастливая звезда. Он стал здесь самой репертуарной оперой Вагнера и, пережив множество премьер и возобновлении, с некоторыми перерывами удержался на Мариинской сцене до 90-х годов нашего столетия. Пророческими оказались слова известного русского музыкального критика Г.Лароша: “не одно поколение здесь “помчалось за ладьею, влекомою лебедем”..
"Лоэнгрин" открыл путь в Императорскую русскую оперу и другим вагнеровским творениям. Спустя шесть лет после его премьеры, 13 декабря 1874 года, в российской столице впервые был представлен Тангейзер.
Своим успехом у петербургской публики "Тангейзер" во многом был обязан "Лоэнгрину". В работе над первой вагнеровской оперой создатели и участники спектакля приобрели немалый практический опыт. От представления к представлению повышалось качество исполнения, а параллельно с этим — у музыкантов и у любителей оперы росло понимание этого вовсе не легкого для восприятия феномена музыкально-художественной культуры. В русле, проложенном постановкой "Лоэнгрина", была осуществлена и постановка "Тангейзера". Здесь сохранились стилистика и поэтика первого спектакля, привораживающего современников жизнеподобием своих исторических и географических реалий. “Декорация (2-я картина — М.М.), — писал восторженный рецензент Тангейзера, — исполнена превосходно и до того верна, что человек, бывавший в Вартбурге, может начать сомневаться, не перенесли ли его на ковре-самолете в одну секунду в Эйзенах”. Над новой постановкой работали те же художники (И.Андреев, М.Бочаров, М.Шишков). Главные партии пели те же артисты (Ф.Никольский — Тангейзер, Ю.Платонова — Елизавета).
За дирижерским пультом стоял Э.Направник, высокий профессионализм которого не вызывал сомнений даже у его противников. Именно Направник, который, сменив Лядова, с 1869 года как главный (а в первые десять лет и как единственный!) дирижер без малого полвека будет царствовать в Императорском театре, сыграет решающую роль в судьбе опер Вагнера на Мариинской сцене. "Тангейзер" — если не учитывать возобновленной в январе 1873 года постановки "Лоэнгрина" — станет для Направника, по сути, первым "вагнеровским" спектаклем, в котором бразды правления изначально будет держать в своих руках главный капельмейстер. “Оркестр шел бесподобно до такой степени, что Направник был вызван и после увертюры, и после окончания оперы. Хоры были также очень хороши”, — подчеркивал в отзыве на премьеру "Тангейзера" один критик и, словно подытоживая эти наблюдения, другой обозреватель заключал: “Редко, где оперы разучиваются так тщательно, как у нас. Направник не упускает из виду малейших оттенков”. — Отныне великолепные хор и оркестр Мариинского театра на десятилетия станут подлинным украшением всех постановок вагнеровских опер на этой сцене.
Петербургский "Тангейзер" содержал в себе и поистине художественное открытие — сцену "Грот Венеры" в хореографии М.Петипа. Учитывая ремарки композитора, но при этом дав простор своей богатейшей творческой фантазии, балетмейстер создал волнующую хореографическую поэму о неодолимо властной стихии чувственности. “И на этот раз, — утверждал рецензент, — Петипа еще раз доказал, что он большой мастер своего дела: живописные группы наяд, сатиров, соблазнительные пляски вакханок невольно переносят нас в царство Венеры, в царство страсти и упоения. Петипа вполне усвоил мысль Вагнера, которому, вероятно, нигде при постановке своей оперы не приходилось видеть подобного царства Венеры, особенно выдающегося на нашей сцене при исполнении лучшими солистами нашего балета”.
Именно "Тангейзером" с его захватывающим миром цветущей романтической фантазии Вагнер окончательно завоевал сердца первых петербургских "вагнерианцев". “С появлением "Тангейзера", — подтвердит Направник, — публика, хотя и медленно начала увлекаться его (Вагнера — М.М.) реформами. Образовалось два лагеря: поклонников и врагов композитора. Победа осталась за первыми и навсегда”.
Вслед за "Лоэнгрином" и "Тангейзером" на Мариинскую сцену пришел "Риенци", которому, увы, не удалось разделить счастливой судьбы своих предшественников. Вопреки ожиданиям и в нарушение, казалось бы, объективного положения вещей, монументально-зрелищный "Риенци", ближайший "родственник" столь любимых в Петербурге мейерберовских "Гугенотов", поставленный к тому же на широкую ногу — как то в идеале и подобало в Императорском театре — был встречен без всякого энтузиазма. Весьма сухо оценит его и руководивший постановкой Направник:
“Опера "Риенци", написанная в подражание большой французской опере, была поставлена у нас... не из-за своих достоинств, а по приказанию./.../ В ней будущего вагнеровского стиля мало, а только проблески”. Выдержав в сезоне 1879/80 годов всего лишь пять представлений, "Риенци" сойдет с петербургской сцены почти на полвека.
Подлинное открытие Петербургом Вагнера произойдет в 1889 году. В конце февраля-марте, в дни Великого поста, когда на сценах императорских театров жизнь временно замирала, пражский антрепренер А. Пойман привозит в столицу передвижную немецкую труппу, чтобы — как прозаически-деловито обронит современник — “на немецком языке познакомить петербуржцев с четырьмя операми "Кольца Нибелунгов" Вагнера”. Для этих спектаклей Мариинский театр предоставляет гастролерам свою сцену, а вместе с тем — свои хор и оркестр.
В течение месяца — с 27 февраля по 21 марта — в Петербурге звучал Вагнер. Четырежды была дана тетралогия, а помимо того ежедневно в театре проводились репетиции. К.Мук, один из прославленной плеяды вагнеровских дирижеров, впоследствии многократно участвовавший в байройтских фестивалях, шестикратно репетировал с Мариинским оркестром каждый спектакль — цифра, совершенно незначительная, учитывая мировую практику постановок опер Вагнера, а также тот немаловажный факт, что петербургские музыканты осваивали сложнейшую партитуру тетралогии впервые. Отнюдь не беспристрастный "летописец" Римский-Корсаков в этом случае справедливо заметит: “... превосходный капельмейстер разучивал Вагнера тщательно, наш оркестр старался от всей души и удивлял Мука своей способностью быстро схватывать и усваивать все то, чего он требовал”. Слова Римского-Корсакова дополнил и сын Э.Направника: “Немецкий капельмейстер Мук... неоднократно выражал отцу свое восторженное удивление по поводу оркестра и давал понять, что он никак не ожидал встретить что-нибудь подобное в варварской России”. Еще дальше в своих восторгах пошел знавший толк в исполнительском искусстве импресарио, утверждавший, что интерпретация вагнеровских партитур в Петербурге ничуть не уступала байройтской, а что касается "русского хора", то подобного ему он не слышал нигде и никогда.
Интерес к Вагнеру в Петербурге был огромен, всеобъемлющ и возрастал день ото дня. Репетиции в Мариинском превратились в своего рода штудии позднего творчества композитора, неустанно, с поразительной регулярностью посещаемые музыкальной элитой столицы. Здесь ежедневно с партитурой в руках появлялся признанный мэтр петербургской композиторской школы Римский -Корсаков. И рядом с ним также экипированный партитурами располагался выпестованный мастером любимый ученик .А.Глазунов. Погрузившись в кресло партера, весь превращенный в слух, постигал нового и неизвестного для себя Вагнера маститый маэстро Э.Направник...
Объездившая с "Кольцом" весь мир, труппа Ноймана представила Петербургу "байройтскую традицию" в ее живом воплощении. Разжигая фантазию и будя интерес публики, афиша обещала зрелище, необычное для России своей аутентичностью: “Декорации и сценические приспособления, составляющие знаменитую оригинальную постановку в Байройте, превосходно восстановлены придворным художником Буркхардтом в Вене; машины под руководством К.Лаутеншлегера, главного машиниста Королевского придворного театра в Мюнхене”. Добавим к этому имя уже упомянутого выше К.Мука, проведшего все спектакли, в которых участвовали многие первоклассные немецкие артисты, известные своим выступлением в премьерной-постановке "Парсифаля" в Байройте.
Не менее замечательным в этих представлениях явилось и то, что в них были сохранены и все, казалось бы, самые мельчайшие атрибуты вагнеровских постановок, воссоздавшие дух Байройта, его художественную атмосферу, саму ритуальную сторону байройтских действ, рождающих у слушателя состояние поистине мистического восторга. “Эта верность Байройту, — вспоминал позже А.Бенуа, — сказывалась даже в том, что начало каждого действия возвещалось фанфарами со сцены и в фойе и что театр погружался в темноту перед тем, чтобы раздвинулся занавес”.
Художественный резонанс, вызванный в Петербурге гастролями немецкой труппы, оказался непредсказуемо мощным, диапазон оценок, суждений, мнений — чрезвычайно широким. Однако при всей полярности позиций в отношении к вагнеровской музыке "русский отряд" вагнерианцев значительно увеличился и окреп. Разумеется, здесь не обошлось и без того нездорового ажиотажа, который, увы, нередко сопровождает и истинно великие явления искусства. Несомненно, сказалось и действие всеискушающей моды. Однако, представление цикла "Кольца" в Петербурге имело и другую, чрезвычайно важную сторону. Шестнадцать вечеров, в продолжение которых Вагнер безраздельно царил на сцене Императорской русской оперы, явились крупнейшим событием музыкально-художественной жизни столицы конца прошлого столетия, идейно-эстетические последствия которого, возможно, не изучены и не осмыслены и поныне.
Люди разных поколений, разных эстетических вкусов и художественных пристрастий, люди различной ментальности, объединенные многомерным и противоречивым понятием "современники", непосредственно — и, может быть, впервые — испытали на себе неодолимое, стихийно-мощное воздействие вагнеровского гения. Встреча с этим творческим колоссом для большинства из тех, кому суждено было явиться свидетелем и соучастником чуда, творимого на Мариинской сцене в те мартовские дни, стала сильнейшим художественным переживанием, граничащим с откровением, а в иных случаях — с потрясением.
Всегда невозмутимо-спокойный Глазунов после представления "Зигфрида" с волнением напишет Чайковскому: “Должен признаться, что редко я бывал в таком восторге, как сегодня. Я просто себя не узнаю... Мы были с Николаем Андреевичем (Римским-Корсаковым - М.М.) просто в каком-то чаду. Я перестал ходить в гости — только и делал, что появлялся на репетициях. Изучил я вагнеровскую трилогию не хуже самого отчаянного немца-вагнериста и мечтаю о том, как бы ближе познакомиться с другими его операми”. А спустя некоторое время все еще переполненный впечатлениями от представлений "Кольца" Глазунов в письме московскому критику С.Кругликову не менее восторженно признается в том, что “Вагнера полюбил безотчетно, как женщину. Вагнер в нашем кружке (Беляевском — М.М.) в этот сезон был настоящей эпохой. Было время, когда я отрицал его, теперь же уверовал, как апостол Павел”, — высказывание, весьма многозначительное, если учесть, что оно исходит из уст художника, хотя и достаточно молодого, но взращенного на ядреных идейных хлебах кучкизма, известного своим откровенно-враждебным неприятием вагнеровского творчества.
"Поразить" — этот глагол становится едва ли не самым частым в эпистолярии марта 1889 года. Вагнер не только поражал, но и магнетически притягивал. Современники, независимо от их отношения к творцу музыкальной драмы, оказались у него в плену. Мир вагнеровскои музыки не отпускал, гипнотизировал, ибо здесь ошеломляло все: грандиозность и смелость замысла, дерзновенное своеобразие стиля — масштабы формы, виртуозная техника письма, неисчерпаемое богатство гармонического колорита и особенно ослепительное великолепие оркестра.
“Вагнеровский способ оркестровки поразил меня и Глазунова и с этих пор приемы Вагнера стали мало-помалу входить в наш оркестровый обиход, — со всей откровенностью сообщит Римский-Корсаков. — Первым применением его оркестровых приемов и усиленного (в духовом составе) оркестра была моя оркестровка польского из "Бориса Годунова", сделанная для концертного исполнения”.
Однако дело не только и не столько в том, что под непосредственным сильным впечатлением от гастрольных спектаклей "Кольца" Римский-Корсаков инструментует Полонез из "Бориса" и задумывает писать оперу "Млада", а Глазунов сочинит симфоническую фантазию "Море", которую посвятит Вагнеру. Гораздо важнее здесь заметить другое. Каждого, кто открыл тогда для себя новаторские вагнеровские творения, этот гений властно покорил неразгаданной тайной своего музыкально-художественного феномена, неотступно требуя ее разгадки, пробуждая смелую творческую мысль. И потому не одному поколению русских художников, уверовавших в нового пророка или отвергших казавшиеся сумасбродными идеи создателя музыкальной драмы, как и сами эти драмы, Вагнер послужил путеводной звездой в лабиринтах собственного творчества и в поисках новых путей в искусстве, став незаменимым ориентиром в самопознании и в критическом осмыслении культурно-художественных процессов современности.
Зерна, брошенные в петербургскую почву весной 1889 года, прорастут и дадут роскошные всходы спустя время. Об этом убедительно свидетельствует на страницах мемуаров причастный впоследствии к рождению "Кольца" на Мариинской сцене А.Бенуа, который, подобно многим своим современникам, в конце 80-х годов пережил “бешеный (или буйный) период... увлечения Вагнером. Возникло это увлечение как-то сразу, — вспоминал художник, — и под воздействием тех впечатлений, которые я получил от тех спектаклей в Мариинском театре, на которых я сподобился присутствовать во время Великого поста 1889 года. /.../
Когда же занавес в последний раз опустился после пожара Валгаллы в "Гибели богов", я чуть что не плакал, сознавая, что теперь я надолго окажусь лишенным тех потрясавших все мое существо наслаждений, которым я отдавался в течение четырех незабываемых вечеров моего первого знакомства с "Ring'ом".
/.../ по-настоящему восторг мой был вызываем только оркестром и (в меньшей степени) пением, но вовсе не зрелищем. Таковое было вполне доброкачественно с технической стороны и, может быть, оно вполне отвечало требованиям Вагнера.., но оно нисколько не соответствовало моим ожиданиям, о чем, казалось мне, так ясно и определенно говорит музыка. /.../ Дивно чувствовал Вагнер природу — и дремучий лес, в котором живет змей Фафнер, и прекрасную дикость рейнских берегов и т.д., и все же он мирился с тем, что по его заказу сочиняли профессиональные декораторы и что было выдержано в духе банального "академического романтизма".
Не более отрадное впечатление производили действующие лица. Слушать иных было приятно, но видеть их всех было тяжело. Разве не ужас эти "пивные бочки" с подвешенными бородищами и с рогатыми шлемами на головах? И это должно представлять Зигмунда, Гундига, Гунтера! Разве этот клоун с рыжим вихром на голове может сойти за бога огня Логе? Разве этих с перетянутыми талиями и с выпяченными бедрами дам можно принять за Фрейю, Зиглинду, Брунгильду, за дочерей Рейна? Тогда же я возмечтал создать идеальную вагнеровскую постановку”. — Замысел, реализовать который Бенуа представится возможность спустя более чем десятилетие.
Следующая знаменитая встреча Петербурга с Вагнером состоялась в 1898 году. Как и девять лет тому назад, в дни Великого поста — с 22 февраля по 27 марта — на сцене Мариинского театра вновь обосновались гастролеры: интернациональная оперная труппа Г. Парадиза, музыкальное руководство которой осуществлял выдающийся дирижер Г.Рихтер — убежденный приверженец Вагнера, музыкант из окружения маэстро, первый постановщик "Кольца".
Репертуарная афиша предлагала семь сочинений Вагнера: наряду с полюбившимися в Петербурге "Лоэнгрином" и "Тангейзером" и уже известными по гастролям 1889 года отдельными частями тетралогии — "Валькирией" и "Зигфридом", в столице были впервые представлены музыкальные драмы "Нюрнбергские мейстерзингеры, Тристан и Изольда, а также созданный композитором в начале 40-х годов романтический "Летучий голландец".
Исполнительский состав труппы отличался истинным великолепием творческих дарований. Тереза Мальтен — первая Кундри байройтской постановки 1882 года, знакомая петербуржцам по представлениям "Кольца". Популярные в русской столице знаменитые польские певцы — братья Эдвард и Ян Решке, к вокальному искусству которых питал слабость и государь Александр III. Гастролировавший в Петербурге в 1889 году превосходный австрийский тенор А.Вальнеффер и не менее замечательные оперные артисты Моран-Ольден, Олицка, Рейхман и другие. В этом созвездии блистала и удивительная певица, талантом и мастерством которой восхищались далеко за пределами Европы, — Фелия Литвин. Достойными партнерами первоклассных мастеров оперной сцены выступили блестяще зарекомендовавшие себя в этом амплуа хор и оркестр Мариинского театра.
Гастрольными спектаклями дирижировали: питомец листовской школы Б.Ставенгаген, равнодушно принятый критикой; ученик Г.Рихтера “молодой, но технически опытный капельмейстер” Ю.Прювер; наконец, сам Г.Рихтер, классическое мастерство которого получило самые восторженные оценки профессионалов и любителей музыки. “В его оркестре не пропадет ни одна нота и в то же время под его оркестр не утратится голос певца. Мелос вагнеровской музыки становится понятен, пленителен, временами прямо волшебен”, — писал о дирижерском искусстве Рихтера рецензент "Русской музыкальной газеты" в обзоре спектакля "Лоэнгрин".
Со своей стороны, прославленный маэстро также не упустил случая наградить комплиментами петербургских музыкантов. После завершившего выступления Рихтера в российской столице представления "Нюрнбергских мейстерзингеров", исполненного оркестром с трех репетиций, что один из критиков охарактеризовал как “tour-de-force, который можно было бы назвать совместным героизмом капельмейстера и оркестра”, взыскательный дирижер по свидетельству другого критика, “был немало удивлен” и, преисполненный восхищения, счел необходимым публично выразить свою благодарность музыкантам Мариинского театра. В день отъезда Рихтер передал на имя концертмейстера оркестра Императорской русской оперы письмо с просьбой огласить его в печати. В своем послании маэстро с нескрываемым восторгом признавался: “Будучи избалован венским и моим лондонским оркестрами, я приехал сюда с большими требованиями и ожиданиями, но на самом деле все эти ожидания были превзойдены. Я всегда буду с благодарностью вспоминать об артистическом рвении и превосходных качествах петербургского оркестра и надеюсь, что снова буду иметь честь и художественное наслаждение дирижировать корпорацией этих превосходных артистов...”
Вопреки тому, что в конце 90-х годов вагнеризм пустил в Петербурге уже достаточно глубокие корни, в кабинетах высокого театрального начальства байройтский гений так и оставался не признанным. Директор Императорских театров И.Всеволожский, по словам современника, попросту "терпеть не мог Вагнера". В унисон с ним был настроен и главный режиссер Мариинского театра Г.Кондратьев, который после первого представления "Тристана и Изольды" в своих дневниках-рапортах откровенно записал: “Опера скучна и длинна бесконечно... Есть чудные гениальные оазисы музыки, а промежутки, разделяющие их, — скучная томительная музыкальная пустыня. Начало любовного дуэта — это собачий лай под аккомпанемент егозящего оркестра и успокаивается только на скамье, где наступает мление”. Не испытывал симпатий к музыкальной драме и Э.Направник. Исполняя в концертах немало симфонических фрагментов поздних опер Вагнера, он, однако, оставался последовательным приверженцем "Лоэнгрина" и "Тангейзера". И все же, под влиянием все возрастающего интереса к творчеству Вагнера, дирекция Императорских театров, сделав над собой усилие, вынуждена была озаботиться новыми постановками его опер.
5 апреля 1899 года в Мариинском театре состоялась премьера первой русской постановки "Тристана и Изольды". Из всех вагнеровских музыкальных драм предпочтение не случайно было отдано этому сочинению. Впервые представленный в Петербурге и в России труппой Парадиза, с великолепной Ф.Литвин и Я.Решке в главных партиях, Тристан завоевал себе в русской столице немало поклонников. Завидную настойчивость и упорство в отношении этой оперы проявила и новая примадонна Мариинской сцены: Ф.Литвин, с которой дирекция Императорских театров наконец-то сочла благоразумным заключить контракт (как известно, всемирно прославленная певица была уроженкой Петербурга), поставила условием исполнение ею партии Изольды. Помимо этого немаловажную роль в судьбе вагнеровского творения на петербургской сцене, несомненно, сыграло и “странное пристрастие царя” (И.Стравинский) — "Тристан" имел высокого покровителя в лице Николая II.
Постановка оперы была весьма добротной, но по сути вишенной игры ума и блеска фантазии ее создателей: режиссер И.Палечек и художник П.Ламбин, ни на шаг не отступая от вагнеровских ремарок, послушно следовали немецкой постановочной традиции.
Истинной душой спектакля стал его дирижер Феликс Блуменфельд. “Во всех отношениях блестящий музыкант”, — как скажет о нем современник, и добавим — на редкость разносторонний — превосходный пианист, композитор, замечательный дирижер, единомышленник и надежный помощник Направника, Блуменфельд в "Тристане" впервые выступил в качестве полноправного музыкального руководителя спектакля. Поручив столь почетный, но и чрезвычайно ответственный дебют молодому коллеге, не любивший рисковать Направник в этом решении проявил присущие ему мудрость и проницательность. Для постановки "Тристана" на Мариинской сцене иного дирижера в Императорской русской опере, лучшего, чем Блуменфельд тогда нельзя было и пожелать. “Это был дирижер-романтик, увлекающийся, огненный. Но при этом всегда в полном обладании своего сознания... Под его палочкой в оркестре всегда был трепет радости”, — так очертит его дирижерский профиль один из директоров Императорских театров С.Волконский. Правда, критика поначалу приняла интерпретацию Блуменфельдом "Тристана" весьма сдержанно, а один из рецензентов обрушил в адрес дирижера и град упреков. Однако талантливого музыканта взял под свое крыло Римский-Корсаков, публично защитив его от несправедливых укоров критика. Немаловажным аргументом послужил тот факт, что дебютанта, как утверждал Римский-Корсаков, “облюбовал сам Г.Рихтер”, непререкаемый авторитет в области вагнеровской музыки, который “прошел всю партитуру "Тристана" с Блуменфельдом и сделал ему надлежащие указания относительно темпов и прочего”.
Исполнительский состав "Тристана" являл собой картину достаточно пеструю. Напомним хотя бы об исполнителях главных партий. Ф.Литвин — Изольда была настоящей звездой спектакля — “великолепная, единственная в мире толковательница вагнеровских типов” (Коломийцов), в творчестве которой образ Изольды, по оценке критики, стал одним “из лучших ее созданий” и, можно утверждать, одним из лучших созданий в истории мирового оперного искусства. Между тем, выступавший в партии Тристана французский тенор Э. Кассира, к глубокому разочарованию рецензентов “оказался в голосовом и артистическом отношении посредственным... — полезность, не более”. Впрочем, Ф. Литвин придерживалась иного мнения о своем партнере, по воле примадонны и приглашенным к участию в этом спектакле. Однако, каким бы "прекрасным певцом", с точки зрения Литвин, ни был Кассира, его внешний вид даже у зрителя с богатым художественным воображением менее всего отождествлялся с трагическим образом романтического героя-любовника. Рядом с крупной, массивно возвышающейся Литвин-Изольдой маленький нескладный Тристан Кассиры производил прямо-таки комический эффект. Не случайно один из критиков искренне сокрушался: “Как много значит внешность в драме Вагнера, поймут все, видевшие... карапузика Кассиру, входившего в шатер Изольды или вертящегося на длинном ложе последнего акта”.
Была в спектакле и еще одна несуразность: главные герои и присоединившаяся к ним Брангена (М.Каменская) пели свои партии по-французски, что раздраженный зритель расценил отнюдь не как эстетический изыск постановки.
Вероятно, все эти художественные изъяны и вовсе не возникли бы, поручи дирекция театра партию Тристана тому певцу, которому исполнение вагнеровского репертуара, казалось, завещал сам Бог. Речь идет о выдающемся русском артисте И.Ершове. Уже апробировавший вагнеровский стиль в партии Тангейзера, в образе Тристана Ершов впервые предстанет на Мариинской сцене 28 января 1900 года, в четвертом представлении оперы. Этот дебют станет "красным днем календаря русской культуры". Спектакль с участием Ершова явится крупнейшим событием отечественного оперного искусства, ознаменовавшим не только рождение на петербургской Императорской сцене настоящего русского "Тристана", но и по сути положившим начало новому летоисчислению в жизни вагнеровской оперы в России. Не забудем, что открытию этих, невидимых ранее горизонтов музыкально-театрального искусства сопутствовала и еще одна постановка — "Тангейзер" в парижской редакции, премьера которого, осуществленная под руководством Э.Направника с И.Ершовым в главной партии состоялась 17 сентября 1899 года.
Следующая глава в летописи петербургского вагнерианства открывается в начале XX столетия. Календарный рубеж на удивление точно совпадает с началом поистине "новой эры" в развитии отечественного вагнеровского театра. В течение нескольких сезонов Мариинский театр представит пять постановок вагнеровских музыкальных драм, явив миру новое, самобытное и высокохудожественное прочтение позднего Вагнера. Включая знаменитый январский спектакль "Тристана и Изольды", в этот исторический список войдет и цикл "Кольца нибелунга", впервые исполненный на Императорской сцене силами петербургских артистов: "Валькирия" (24.11.1900), "Зигфрид" (04.02.1902), "Гибель богов" (20.01.1903), "Золото Рейна" (27.12.1905). Движение по освоению сокровищницы вагнеровского творчества получит продолжение и в последующие годы, когда увлечение, изучение и постижение музыки немецкого композитора достигнет в Петербурге пика.
С Великого поста 1906 года Мариинская опера впервые откроет абонемент на цикл "Кольца". Он явится своего рода визитной карточкой тогдашнего музыкально-художественного Петербурга, предметом особой культурной ценности, вызывающем у его обладателей чувства благоговения и — одновременно — гордости. А в конце первого-начале второго десятилетия нового века на трех петербургских сценах — в Мариинском театре, Народном доме имени императора Николая II и в Театре музыкальной драмы — произойдут события, воистину эпохальные: будут даваться спектакли всех семи музыкальных драм Вагнера, включающие тетралогию "Кольца" (Мариинский театр), "Тристана" в сенсационно-новаторской режиссуре Вс.Мейерхольда (Мариинский театр, 1909), "Нюрнбергских мейстерзингеров" (Театр музыкальной драмы, 1912) и "Парсифаля" (Народный дом, 1913). Для полноты картины добавим к ним осуществленные тогда же постановки ранних вагнеровских опер — "Тангейзера", возобновленного в Мариинке в 1910 году, и впервые воплощенного на этой сцене в 1911 году "Летучего голландца". Тем самым были заложены высокие традиции русской вагнеровской культуры, заявлены принципы русской школы вагнеровского исполнительства.
Инициатива постановки "Кольца", так же как ранее и "Тристана", принадлежала князю С.Волконскому, вновь назначенному директору Императорских театров, не сравнимому ни со своими предшественниками в этой должности, ни тем более с преемниками. Это был во всех отношениях выдающийся директор, какими, увы, отнюдь не богата история Мариинки. Натура “истинно артистическая и поэтическая”, как характеризует его Направник, человек высокой культуры, широкого кругозора, прогрессивных взглядов, разделявший художественные устремления "мирискусников", музыкант, театровед, критик, актер, Волконский за свое кратковременное пребывание на директорском посту сумел осуществить немало интересных и значительных творческих начинаний.
Но, пожалуй, главная заслуга в утверждении Вагнера на Мариинской сцене принадлежала Э.Направнику, истинному генералмузикдиректору Императорской русской оперы. Вопреки пристрастию к ранним операм Вагнера и известному консерватизму эстетических вкусов, главный дирижер Мариинского театра, как музыкант мудрый и дальновидный, сумел подняться над личными художественными симпатиями. Едва ли можно возразить авторитетному критику В.Каратыгину, который утверждал: “Не возьмись за пропаганду "Нибелунгова перстня" Направник, не соблазни он широкую публику тщательным вскрытием всех чувственно-звуковых прелестей вагнеровских партитур, — и, кто знает, как скоро успел бы Вагнер победить стародавнее к себе недоверие российских меломанов. Во всяком случае, едва ли вагнеромания приняла бы у нас в кратчайшее время такие широкие размеры, вряд ли успели бы многие музыканты продвинуться в своем понимании вагнеровского искусства уже дальше услаждения одной красивостью и блеском, если бы в Мариинском театре не было Направника”.
Разумеется, Направник для воплощения своих художественных замыслов располагал мощными творческими силами. В его руках находились превосходные хор и оркестр. Благодаря усилиям главного дирижера достигший высочайшего профессионализма, оркестр Мариинского театра оказался способен подготовить исполнение труднейших вагнеровских опер с неслыханно малым числом репетиций. Партитура "Валькирии" была освоена за 15 репетиций, "Зигфрида" — за 12, тогда как в московском Большом театре на эти спектакли затрачивали соответственно 25 и 41 репетицию. Знакомство с Мариинским оркестром всякий раз становилось радостным открытием и для дирижеров-иностранцев, гастролировавших в российской столице, или по тогдашней традиции приглашаемых на бенефисные вагнеровские спектакли. Среди них, кроме уже названного Г.Рихтера, были и другие признанные мастера, всемирно прославленные представители немецкой дирижерской (вагнеровской) школы, такие, как Ф.Моттль, А.Никиш. Их изумление от встречи с этим ансамблем музыкантов зачастую сменялось искренним восторгом: великолепный оркестр Императорской русской оперы ничуть не уступал байройтскому. В работе с Мариинским оркестром приглашенные дирижеры обходились считанными репетициями, а иногда ограничивались и одной — столь высок был исполнительский уровень этого коллектива, отвечавший самым взыскательным художественным вкусам.
Вместе с Направником в формировании русской, а точнее, — петербургской — традиции интерпретации Вагнера деятельно участвовали и коллеги-дирижеры, воспитанные мэтром, прошедшие "школу Направника" — отечественную школу дирижерского искусства, у истоков которой стоял он сам. Наряду с Ф.Блуменельдом, о котором уже было сказано выше, к этой когорте принадлежали А.Коутс, экспрессивный, властно покоряющий слушателей потоками неизбывной энергии, великолепным чувством динамично-текучей вагнеровской музыкальной формы, и более уравновешенный с тонким вкусом и классически ясным мышлением Н.Малько. А немногим позже в Мариинском театре появится еще один приверженец вагнеровской музы, получивший титул "вагнеровского дирижера" Э.Купер.
Истинными партнерами Направника в деле освоения оперных творений байройтского мастера выступили и солисты Императорской русской оперы, своей интерпретацией вызвавшие резонанс в европейских музыкально-художественных кругах. Их имена вписаны в мировую книгу вагнеровского исполнительского искусства.
Знаменитая Ф.Литвин, в творчестве которой образы Изольды и Брунгильды стали эпохальным явлением мировой культуры. От природы наделенная редким голосом чарующей красоты и исключительной силы, могучей ровной струёй вливающимся в звуковые волны вагнеровского оркестра, певица изумляла и той поистине фантастической легкостью, прекрасной простотой и естественностью, с которыми она исполняла эти труднейшие партии. Внешние недостатки ее облика — чрезмерная полнота, высокий рост — скрывались органичной пластикой немногословных жестов, несуетных движений, заставлявших вспомнить о грации античных статуй, полных благородной сдержанности и эпического величия, классической завершенности и гармонии.
Царственно-величавую Ф.Литвин контрастно оттенял Иван Ершов, являвший собой сам "сценический нерв" вагнеровских спектаклей. Легендарный Тристан, Тангейзер, Зигмунд, Зигфрид, Логе, Лоэнгрин, он не имел себе равных “по таланту и силе драматической выразительности”. Ершов олицетворял воистину идеал вагнеровского тенора, “подобного которому, — как утверждала современная критика, — нет в настоящее время и в Германии, нет, вероятно, нигде”. Этот великий актер-певец словно был рожден исполнителем опер Вагнера. Его сильный огромного диапазона гибкий и подвижный голос, блестяще-мажорного и — одновременно — нежно-теплого звучания, его непревзойденное вокальное мастерство, благодаря которому певец, казалось бы, попросту не замечал неимоверных трудностей вагнеровских партий, были всецело поставлены на службу задачам высокохудожественным. Мощный темперамент Ершова, его превосходные внешние данные — высокий рост, красивая фигура, одухотворенное лицо, прекрасные лучистые глаза, — поразительно богатая пластика тела позволяли артисту каждый раз творить на сцене образы, исполненные стихийной непосредственности, несокрушимой силы, доблести, беззаветного героизма и в такой же мере благородства, нежности, сердечного тепла: по определению Б.Асафьева, “образы высшей человечности”.
Созданные Ершовым характеры обретали необычайную рельефность, гипнотическую убедительность также и благодаря совершенному владению певцом искусством вокальной интонации. Выразительная дикция Ершова, его чеканное слово, рожденное чутким слышанием и глубоким осмыслением музыкальной фразы, без всяких натяжек могли быть сравнимы с гениальной декламацией Шаляпина. Эту параллель продолжает и образно интерпретирует современник артиста, режиссер Н.Боголюбов: “Если Шаляпин был Леонардо да Винчи в оперном искусстве, то Ершов многими сторонами своего огромного таланта соприкасался с творчеством монументального Микеланджело”.
Одной из существенных сторон ершовского “огромного таланта”, обладающего мощной трагедийной силой, был присущий певцу феноменальный дар перевоплощения, вживания в образ. Магическое искусство Ершова всякий раз заставляло зрителя искренне верить в происходящее на сцене. “Ершов в роли Зигфрида — это Зигфрид в действительности. /.../ Совершенство создания получается именно от того, что в этой партии он живет, живет полно и свободно, нераздельно сливаясь с изображаемым характером, — восторгалась театральный критик, превосходный знаток вагнеровского театра С.Свириденко. — /.../ каждый момент его (Ершова — М.М.) исполнения — это правда, жизнь и красота. И... красота глубоко естественная, словно непроизвольная, словно неосознанная...”
С 1909 года постоянной партнершей Ершова стала Марианна Черкасская — лучшая после Ф.Литвин Изольда, Брунгильда, великолепная Зиглинда. Вагнеровские образы были “в ее передаче... настоящим шедевром вокальной законченности, драматической выразительности и звуковой красоты” (Свириденко). Дует Ершова и Черкасской был признан современниками одним из вершинных достижений в интерпретации музыкальной драмы на российской и мировой оперных сценах. В числе других "вагнеровских певцов", прославившихся в спектаклях Императорской русской оперы, — М.Фигнер, А.Больска, В.Куза, М.Славина, позже С.Акимова, А.Смирнов, А.Антоновский, В.Касторский, в последующие годы Г.Боссе.
Если автором идеи постановки "Кольца" на Мариинской сцене выступил С.Волконский, то одним из главных ее исполнителей, принявшим на себя всю ответственность за реализацию нового художественного проекта, стал Э.Направник. Не изменяя своим твердым принципам порядка и разумности, первый капельмейстер Императорской русской оперы и к решению этой архисложной творческой задачи подошел с позиций целесообразности. Цикл "Кольца" 24 ноября 1900 года, по замыслу Направника, открыла "Валькирия", как “самая интересная” из всей тетралогии. Расчет маэстро полностью удался: постановку приняли с “громадным и очень прочным успехом. На одном из первых представлений "Валькирии", в присутствии их величеств, — не без гордости вспоминал Направник, — я был вызван в царскую ложу и выслушал самые восторженные отзывы об исполнении, в особенности оркестра. Государь предложил мне вопрос — продолжать ли постановку "Кольца" или поставить, по предложению князя Волконского, сначала "Майстерзингеры"? Выслушав мое мнение, что надо продолжать так удачно начатое, государь предложил князю приняться за "Зигфрида", "Гибель богов" и под конец "Золото Рейна"...” Стратегический план постановок был определен, и воля царя — полностью исполнена, правда, уже не Волконским, вскоре покинувшим высокий пост, а его воспреемником в должности директора Императорских театров И.Теляковским. Замечу, что Волконскому в ходе работы над постановкой "Валькирии" удалось осуществить некоторые по тем временам новшества: в оркестре Мариинского театра было установлено электрическое освещение, а помимо того — впервые в истории Императорской русской оперы дирижер (Направник внял-таки уговорам директора?) со сцены наконец перешел в оркестровую яму, отныне и навсегда отдалившись от солистов и заняв свое место лицом к оркестру.
При возникновении идеи постановки "Кольца", так же как и при ее музыкально-сценическом воплощении вопрос цикличности, то есть стилевого единства всех четырех спектаклей, в Мариинском театре не только не обсуждался, но даже и не ставился.
Поэтому в тетралогии возникла иная, нежели авторская, последовательность частей. По той же причине оформление спектаклей осуществляли разные художники — каждый в присущей ему манере.
Декорации "Валькирии" выполнили русский художник В.Ширяев (1-й акт) и немецкий декоратор М.Брюкнер (II и III акты), который, подобно его брату Г.Брюкнеру, обессмертил свое имя как один из создателей баироитских спектаклей, -Зигфрид на Мариинской сцене был оформлен целым ансамблем декораторов — А.Кваппом (I акт), П.Ламбиным (1-я картина II акта) и Суриньянсом (1-я картина III акта). Декорации двух последних постановок мариинской версии "Кольца" создали выдающиеся русские художники — А.Бенуа "Гибель богов" и А.Головин – “Золото Реина”.
Единство замысла отсутствовало и при определении исполнительского состава тетралогии. Партии одних и тех же героев в разных частях вагнеровской эпопеи исполняли различные артисты.
Приступая к постановке "Кольца", Мариинский театр обратил свой взор на Байройт (не оригинально, но вполне разумно!) как воплощенный образец театрально-постановочного стиля Вагнера, узаконенный самим композитором. Чтобы постичь дух и букву вагнеровской традиции, главный режиссер Императорской русской оперы Иосеф Палечек посетил "байройтский холм". Скрупулезно точный и исполнительный "учитель сцены" (так именовалась тогда должность режиссера), Палечек, аккуратно выполнив задание, перенес в петербургские постановки традиционные приемы байротской режиссуры. Немецкий академический романтизм предстал на Императорской русской сцене в своем самом банальном виде. Точь-в-точь как в Байройте, здесь при свете "волшебного фонаря" совершали свой рискованный полет картонно-муляжные валькирии, подкармливающая богов чудесными яблоками Фрейя являлась в платье с яблоневыми цветочками, Вотан и Брунгильда гуляли по Мариинской сцене с “какими-то кирасирами”, Фрика приезжала на колеснице запряженными “баранами из игрушечного магазина” (Бенуа), а подвешенный на стволе дуба Нотунг, подобно праздничной иллюминации, ярко освещал зрительный зал. В этом безнадежно устаревшем, отдающим нафталинным духом декорационно-постановочном стиле, который в культурно-художественном контексте начала века следовало бы воспринимать не иначе, чем нонсенс, в Мариинском театре были решены "Валькирия" и "Зигфрид". Впрочем, весь этот многоцветный и шумный маскарад, обильно приправленный эффектами пиротехники — бенгальскими огнями, клубами дыма, шипением пара и прочими находками новейшей инженерной мысли — во все времена жадная до зрелищ публика, а иже с нею и критика (за исключением отдельных голосов) приняли с безграничным энтузиазмом. Однако, памятуя не столько об этическом долге снисходительности к предшественникам, сколько об исторической объективности, не станем оспаривать эстетические вкусы петербургских вагнеристов. На рубеже веков среди российских ценителей оперного искусства, взращенных преимущественно на вампуке, лишь немногие были способны видеть новые горизонты музыкального театра, утверждающие принципиально иные эстетико-стилевые ориентиры.
Интересного художественного результата, увы, не дала и завершившая цикл "Кольца" на Мариинской сцене постановка "Золота Рейна", оформленная А.Головиным, уникальным мастером театрально-декорационного искусства XX века. Единственным исключением в этом ряду стал спектакль "Гибель богов", претворивший глубоко прогрессивные и жизнеспособные творческие идеи молодого и бесконечно талантливого Александра Бенуа.
Личность феноменально многогранная — самобытный художник, вдумчивый ученый-искусствовед, тонкий знаток и ценитель истинных художественных ценностей, высоко профессиональный и искренний критик, создатель и идеолог группы "Мир искусства" — Бенуа принадлежал к завзятым вагнеристам. Однако среди многих поклонников вагнеровского творчества он выделялся отнюдь не поверхностным пониманием искусства своего кумира и рафинированным вкусом к его музыке. Об этом свидетельствует и С.Дягилев, друг, соратник и творческий единомышленник художника: “Бенуа... искренне и многодетно увлекался Вагнером и надо заметить — Вагнером не "Liebeslied'a" или "Abendstem'a", но Вагнером первых тактов "Зигфрида" и монолога мучений Амфортаса”.
Вагнер захватывал Бенуа не только миром своей музыки. Не менее привлекательным для него был и Вагнер-теоретик, выдвинувший идею Gesamtkunstwerk'a, рожденную неколебимым убеждением композитора в равноправии и единости всех искусств на оперной сцене. Это теоретическое положение Вагнера, обретшее новую жизнь в русле культурно-художественного процесса начала века, было с жаром подхвачено и поднято на щит представителями "Мира искусства", провозгласившими художественный синтез высшей целью культуры. Увлеченные теорией Вагнера, равно как и его музыкальными творениями, молодые художники проявляли особый интерес и к практическому решению проблемы взаимодействия музыки с другими искусствами. И в этом направлении в своих творческих опытах они сумели пойти дальше самого создателя байройтских действ. Ибо объектом пристального внимания мирискусников, их критического осмысления, а в отдельных случаях, — как у Бенуа, — и предметом приложения творческих сил стала сценография вагнеровских спектаклей, воистину "ахиллесова пята" байройтского театра того времени.
Уже при первой встрече с музыкальной драмой Вагнера в памятных гастрольных представлениях ноймановской труппы Бенуа не принял байройтский стиль, ставший для него воплощением художественной безвкусицы и театральной рутины. Преисполненный стремления к созидательному обновлению искусства, молодой художник был в числе тех немногих современников, которые не разделили всеобщих восторгов от первых постановок Кольца на Мариинской сцене. “Всем нам надоели эти развесистые ели, эти безвкусно романтические скалы, эти рогатые каски, древние германцы, средневековые замки, белокурые дамы, балаганные великаны, балаганные русалки. Бог с ней совсем со всей этой немецкой безвкусицей, одинакового калибра. С картинами Макарта и Геннеберга, с фресками в разных патриотических Ruhmshall'ax с барельефами... Неужели так-таки и останется навеки..?” — горестно вопрошал Бенуа, полный новаторских художественных идей. Но, отвергая байройтский декорационно-постановочный стереотип, он, однако, заблуждался, полагая, что “гениальный в музыке Рихард плохо разбирался в пластических искусствах”. Причина кроется в ином — в противоречии между созданным и теоретически обоснованным Вагнером новаторским жанром музыкальной драмы и старыми, исторически сложившимися поразительно устойчивыми формами оперного театра, против которого композитор неистово боролся, но в прокрустово ложе которого, тем не менее, заключил свое творение.
Блистательный драматург, самой природой наделенный острым чувством сцены, Вагнер прекрасно понимал, что успех оперы во многом зависит от чисто внешних вещей, и потому почти никогда (исключая, разве что "Тристана") не пренебрегал классическими оперно-сценическими эффектами, которые нещадно клеймил в своих теоретических выступлениях. Эпикуреец и сибарит в жизни, Вагнер-практик тайком от Вагнера-теоретика ценил роскошь и помпу и в опере. Здесь он ничуть не лучше низвергнутого им Мейербера и некоторых других собратьев по профессии, пострадавших от его нападок.
Это типичное для вагнеровского театра противоречие между новаторским жанром музыкальной драмы и устаревшими формами его сценического бытования Бенуа увидел проницательным взором художника, масштабно, с позиций Gesamtkunstwerk'a размышляющего о путях реформирования современного декорационного искусства: театральная декорация как равноправный элемент художественного организма спектакля и своей живописной поэтикой, и своей живописной техникой должна в полной мере соответствовать идейно-эстетической концепции целого.
В поисках "реального Вагнера", освобожденного от омертвелых декорационно-постановочных штампов, художник приходит к совершенно новому изобразительно-пластическому прочтению его музыки. Работа Бенуа над постановкой "Гибели богов", до сего дня по-настоящему не изученная и не оцененная, стала в истории русского оперного театра первой попыткой серьезного, эстетически продуманного воплощения вагнеровской идеи Gesamtkunstwerk'a. Его суть, как указывает исследователь творчества Бенуа М.Эткинд, заключается в том, что художник стремится здесь “не только к созданию определенного настроения, но и к масштабности обязательно "правдивого" пространства, к иллюзии "настоящего света", к "натуральности" пейзажа, к исторической достоверности каждой детали. Для этого он использует в декорациях бретонские этюды и наброски — прибрежные скалы, камни, деревья, море, для каждого статиста разрабатывает не только эскизы костюма, но проекты обуви, меча, щита, пояса, браслета, серьги, орнаментики. Все это построено на тщательном изучении исторического и археологического материала, порою оборачивающемся даже излишним педантизмом, скованностью художественной мысли”.
"Гибель богов" в оформлении Бенуа отметила лишь первую веху на пути к музыкально-сценическому синтезу. Это осознавал и художник, считавший свою работу отнюдь не безупречной. Не удовлетворяли декорации, по эскизам Бенуа выполненные К.Коровиным и Н.Клодтом, но “главное, чего не удалось... добиться, — резюмировал автор, — это объединяющего стиля”. Строгим критиком постановки выступил и С.Дягилев, порицавший сценографа за чрезмерную реалистичность живописного решения спектакля. Однако, то, что не устроило в постановке Дягилева, захватило воображение других. “Моментами зритель совсем забывал, что это театральное "действо". Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами”, — спустя годы вспоминала покоренная работой Бенуа замечательная русская художница Н.Остроумова-Лебедева. Авторитетный музыкальный критик В.Коломийцов, высоко оценивший сценографию "Гибели богов", писал: Во всей постановке драмы видна большая вдумчивость, стремление избегнуть рутины и внести в декоративную область нечто новое, оригинальное, отвечающее духу произведения".
Следующим значительным шагом в создании синтетического спектакля, рожденного в полемике с байройтской традицией и осуществленного под эгидой выдающегося режиссера-новатора, стал мейерхольдовский "Тристан". Его премьера 30 октября 1909 года, прошедшая под управлением Направника с прославленными И.Ершовым и М.Черкасской в главных партиях, явилась громкой сенсацией, вызвавшей колоссальный резонанс в музыкально-художественном мире Петербурга начала века. Были утверждены новые принципы оперной режиссуры, открыты новые возможности музыкально-сценического синтеза, а вместе с ними — и новые пути музыкального театра XX столетия.
В представлении Мейерхольда Вагнер “был больше творцом слуха, чем творцом глаза”. Следуя этому убеждению, режиссер, рискуя прослыть дерзким нарушителем священной традиции, подходит к ремаркам композитора свободно-избирательно. Единственным ориентиром ему служит сама музыка Вагнера. Рекомендации Мейерхольда на этот счет весьма определенны: “Художник и режиссер, приступающие к инсценированию "Тристана", пусть подслушают мотивы для своих картин в оркестре. Как своеобразен колорит средневековья и в песенке Курвенала, и в возгласах хора матросов, и в таинственном лейтмотиве смерти, и в фанфарах охотничьих рогов, и в фанфарах Марка...” Услышав в этой музыкальной драме живое дыхание далекой эпохи, режиссер и художник (задачи сценографа в спектакле блистательно выполнил тонкий и высоко культурный мастер театрально-декорационного искусства А.Шеваршидзе) переносят вагнеровского "Тристана" в XIII век французского средневековья, явившего миру легенду о бессмертной любви Тристана и Изольды. Столь смелое внедрение Мейерхольда в авторский замысел, вызвавшее бурное негодование многих современников, в числе которых был и А.Бенуа, имело под собой и другое, еще более глубокое художественное основание. По верному замечанию исследователя творчества режиссера, искусствоведа К.Рудницкого, Мейерхольд, работая над постановкой "Тристана и Изольды", “испытал потребность обозначить в очертаниях спектакля эпоху, когда сложился и оформился стиль”.
Готовясь к постановке "Тристана" Мейерхольд, как известно, проштудировал 17 фундаментальных трудов по вопросам истории искусств, музыки и театра, эстетики, музыкальной драмы Вагнера и средневекового эпоса. Шеварднадзе тщательно изучил средневековые книжные миниатюры, в особенности те, что украшали рыцарские романы. Пристальное внимание художника, в частности, привлекли иллюстрации к сочинению Готфрида Страсбургского. Однако, овладение столь мощной научной базой ничуть не помешало, а напротив, стимулировало постановщиков в их смелых творческих исканиях. Создатели спектакля вовсе не стремились уподобиться дотошным археологам. Декларируемый ими историзм трактовался условно — преломленным сквозь призму их художественного видения.
Глубоко переосмыслив опыт современного театра, совместив в своей постановке некоторые технические приемы Фукса, Аппиа, Крэга, но, подчинив их совершенно иным идейно-художественным задачам, Мейерхольд создает в "Тристане" новый тип оперного спектакля. Его главный смысл — познание цельного человека. Его главная примета — условность изобразительно-пластического решения: немногословность и сдержанность жестов и движений, статуарность поз, скульптурная пластика мизансцен, суровость колорита.
Первый план сцены, по выражению Мейерхольда, "рельеф-сцена", отдан актеру, и “не потому, что... мы хотим видеть перед собой гигантов, но потому, что пластическими становятся изломы тела отдельного лица и группировка ансамбля”. На переднем плане сосредоточено и драматическое действие, которое в воображении зрителя “обостряется, благодаря ритмическим волнам телесных движений”. Рельеф-сцена служит “пьедесталом актеру”, и потому здесь “все скульптурно, а расплывчатость живописи отдана фону”, где помещается писанная декорация, отражающая и высвечивающая фигуры актеров. Ровный плоский сценический пол-настил преобразуется в “компактно-собранный ряд плоскостей различных высот. Изломанные линии. Люди группируются изысканной волной и теснее. Красиво легли светотени и сконцентрировались звуки. Действие сведено к некоторому единству”.
Утонченно-изысканный, в подлинном смысле стильный петербургский "Тристан" стал программным созданием не только в творчестве Мейерхольда, но и в истории мировой, художественной культуры современности. Поначалу понятый и принятый лишь немногими, этот спектакль предвосхитил те новаторские режиссерские искания, которые обозначились в европейском вагнеровском театре в последующие десятилетия.
Вслед за художником и режиссером поиски нетрадиционного сценического решения вагнеровской музыки увлекли и балетмейстера. 6 апреля 1910 года Мариинский театр впервые представил "Тангейзера", в котором хореографическую сцену I акта "Грот Венеры" поставил М.Фокин. И вновь Петербург был свидетелем крупнейшего художественного события, каковым становилась каждая работа этого самобытного мастера — артиста высокой культуры, изобретательной фантазии и тонкого вкуса. Талантливый художник, открывший новую эру в балетном искусстве XX века, Фокин явился одним из тех, кто в своем творчестве шел по пути смелого экспериментирования в области музыкально-сценического синтеза. Его балеты, а также поставленные им балетные сцены в операх Бородина, Глюка, Бизе, Штрауса, Глинки представили миру неведомые ранее возможности сближения и взаимодействия искусств. И хотя "Тангейзер" в традиционалистской режиссуре И.Палечека со старыми декорациями Лютке-Майера и новаторской хореографией М.Фокина едва ли мог расцениваться как воплощенный образец идеи Gesamtkunstwerk'a, однако балетная сцена "Грот Венеры", где ведущие партии исполняли прославленные Т.Карсавина и В.Нижинский, явила новое хореографически-пластическое прочтение музыки Вагнера.
Апрельский "Тангейзер", в котором главные партии пели звезды Мариинской сцены И.Ершов и М.Черкасская, был примечателен еще и тем, что за дирижерским пультом в этот вечер стоял “бог оркестра” (А.Коптяев) А.Никиш. Кумир взыскательной столичной публики, знаменитый маэстро впервые предстал в Петербурге как оперный дирижер 5 ноября 1908 года, в бенефис оркестра Императорской русской оперы вдохновенно про дирижировав 40-м представлением Валькирии. Его эстафету подхватил непревзойденный Ф.Моттль, проведший в Мариинском театре четыре незабываемых спектакля, внесенных в летопись петербургской вагнерианы: "Тристан и Изольда" (15 января 1910 г. и 28 января 1911 г.), "Лоэнгрин" (4 февраля 1911 г.) и в последний раз "Тристан и Изольда" (8 февраля 1911 г.), по роковому стечению обстоятельств ставший "лебединой песней" выдающегося музыканта. А спустя несколько месяцев в вагнеровском спектакле в Мариинском театре выступит еще один замечательный представитель австро-немецкой дирижерской школы — Ф.Вайнгартнер: 12 декабря 1911 года под его управлением пройдет "Лоэнгрин".
В сезонах 1910 — 1914 годов вагнеровские оперы, как и прежде, определяли одно из ведущих направлений репертуарной политики и художественной жизни Мариинского театра. К восьми спектаклям, с неизменной регулярностью появляющихся на афише петербургской Императорской оперы, добавились еще два — "Летучий голландец" и "Нюрнбергские мейстерзингеры", впервые представленные на Мариинской сцене силами ее артистов.
Сценическая судьба "Летучего голландца", переименованного в Петербурге в "Моряка-скитальца", вызывает по меньшей мере недоумение. Поставленная в русской столице 11 октября 1911 года, спустя без малого 70 лет после премьеры в Дрездене и через 13 лет после первого исполнения в Петербурге нойманов-ской труппой, эта опера в течение одного сезона (с октября 1911 г. по январь 1912 г.) с успехом выдержав 9 представлений, навсегда исчезла из репертуара Мариинского театра. Факт, тем более парадоксальный, что замечательное творение молодого композитора получило на сцене Императорской русской оперы превосходное музыкально-художественное воплощение. Спектакль явился блистательным дебютом талантливого английского капельмейстера, ученика А.Никиша А.Коутса, ангажированного директором Императорских театров Теляковским. Музыкант “вулканического темперамента, необыкновенно чуткий к самым тончайшим нюансам в оркестровом сопровождении, Коутс отлично понимал и чувствовал сцену”, — заметит о дирижере его коллега, режиссер Мариинского театра Н.Боголюбов. Сценографом постановки выступил выдающийся художник, самобытный творец театральной живописи К.Коровин. Вполне достойным их партнером оказался режиссер Н.Званцев. Во многом своим успехом спектакль был обязан и исполнителю главной партии, баритону П.Андрееву, артисту из плеяды звезд русской и советской оперной сцены.
20 марта 1914 года впервые свет рампы Мариинского театра увидели "Нюрнбергские мейстерзингеры", поставленные ансамблем истинных мастеров оперно-сценического искусства. Музыкальное руководство спектаклем вновь осуществил знаток и приверженец Вагнера А.Коутс. Инсценировка оперы была поручена недавно приглашенному в Мариинский театр из провинции даровитому режиссеру Н.Боголюбову. Декорации выполнил опытный сценограф П.Ламбин, “замечательный рисовальщик и поэт краски в духе Репина”, — как охарактеризует его Боголюбов. Танцы поставил Н.Легат. Среди первоклассных исполнителей особо выделялась А.Больска (Ева), солистка его Императорского Величества, прославившаяся в вагнеровском репертуаре. Рядом с ней ничуть не проигрывал и начинающий свой путь на Мариинской сцене Г.Боссе, по оценке современников, ни в чем не уступавший признанному немецкому баритону Файнхальсу.
Над постановкой работали тщательно, вдумчиво и увлеченно. Чтобы живо ощутить национальный дух, постичь саму немецкую , художественную "натуру" и всесторонне подготовиться к спектаклю, художник и режиссер получили командировку в Германию. “На репетиции.., — по свидетельству Боголюбова, — было отведено сто дней, то есть более трех месяцев”. 45 корректур провел Коутс. В целом премьеру с воодушевлением приняли и публика, и пресса. Однако, не обошлось и без критики. Так, молодой Б.Асафьев, впоследствии крупнейший советский музыковед, академик, в ту пору выступавший в печати под псевдонимом И.Глебов, усматривал в постановке существенные недочеты: "Поставлена вся опера... в тонах бытовой комедии с явным уклоном в сторону преобладания личных интересов и отношений действующих лиц над идеальной сущностью сюжета. Отсюда яркое противоречие: музыка постоянно и упорно твердит слушателям о чем-то несравненно более важном и глубоком, нежели то, в чем нас пытались убедить и уверить со сцены".
Четвертому представлению "Нюрнбергских мейстерзингеров" 25 апреля 1914 года суждено было стать спектаклем, в известной степени, историческим: с этого дня на четыре года (до 26 апреля 1918 года) — вполне весомой причиной тому послужила Первая мировая война! — жизнь вагнеровских опер на Мариинской сцене замерла. Эта насильственная остановка произошла в том сезоне 1913/1914 годов, когда, по оценке историков искусства, в Мариинском театре “вагнеровский репертуар... достиг высшего развития” (Каратыгин). Приведу некоторые, весьма любопытные статистические данные: из 19 произведений западно-европейских композиторов, стоявших тогда в афише Императорской русской оперы, 8 было отдано Вагнеру; со дня первой постановки до 25 апреля 1914 года "Лоэнгрин" на Мариинской сцене был дан 131 раз, “Тангейзер” — 15, “Золото Рейна” — “Валькирия” — 72, "Зигфрид" — 38, "Гибель богов" — 39, "Тристан и Изольда" — 29. Продолжавшееся без малого полвека, мощное и всеохватное художественное движение по освоению Императорской русской оперой музыкального наследия Вагнера, прервалось в его апогее...
Сегодня, на исходе столетия, в его культурологической ретроспективе первые 14 сезонов XX века в Мариинском театре, "во весь рост" представившие современникам немецкого гения, осмысливаются исполинским музыкально-художественным феноменом, вобравшим в себя содержание целой эпохи, талантливой, яркой, захватывающе -увлекательной.
Тогдашний Петербург с его грандиозными вагнеровскими циклами и Мариинский театр, как эпицентр российского вагнерианства, явились одним из существенных примет русской культуры "серебряного века". Эти события мощными струями вольются в широкий поток художественной жизни столицы, наполнив собой духовное бытие современников, в числе которых молодые А. Блок, В.Иванов, А.Белый, С.Прокофьев, А.Бенуа, В.Серов, Б.Кустодиев. Один из них, Б.Асафьев зафиксирует трепетно-живое дыхание тех лет: “... лучшей школой музыкального восприятия, не только как слухового внимания, а как процесса художественно-интеллектуального, были знаменитые вагнеровские циклы, проходившие в Мариинском театре в Великом посту, то есть ранней, ранней весной. О циклах много писали, только очень мало касаясь их, как явления высокой культуры русского театра и не вникая в художественно-воспитательное общественное значение этих спектаклей. А между тем, что делалось в антрактах в верхних ярусах театра: философские и музыковедческие споры, обсуждения партитур, критика и восторги по адресу исполнителей, диалоги итальянистов-меломанов и жрецов вагнеризма, музыкально-профессиональные кружковые дискуссии, фейерверк мыслей писателей и историков, поэтов и художников, пафос и энтузиазм девушек, отвергавших умозрения там, где надо жить чувством и "созерцать сердцем", и т.д. и т.д. Это же были клубы, насыщенные отзывчивой студенческой молодежью, художественной богемой и средней культурной интеллигенцией, а не коридоры и фойе чинного театра”.
Подобно отблеску этой яркой эпохи, в Петербурге, называемом уже Петроградом, произойдет еще один взлет вагнеровской оперы на сцене Мариинки, именуемой тогда ГАТОБом и ЛГАТОБом: в течение 1923 года будут возобновлены спектакли "Лоэнгрин" (27 января), "Зигфрид" (24 февраля), "Тангейзер" (12 апреля), и вновь поставлен "Риенци"(7 ноября). А затем, в конце 20-х - начале 30-х годов усилиями В.Дранишникова, главного дирижера театра, предпринимается, увы, не состоявшаяся попытка возродить на Мариинской сцене позднего Вагнера. 7 ноября 1926 года возобновляются "Нюрнбергские мейстерзингеры", 26 февраля 1931 года — "Гибель богов", а 19 февраля 1933 года в ленинградском Театре оперы и балета дается премьера "Золота Рейна". На этом петербургская вагнериана волею новых политико-идеологических веяний завершается. В последующие годы лишь "Лоэнгрин", переживший на этой сцене в советскую эпоху еще три постановки (в 1941, 1962 и 1982 годах) и, быть может, по неведомому знаку судьбы прочно вписавшийся в репертуар Мариинского-Кировского театра, будет здесь одиноко представлять Вагнера — словно напоминание о былом, не позволяющее прерваться связующей нити времен
Сборник "Рихард Вагнер и Россия"
Редакторы-составители:
Элла Махрова, Рюдигер Поль
Переводчики:
Элла Махрова, Хайде Виллих-Ледербоген
Редакторы:
Карл Рихтер, Людмила Савельева
Фотограф:
Омар Зверков
ISBN 3-9804427-9-9
ISBN 5-8064-0470-6
© Deutsche Richard Wagner Gesellschaft, 2001
© Санкт-Петербургский Вагнеровский союз, 2001
© Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2001
2001 Санкт-Петербург
Предисловие
Настоящая публикация – это уже третья совместная работа Немецкого общества Рихарда Вагнера и Санкт-Петербургского Вагнеровского союза. Так или иначе все они связаны с темой "Вагнер и Россия". Неубывающая актуальность этой темы связана с рядом обстоятельств. Во-первых, с длительным невниманием к этой проблематике, как и вообще к творчеству Вагнера в советской России, чем обусловлено существование многих "белых пятен" в истории освоения вагнеровского творчества русской культурой. Во-вторых, серьезным оживлением интереса к композитору, возрождением его произведений на русской оперной сцене. И наконец, last, but not least, отношением самого Вагнера к России и той ролью которую она сыграла в его судьбе.
"Я должен был бы остаться у Вас в Петербурге!" Это восклицание Рихарда Вагнера, зафиксированное в июле 1863 года в письме к графине Эдите фон Раден – внучке Павла Жуковского – и впервые опубликованное в июле 1924 года в журнале "Die Musik", многое говорит об отношении Вагнера к России. Так же, как и следующее признание: "Позвольте сказать, что мои петербургские впечатления…были единственными светлыми страницами моей жизни на протяжении многих лет. – Что можно было бы обрести в результате всех устремлений более приносящее счастье, чем дружба благородных сердец и образованных душ?… Я полюбил русский национальный характер" (там же). Встреча Вагнера с Россией произошла в поворотный момент его биографии. "Прошлой зимой, когда я отправился в Россию, я был совсем на грани краха. Там я заработал столько, чтобы начать все с начала…", – пишет он 14 сентября 1863 года, снова надеясь на возобновление контактов.
Однако Вагнер сам больше не вернулся в Россию (свою мечту он смог осуществить в конце концов в Байройте) – но его искусство не только "вернулось", но и "вжилось" в русскую культуру – вопреки всем политическим катаклизмам.
Для нас большая радость предложить заинтересованному читателю новое свидетельство нашей совместной исследовательской работы, посвященной Вагнеру и его творчеству. Книга содержит статьи русских и немецких авторов, которых связывает интерес к Вагнеру и которые с разных точек зрения рассматривают судьбу художника и его искусства в России, его связи с русскими деятелями искусства.
Мы благодарим всех авторов, переводчиков, редакторов и фотографа, работавших над этой книгой. Особую благодарность мы выражаем нашему пожелавшему остаться неизвестным спонсору, благодаря которому этот проект вообще оказался возможным!
Э. Махрова, Р. Поль
Махрова Э. Русская культура: с Вагнером или без него?
Так уж случилось, что к Вагнеру, как ни к одному другому композитору, русская культура относилась с особым пристрастием. Оценочные полюса этого пристрастия постоянно менялись, и, как правило, на диаметрально противоположные. Были на то и внешние историко-политические причины и резоны художественно-эстетические. Но первопричина одна – масштаб и философская глубина творчества определили ту неординарную судьбу, которая постигла великого немецкого художника и его творческое наследие в нашем отечестве.
О Вагнере Россия узнала в конце 50-х годов XIX века благодаря критическим статьям А. Серова – первого русского почитателя и пропагандиста немецкого композитора. Но должно было пройти не одно десятилетие, прежде чем общее недоверчиво-настороженное отношение к новоявленному гению сменилось бы на восторженное. И даже сенсационный успех гастролей Вагнера в Петербурге и Москве в 1863 году свидетельствовал еще не о победе творческой эстетики композитора, а о уже пробудившемся, но достаточно поверхностном интересе к некоему экзотическому явлению современной музыкальной жизни. Проницательность и смелость В. Одоевского, объявившего Вагнера "первым музыкантом наших дней", – случай совершенно исключительный для России того времени. Большинство русских музыкантов и деятелей культуры сохраняли позицию критической дистанции, в которую, правда, нет-нет, да и закрадывались нотки сомнения в справедливости этой позиции. Характерно, например, признание М. Мусоргского: "Мы Вагнера часто ругаем, а Вагнер силен, и силен тем, что щупает искусство и теребит его..." (из письма к Н. Римскому-Корсакову, октябрь 1867 ).
До понимания художника и задач, которые он ставит перед своим творчеством, было еще далеко и в 70-е годы. Но совершенно ясно оформляется "желание продолжать изучение этой сложнейшей из всех когда-либо написанных музык", (так подытожит П. Чайковский свою критическую статью на первый вагнеровский фестиваль в Байройте в 1876 году).
Период первого знакомства и постепенно углублявшегося изучения растянулся на четыре десятилетия – 60–90-е годы XIX века. За это время русская публика смогла не понаслышке познакомиться с некоторыми теоретическими работами Вагнера, его оперы заняли прочное место в репертуаре столичных оперных театров. Одним словом, творчество Вагнера постепенно стало частью культурной жизни если не России в целом, то, во всяком случае, ее двух столиц.
Однако подлинный вагнерианский "бум" откроет начало нового столетия. Почти на полтора десятилетия Вагнер станет эпицентром русской культурной жизни. Причем не только музыкальной. Трудно себе представить просвещенного человека тех лет, который бы не знал творчество Вагнера и не дискутировал о нем в светских беседах. Русское искусство так называемого "серебряного века" немыслимо без Вагнера, без влияния его идей, без его пафоса служения искусству будущего и будущему человечества. Как ни парадоксально и даже кощунственно это прозвучит, но самобытность русского "серебряного века" буквально вырастает из эстетической почвы, подготовленной немецким художником Рихардом Вагнером. Мы хорошо видим своеобразие таких русских мастеров, как А. Скрябин и поздний Н. Римский-Корсаков, Вяч. Иванов и А. Блок, А. Белый и В. Брюсов, Н. Рерих и А. Бенуа и многих-многих других, но уже давно разучились видеть корни их искусства. Мы перестали отдавать себе отчет в том, сколь многим наше отечественное искусство начала века обязано Вагнеру. Русское вагнерианство этого краткого периода составило одну из самых ярких страниц в истории отечественного искусства.
Уже в 90-е годы XIX века кривая оценок вагнеровского творчества резко пошла вверх. Чайковский в последние годы жизни заговорил о гениальности Вагнера. Римский-Корсаков становится блестящим знатоком вагнеровских партитур. И даже из уст Стасова, одного из главных идеологов русского искусства и самого непримиримого среди противников Вагнера, теперь раздаются дифирамбы в адрес искусства и мастерства немецкого композитора. В хоре оценок установился ясный унисон.
Не стоит и говорить, что в те годы на оперных сценах Петербурга шли практически все (!) оперы знаменитого реформатора, и сей факт немало способствовал небывалому росту отечественного исполнительского искусства. Знаменитые вагнеровские циклы, проходившие на сцене Мариинского театра в Великий пост, по свидетельству авторитетнейшего советского музыковеда Б. Асафьева, были "лучшей школой музыкального восприятия, не только как слухового внимания, а как процесса художественно-интеллектуального". Даже "Парсифаль", художественное завещание Вагнера, которого русским любителям музыки пришлось ждать особенно долго (пока в 1913 году не был снят запрет на исполнение этой оперы за пределами Байройта), увидел свет русской рампы. О "насыщенности Вагнером" театральной жизни свидетельствует, например, следующее замечание театрального критика тех лет: "Петербуржцы стали такими вагнерианцами, что даже наиболее сложная и наименее доступная пониманию толпы из музыкальных драм байройтского мастера – мистерия "Парсифаль" – дается одновременно в двух театрах и даже в один и тот же вечер".
Отношение россиян к Вагнеру очень точно сформулировал С. Дурылин, автор небольшой, но весьма показательной для своего времени книги "Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства": "Вагнер никогда не пользовался в России таким вниманием и изучением, как ныне… Не музыкант только, хотя бы и великий, не поэт, хотя бы и замечательный, не мыслитель, хотя бы и значительный, привлекают в Вагнере, но Вагнер как явление, а явление Вагнера – явление художника-мифомыслителя…. Весь Вагнер – "Memento mori" современному искусству. Нигде так не слышно это праведное "Memento", как в России…".
Действительно, ни одна другая страна не была так "заражена" Вагнером как Россия. Но тут мы подошли к кульминационной точке русского вагнерианства. Политические события следующего 1914 года – начало войны с Германией – непредвиденным образом вмешиваются в течение культурной жизни. Война разделяет две страны, и она же проводит грань между своим и чужим в культуре. Вагнеровское искусство оказывается за этой гранью.
Правда, первый период отказа от Вагнера был сравнительно недолгим. Уже первые послереволюционные годы вновь возвращают музыку композитора на оперные сцены и в концертные залы. Но это иной Вагнер. И совсем другим стало отношение к нему. Вместо прежнего стремления постичь художника во всей полноте и сложности его творчества, теперь – желание "поставить Вагнера на службу революции", переосмыслить, в известном смысле "ревизовать" его творчество. Далеко не все принимается официальной эстетикой. Симпатию и понимание вызывает лишь то, что тематически укладывается в представления о революционности и народности, или то, что можно приблизить к этим представлениям. Складывается и на многие годы утверждается концепция творческой эволюции Вагнера: от революционного, прогрессивного раннего этапа творчества к реакционному позднему. Официально приемлемыми, конечно, являются ранние оперы. Но и в позднем творчестве можно было найти исключения…
Не случайно, разумеется, в 20–30-е годы наибольший интерес среди сочинений композитора вызывает уже не "Кольцо нибелунга" и "Парсифаль", а "Нюрнбергские майстерзингеры" (три постановки оперы в ведущих столичных театрах страны!). Опера представляется чуть ли не идеальным объектом для создания "массового музыкального зрелища". Демократизм героев вызывает безусловную симпатию. Остается лишь по-новому сценически интерпретировать произведение, которое современниками композитора (а возможно и самим композитором) не было раскрыто до конца и даже заведомо искажалось. Авторы советских постановок предпочитают видеть в вагнеровском творении "пропаганду живого самодеятельного искусства и злую насмешку над косным формализмом". Лишь народ является судьей художника, считают постановщики оперы в Большом театре (1929), и только эта идея делает произведение приемлемым для советских слушателей. А создатели спектакля в Ленинградском Малом оперном театре для того, чтобы "очистить оперу от всех элементов любования минувшей эпохой, столь милой сердцу оперных консерваторов", и вовсе переделывают либретто оперы, нимало не заботясь о единстве текстовых и музыкальных образов.
И все-таки, пусть даже в таком искаженном виде, но вагнеровское искусство присутствует в культурной жизни послереволюционной России. То, что это присутствие фрагментарно, осколочно и осознается как недостаточное, доказывает возникновение в Петрограде любительского "Общества Вагнеровского искусства", ставившего целью пропаганду творчества великого немецкого композитора. В стороне от официальной политики горстка интеллигентов-энтузиастов пытается хотя бы на концертной сцене возродить вагнеровское "Кольцо". Ведь живы еще традиции восторженного поклонения художнику-реформатору! И удается все-таки, неведомо каким чудом, частично реализовать замысел, осуществить концертные исполнения в костюмах "Золота Рейна" и "Валькирии". Но чем прочнее и основательнее утверждается пролетарская массовая культура, тем меньше места остается для искусства Вагнера, которое, как постепенно выясняется, имеет мало точек соприкосновения с марксизмом.
А тут еще судьба уготовила новый удар по теплящимся традициям русского вагнерианства. Вагнеровское наследие берется на щит нацистской пропагандой в Германии, идеологически искажаясь до неузнаваемости. Пройдет еще несколько лет, и немецкие бомбардировщики будут громить наши города под музыку "Полета валькирий". Здесь и речи не могло быть об объективном признании исторических заслуг Вагнера перед мировым искусством и русской культурой! Не только на творчество, но и на имя художника накладывается табу.
Справедливости ради заметим, что и в самой Германии нацистская "любовь" к Вагнеру нанесла немалый урон репутации художника. Немцам пришлось на протяжении многих лет скрупулезно расчищать свою культуру, буквально реставрируя изуродованные художественные ценности, в том числе и искусство Вагнера. Об этом красноречиво свидетельствует история Нового Байройта, стремление его художественных руководителей придать вагнеровским постановкам новый смысл, ничего общего не имеющий со старыми традициями. Но в нашей стране, где столько боли вызывали воспоминания о войне, проблема "реабилитации" Вагнера официально даже не могла быть поставлена.
Вагнер просто исчез из культурного обихода. Исчез, правда, не совсем. Поскольку не исчезли энтузиасты-музыканты, не хотевшие мириться с запретами. Именно благодаря этим музыкантам произведения Вагнера время от времени исполнялись на концертной эстраде. Это были события из ряда вон выходящие и потому, как правило, вызывавшие повышенный интерес публики. Здесь нельзя не упомянуть имя Евгения Мравинского, многолетнего главного дирижера Ленинградского филармонического оркестра. Его вагнеровские программы неизменно сопровождались "аншлагами". В Москве активным приверженцем Вагнера, выступавшим и в концертах, и на радио, заявил себя замечательный дирижер Самуил Самосуд.
Случались гастрольные показы вагнеровских опер, ставших абсолютными раритетами (так, в 1975 году Москва благодаря Стокгольмской Королевской опере смогла насладиться всей тетралогией "Кольцо нибелунга", а четырьмя годами ранее – "Тристаном и Изольдой" в исполнении Венской Штаатсопер). Но сами отечественные театры, казалось, почти забыли о Вагнере. За пятьдесят послевоенных лет лишь две оперы Вагнера удостоились чести увидеть свет рампы ленинградских оперных театров. При этом обе постановки оказались, каждая по-своему, примечательными. Уникальным можно считать тот факт, что "Лоэнгрин" (1962) продержался в репертуаре Мариинского театра (тогда – Кировского театра) до 1993 года (131 представление!). И совсем труднообъяснимая история случилась с "Летучим голландцем" (1957) в Ленинградском Малом оперном театре: спектакль занял второе место во всесоюзном конкурсе музыкальных театров (проходившем под знаком 40-летия Великой Октябрьской революции!), оказавшись единственной классической и к тому же зарубежной оперой в ряду сочинений советских композиторов! Спектакль этот, кстати, тоже оказался долгожителем – продержался в репертуаре 15 лет, и, судя по всему, после гастрольного показа вдохновил Московский Большой театр на постановку этой "редкой" оперы. В Москве с вагнеровскими постановками дело обстояло ничуть не лучше. За те же пятьдесят послевоенных лет – все тот же "Лоэнгрин" (поставленный по инициативе знаменитого тенора, любимца публики И. Козловского, но вскоре сошедший со сцены вместе с главным солистом, правда сохраненный для истории в грамзаписи), уже упомянутый "Летучий голландец" (1962, в постановке приглашенного из-за границы Харри Купфера) и "Золото Рейна" (1979), так и не оправдавшее внезапно проснувшиеся надежды на возрождение вагнеровской тетралогии на русской оперной сцене.
Интересно, что как гастроли, так и отечественные премьеры и концерты вызывали "ажиотажный спрос". Вот, например, свидетельство одного из участников московского "Лоэнгрина", хормейстера К. Птицы: "в вечер спектакля публика рвалась во все 20 подъездов Большого театра, сметая любые одушевленные и механические преграды. Без преувеличения, в зале оказалось народа раза в полтора больше, чем мест…".
Надо однако честно признать, что не Вагнер и его музыка были главной причиной успеха, а те удивительные музыканты, которые исполняли его музыку. И только благодаря таким музыкантам имя Вагнера не смогло исчезнуть бесследно из памяти российских любителей искусства.
Мало известный и мало важный для советского искусства композитор Вагнер долгие десятилетия влачил периферийное существование. Эпоха русского антивагнерианства оказалась куда длиннее, чем кратковременный вагнерианский "бум": ее начальной вехой стали 30-е годы, а конечную следует искать уже в 90-х годах ХХ столетия.
Каково сейчас отношение нашей культуры к Вагнеру? Конечно, вряд ли искусство Вагнера может сегодня восприниматься с той остротой и актуальностью, как на рубеже XIX и ХХ веков. Но оно не может и не должно играть той периферийной роли, какая ей отводилась в советскую эпоху. Проблема возрождения Вагнера – это и проблема возрождения традиций собственной культуры рубежа XIX–XX веков, развитие которой было насильственно прервано социальными катаклизмами.
У совершающегося на наших глазах в последнее пятилетие возрождения вагнеровского искусства в России есть свои лидеры. Главным и безусловным среди них следует назвать Валерия Гергиева. Это благодаря его художнической воле на сцену Мариинского театра одна за другой возвращаются произведения великого композитора. Если еще несколько лет назад при имени Вагнер любой солист театра мог лишь недоуменно пожать плечами, а сотрудники служб даже и не обратить внимания на незнакомое слово, то сегодня это имя вошло в каждодневные будни Мариинской сцены.
За "Парсифалем" последовали "Летучий голландец" (1998) и "Лоэнгрин" (1999), еще не совсем забытые старыми театралами, а потому встреченные тепло и без излишней придирчивости. Точнее, придирки со стороны критики, конечно, были. Далеко не всем понравились режиссерские решения и сценография. Но все были на редкость едины в оценке музыкальной стороны новых спектаклей. На страницах прессы замелькали выражения "настоящее вагнеровское звучание", "вагнеровские голоса". Гергиеву удалось почти молниеносно установить свой эталон "вагнеровского звучания", которое, разумеется, отличалось в деталях от европейского, но для русского слушателя, даже и весьма искушенного многочисленными аудиозаписями, обладало безусловной убедительностью. Трудно сказать, что здесь сыграло главную роль: то ли "генетическая память" былой русской вагнерианы, то ли исключительная художественная одаренность и творческая смелость Гергиева. Эталону этому ничто не могло быть противопоставлено. Ни один театр, включая и все столичные, не вступил в творческий спор с Мариинкой. Московским критикам пришлось, по их собственному признанию, "со скрежетом зубовным" от зависти описывать питерские премьеры и гастрольные показы. "Вагнеризация" оперной жизни шла исключительно под флагом Мариинского театра. А параллельно шла, как небезосновательно заметил один из критиков, "переориентация нашего коллективного оперного сознания в направлении новой эстетики и специфически вагнеровской музыкальной энергетики".
На фоне всего происшедшего "Золото Рейна" (2000) воспринималось как закономерность, необходимая, естественная и желанная. Не смутила зрителей и сценическая концепция, предложенная немецкой постановочной бригадой (режиссер – Й. Шааф, художник – Г. Пильц, драматург – В. Вилашек), согласно которой мифологическое действие было превращено в бытовую драму. Музыка заставляла смириться со всем, что происходило на сцене. Впрочем, сами сценические образы были не лишены импозантности и величия.
Появившаяся спустя год "Валькирия" "подтвердила догадки о новой русской вагнеромании". Премьерный спектакль, по свидетельству очевидца, выполнял функции "машины времени": "музыка Вагнера, вживую звучащая из ямы и со сцены, возвращает искушенного слушателя в ситуацию того легендарного умопомрачения, когда русская художественная элита бредила вагнеровскими лейтмотивами и перебрасывалась фразами из либретто "Кольца". Сегодня, правда, вагнеровских фраз, в обиходной речи не услышишь, отчасти еще и потому, что в отличие от "Кольца" столетней давности новая тетралогия исполняется на оригинальном, то есть немецком, языке. С лейтмотивами "широкая" публика, думаю, тоже не очень освоилась. Но это не мешает воспринимать ни оперные события, ни яркиие вагнеровские музыкальные образы.
И уже то, что эпохальный проект возрождения "Кольца" на грани тысячелетий, после столетнего небытия, встречает всеобщее признание, внушает оптимизм. Рождается надежда, что завершенное к 2003 году "Кольцо" станет, действительно, подарком к 300-летию Санкт-Петербурга и окончательно вернет городу, трижды менявшему на протяжении прошлого столетия свое имя, его подлинное "петербургское" лицо.
Поль Р. Рихард Вагнер и Александр Николаевич Серов
"Можно утверждать уверенно, что во всем мире у Вагнера едва ли был более восторженный, более самоотверженный и при этом более понимающий апостол нежели русский критик Серов".
Оскар фон Ризенманн, 1923
По поводу августа 1859 года Вагнер пишет в "Моей жизни": "Наконец, из Петербурга приехал и Александр Серов, чтобы провести в моем обществе некоторое время. Это был оригинальный, интеллигентный человек, определенным образом ставший на сторону листовской и моей музыки. В Дрездене он слышал "Лоэнгрина" и хотел ближе ознакомиться с моими работами, в чем я должен был ему помочь, изобразив "Тристана" со свойственной мне манерой исполнения".
После Михаила Бакунина Серов был вторым известным русским, который вступил с Вагнером в личный контакт. Кто был этот человек, который одним из первых, слышал звуки "Тристана", а сегодня в обширной западной литературе о Вагнере оказывается – и напрасно – почти забытым?
Александр Николаевич Серов родился в Санкт-Петербурге в 1820 году. Параллельно со своей государственной службой он как любитель начал заниматься музыкой и стал одним из основателей русской музыкальной критики. Решающими стали для Серова личные встречи с Глинкой и Даргомыжским в 1842–1843 годах. Будучи необычайно восприимчивым, Серов с течением времени приобрел большие познания в музыкальной, литературной и философской областях, так что неудивительно, что различные искусства стали для него вскоре единым полем творческой деятельности: в поэтическом искусстве он чувствовал музыкальное первоначало, музыка без поэтической идеи была для него невообразима.
Серов боролся против "костюмированного концерта" итальянской оперы, для которой "драма служит лишь предлогом". Тем самым он выступал за идеи Глинки, "Жизнь за царя" которого представлялась ему первой русской музыкальной драмой.
"Мой идеал – драматическая правда в звуках, – писал он в предисловии к своей опере "Рогнеда", – хотя бы для этой правды, ради характерности музыки пришлось жертвовать условною красивостью, "галантерейным" изяществом музыкальных форм". В центре каждого сценического произведения должен стоять его смысл, музыка должна полностью подчиняться требованиям истинной драматургии.
Идею "чистого искусства" Серов категорически отвергал. Красота как таковая не имела для него никакого значения – разве только, если она являлась единой с представляемой правдой жизни. Задача русской оперы виделась в том, чтобы сделать язык русской народной песни музыкальной основой вокальной партии. Музыка со своей стороны должна была отражать душевный мир человека, "непосредственное выражение самых глубоких тайников чувства, которые недоступны для всех прочих способов выражения" (из письма к Стасову, 1841). Такая верность чувству могла быть свойственна, прежде всего, драматической музыке, которую Серов считал вершиной музыкального развития. И "все более дробные роды сливаются в океане драматической музыки, оперы" (там же). Здесь явно заключена одна из ранних формулировок идеи Gesamtkunstwerk'а – задолго до того, как Серов познакомился с вагнеровской теорией!
Очень скоро Серов распознал в "Вольном стрелке" Вебера великое проявление "драматизма и объективности" в оперной музыке (из письма к Стасову, 1842), причем здесь им прежде всего руководила идея, которая лежала в основе его понимания русской оперы: идея народности. Главное, "чтобы вся музыка оперы в мелодиях дышала духом народной музыки, т.е. духом песен и всех истинно национальных мелодий" (там же).
В немецком "Вольном стрелке" Серов видел это стремление – несмотря на критику отдельных частностей – осуществленным. "По моему мнению, музыка так же, как и всякий другой человеческий язык, должна быть неразлучна с народом, с почвою этого народа, с его историческим развитием" (1866). Представителем музыки – и вместе с тем поэтической идеи – является мелодия. "Без нее все бледно, бесцветно, мертво, несмотря на самые принужденные гармонические сочетания, на все чудеса контрапункта и оркестровки" ("Спонтини и его музыка", 1852). Полное единство поэтической мысли, мелодии и жизненной правдивости станет для Серова основой музыкальной драмы, "самой совершенной музыкальной формы".
Его антипатия была направлена против всякого рода формализма в искусстве, как и против постановочных излишеств больших опер Мейербера или меломанского поклонения вокалу в итальянской опере. Это однако не заставляет его – при всей полемичности – отрицать чисто музыкальные качества, скажем, Россини или Спонтини; но при этом неуклюжие либретто, которые лишь дают повод, а не являются целью драматических событий, он критикует остро и с риторическим блеском. Подлинным предшественником Вагнера в сфере музыкальной драмы Серов признавал только одного композитора: Глюка. "Глюк, создавая музыкальную драму, первый уразумел, что главные условия ее те же, как и драмы словесной, что музыкальная драма прежде всего должна быть драмою... Для него правда выражения стояла несравненно выше собственномузыкальной красоты…" ("Спонтини…", 1852). Поэтические недостатки глюковсих опер Серов приписывает прежде всего стилю самой французской драмы того времени. Во всем этом нельзя не заметить очевидные параллели к идеям Рихарда Вагнера в Германии; и потому неудивительно, что Серов находил свой идеал в значительной степени осуществленным в "Фиделио" Бетховена.
Так называемая программная музыка новонемецкой школы находилась в центре интересов Серова; с Ф. Листом он неоднократно встречался в Веймаре: "знакомство с Серовым было весьма приятно для меня... Манера его интерпретации Бетховена с ее полным проникновением в произведение сообщила мне высокое мнение о его музыкальных способностях. Он обладает тем духовным слухом, который ничем нельзя заменять" (из письма Листа к Ленцу, 1.07.1858).
В 1852 году еще до публикации вагнеровских писем на русском языке, Серов представил его понимание музыкальной драмы, в своей статье "Спонтини и его музыка". В ней Серов предстает как подлинный театральный практик: "Итак эффектность, сценичность – необходимые условия оперы, но эта сценичность никак не должна переходить в чисто внешнюю декорационность".
После первой личной встречи с Вагнером в 1859 году Серов делал все, чтобы заманить Вагнера в Россию. В 1860 году Вагнер получил предложение посетить ближайшей зимой Санкт-Петербург с тем, чтобы продирижировать большими концертами и представить своего "Тангейзера" с гарантированным гонораром в 50000 франков. Биограф Вагнера Глазенапп пишет: "Как главный мотив этого странно настойчивого приглашения можно было легко распознать честолюбивый план приобретенного в Люцерне русского друга Серова, который... приложил все силы, чтобы явно выгодным предложением переманить его с берегов Сены на берега Невы". К сожалению, Вагнер отказался. Возможно, согласись он на эту поездку в Россию, провала "Тангейзера", который предстоял ему в Париже, можно было бы избежать...
В 1863 году Вагнер последовал приглашению Филармонического общества в Петербурге и дал как дирижер концерты, представив на них и фрагменты собственных сочинений.
"Прием, приготовленный ему в лежащем далеко на северо-востоке городе, испытанные там триумфы в своих блестящих проявлениях оставили далеко позади все до сих пор пережитое" (Глазенапп). Вагнер вспоминал позже об обедах в своем пансионе на Невском проспекте, "моим частым гостем был Александр Серов, с которым я познакомился еще в Люцерне. Он посетил меня, как только я приехал в Петербург. Здесь он занимал жалкое положении цензора немецких журналов... (Он) заслужил мое уважение большой независимостью своего образа мыслей и своей правдивостью, которые в связи с выдающимся умом доставили ему, как я скоро узнал, положение одного из наиболее влиятельных и внушавших страх критиков" ("Моя жизнь").
"Signale für die musikalische Welt" сообщали: "В Санкт-Петербурге 3 марта состоялся первый концерт Р.Вагнера, прошедший с блестящим успехом; оный получает за каждый концерт по 1000 рублей. Были исполнены: Героическая симфония Бетховена, хор матросов, баллада и увертюра из "Летучего голландца", интродукция к "Лоэнгрину", марш с хором, романс и увертюра из "Тангейзера". На бис Вагнер сыграл русский национальный гимн. Оркестр состоял из 130 музыкантов императорского театра" (1863. № 15). И "Новая Берлинская музыкальная газета" ликовала: "Рихард Вагнер является героем дня. Его называют уже вторым Бетховеном" (1 апреля 1863).
Серов не только лично сопровождал Вагнера, но и обеспечивал его концерты предваряющими аннонсами и критическими статьями. "Сочинения Вагнера – это непосредственное продолжение всего самого совершенного, что создавалось до сих пор в области драматической музыки". И он расписывал петербуржцам "громадную даровитость этого музыкального философа, композитора и поэта. Не надобно забывать, что Вагнер, по литературной образованности стоит наряду с первыми поэтами и мыслителями нашего времени…"
В центре его внимания, однако, находилась вагнеровская музыка. При этом Серову было совершенно ясно одно: "Большая часть из созданного Вагнером теряет половину своего достоинства при исполнении в концертном зале. Настоящее место для созданий Вагнера – сцена, театр и оркестр, неразлучный с театральною сценою". Он пытается познакомить публику с содержанием произведений, чьи фрагменты прозвучали в концертах и его описания не лишены поэтической образности: "Говорят про "Сикстинскую мадонну": Это не картина, это видение. Точно с таким правом следует сказать о прелюдии к "Лоэнгрину": Это не музыка – это видение!"
Большое значение имеют для музыкальной истории свидетельства Серова о Вагнере-дирижере: "Таким дирижером может стать один только такой творец музыки как Вагнер". – "В первом концерте "Героическая симфония" предстала впервые перед петербургскою публикою в полном своем величии". Даже для Серова новыми были фрагменты из "Валькирии" и "Зигфрида" в концерте от 6 марта 1863 года в Большом театре. Вагнер: "Он хлопотал о переводе на русский язык текстов тех отрывков моих опер, а также моих объяснительных программ. Он оказал мне также чрезвычайно полезное содействие при выборе подходящих певцов" ("Моя жизнь"). И Вагнер резюмирует: "Между мною и Серовым… существовало полное согласие. Меня самого, все мои стремления он понимал с такою ясностью, что нам оставалось беседовать только в шутливом тоне, так как в серьезных вопросах мы были с ним одного мнения" (там же).
Наряду с Петербургом Вагнер дал также концерты в Москве. Наконец, он возвращается, богато одаренный Императорским двором, избранный почетным членом Петербургского Филармонического общества в Германию. Вагнер: "Только в Петербурге и Москве я пережил чудо, будучи впервые принимаем газетами совершенно так же, как и публикой" (цит. по Глазенаппу). Вагнер взвешивал возможность окончательного переселения в Россию: "Если ничего не выйдет, я поселюсь здесь в Петербурге, где мне очень нравится" (из письма к Матильде Майер, март 1863).
Контакт Вагнера с Серовым никогда не прерывался. В 1864 году оба встретились в Вене, о чем позже Валентина Серова, вдова художника, рассказала в своих "Воспоминаниях":
"Серов раз, вернувшись из города, буквально влетел ко мне в комнату запыхавшись, с сияющим лицом, и сообщил мне следующее известие: сегодня Вагнер у нас будет в гостях. Боже мой!.. сердце тревожно забилось... я стояла, как вкопанная... Серов начал убирать наши две комнатки; до сих пор мы находили их достаточно нарядными, теперь же нам обоим силось в глаза их убожество. Стали переставлять мебель и так и сяк... комнаты остались убогими, и даже наскоро сорванные букеты их нимало не разукрасили. Не успели мы еще основательно одуматься, как в уединенной нашей аллее раздался конский топот, и мигом подкатила к подъезду пара вороных, запряженных в четырехместную роскошную коляску. Я кормила залетевшую случайно к нам птичку, гостившую у нас уже несколько дней. Серов поспешил навстречу Вагнеру, у меня же затуманилось в глазах; не выпуская птички из рук, я следила глазами за приветствием двух друзей. Вот... целуются... уже в переднюю вошли... дверь отворяется в комнату... руки у меня задрожали, птичка упорхнула под диван... Вагнер стоял на пороге! Серов только что собрался меня представить, сказав: Моя жена..., как меня точно какая-то неведомая сила толкнула броситься за птичкой под диван. Вагнер смекнул разом, что за "особа" была представляемая Фрау Серов; не долго думая, он последовал за мной и, поймав птичку, любезно передал ее мне. Когда мы оба покинули место нашего первого знакомства, он добродушно-лукаво подшутил надо мною, сказав Серову: – Я уже познакомился с Вашей дорогой женой, – и, шутливо грозя пальцем, пробормотал: – Черт возьми, не слишком же стара Ваша жена. – Так вот Вы где обитаете, дружок? – добавил он. Если Серов был жизнен, подвижен, юрок, то Вагнер еще в гораздо большей степени соединял в себе все эти свойства. Положительно, ему не сиделось на месте… В беседе с Серовым о будущих планах, о мюнхенском театре, о переделке "Тангейзера", прошло время до появления луны; Вагнер нежно распростился с Серовым, довез нас до нашей хаты и умчался, упоенный надеждой на будущее, верой в настоящее… – Единственный музыкант нашего времени, которому я уступаю в силе своих мыслительных аппаратов, в силе энергии, это он. Но только ему! –сказал Серов. – Перед ним я пасую, чувствую себя более слабым партнером, поэтому я всегда так счастлив, когда его вижу; я залюбовываюсь им как чудным феноменом богатой природы".
В 1868 году дирекция Петербургских Императорских театров решила поставить "Лоэнгрина" Вагнера. По особому желанию композитора Александр Серов должен был представлять его при разучивании оперы на сцене Мариинского театра. Отчет Серова Вагнеру, опубликованный в "Журнале Санкт Петербурга", – это первое свидетельство о вагнеровской постановке в России:
"Мой знаменитый друг! Вследствие Вашего письма директору Императорских театров я имел удовольствие, как Ваш уполномоченный руководить всеми репетициями "Лоэнгрина", которые начинались в июле. 4 (16) октября "Лоэнгрин" с блестящим успехом был представлен петербургской публике. Вам давно известно мое горячее восхищение Вашими творениями и то, что я не прекращаю изучать Ваши новые сочинения, которые, по моему мнению, далеко превосходят "Лоэнгрина", поэтому Вы не будете требовать от меня, чтобы я здесь представил длинный ряд хвалебных речей в адрес красот этой лирической драмы, которая вот уже десять лет не сходит с репертуара всех оперных сцен Германии и завоевало себе бесспорное почетное место в ряду величайших шедевров. Тем не менее, Ваш успех в России, хоть он и пришел с опозданием, является событием высшей важности, как для судьбы музыкальной драмы у нас, так и для воспитания публики. Этот успех, завоеванный по всей линии фронта без малейшего сопротивления, кажется почти удивительным, если принять во внимание прежнее недоверчивое отношение "резиденции мира" к Вашим сочинениям, и все же он – факт и должен явиться поворотным пунктом в истории искусства и цивилизации славян. Вы имеете право ожидать от меня отчета обо всех подробностях перевода, инсценировки и исполнения Вашего шедевра. Я счастлив, что этот отчет может быть во всех отношениях благоприятным".
После того, как Серов познакомился в Мюнхене с последними сценическими произведениями Вагнера, он и его жена в июле 1869 года провели несколько недель в гостях у Козимы и Рихарда Вагнеров в Трибшене вблизи Люцерна. Валентина Серова рассказывает о деталях приватной жизни:
"Своего сына мы нашли бесстрашно сидящим верхом на громадной ньюфаундлендской собаке, а рядом с ним – голубоокая, златокудрая сверстница его, дочь Вагнера Ева, закатывалась звонким голоском и подзадоривала собаку, погоняя ее усердно: – Русс! (кличка собаки) иди! иди же! ну, Русс! Вагнер взял Еву за руку и направился к озеру. Девочка потянулась назад, жалобно протестуя: – Ева не хочет купаться! – думая, что ее ведут купаться. Вагнер успокоил девочку. – Пойдем, давай разыщем маленького русского! – сказал он. Тогда забрали всю детскую компанию гулять. Тоша, сын наш, отправился верхом на Руссе, Изольда и Ева с куклами побежали за ним, а грудной Зигфрид, покоившийся на руках швейцарки-кормилицы, громко гикал от удовольствия. Вагнер рассказывал, смеясь, как Русс свирепо оберегал вход в его парк, так что любознательные англичанки не раз пищали от страха, приближаясь к решетке, и трусливо поворачивали вспять, когда этот черный Цербер лаял на них… Вагнер немало удивлялся тому, что мы без боязни всюду брали его (сына – ред.) с собой, и тому, что он так легко подчиняется всевозможным условиям. – О, русские – энергичный народ! – говаривал он.
***
Однажды влетел к нам разволновавшийся лакей отеля с докладом: – Господа с виллы Трибшен! Козима, одетая с изяществом, соответствующим прихотливейшим требованиям тонкого визитного костюма, поднималась по лестнице, грациозно опираясь на руку Вагнера, одетого в серое пальто, висящее мешковато на его маленькой, худощавой фигурке; большая, с широкими полями, черная шляпа, надетая несколько на бок "а 1а Вотан", придавала его подвижному лицу оттенок простодушной, немецкой Biederkeit, что, конечно, в высшей степени контрастировало с изящной, высокой, элегантной Козимой.
***
Посидев недолго, Вагнер и Козима собрались домой, и мы выразили желание сопровождать их до лодки. Дорогой Вагнер обратился ко мне со следующими словами: – Отчего так унылы? Озабочены недомоганием мужа? – Действительно, мне было неимоверно тяжко в последние дни, потому что Серов снова затянул унылую нотку о том, что не кончит "Вражью силу"; к тому же болезнь начала принимать более угрожающую форму... Впрочем, хандра являлась только моментами и не очень часто. Визит Вагнера совпал с одним из подобных злосчастных дней, и потому вид бледного, болезненного лица Серова встревожил Вагнера. Он старался ему выказать самую теплую, нежную привязанность. Рука в руку прошли они по Люцернскому бульвару, по которому толпа иностранцев проходила, почтительно сторонясь перед знаменитым люцернским отшельником… Наконец, наступил прощальный визит. Вагнер был особенно мягко настроен; он рассказал нам про свою болезнь, когда он умирал в Венеции. На прощанье подарил он Серову весь "Перстень нибелунгов" со своим портретом в берете, с надписью: "Also Tribschen!" Как-то особенно ласково поглядывал Вагнер на него и, расцеловавшись с ним по-братски нежно, грустно воскликнул: – Вот и конец радостям Трибшена. Мы уехали, чуть не рыдая. Берега нам показались угрюмыми, озеро неприветливым… Мы словно осиротели… Это было последнее его свидание с Вагнером".
Неоднократно Козима в своем дневнике упоминает переписку с Серовым. Сообщение из России о смерти Серова потрясает Вагнеров: "мы потеряли в нем прекрасного, истинного, по-детски преданного нашему делу друга", записывает госпожа Козима 9 февраля 1871.
Сам Вагнер нашел трогательные слова в письме, которое он вскоре после смерти Серова отправил в Санкт-Петербург:
"Конец нашего друга рождает во мне мысль о том, что смерть не может лишить нас поистине благородного и горячего любимого человека. Для меня Серов не умер, его образ неизменно живет во мне, лишь его усердным заботам обо мне поставлен предел. Он был и остается тем, чем был – одним из самых благородных людей, которых я могу себе только представить. Его нежная душа, чистые чувства, живой и образованный ум сделали проникновенную дружбу, которой он меня одарил, одним из самых ценных сокровищ всей моей жизни...".
В сообщении о постановке "Тангейзера" в Дрездене Серов в 1858 году резюмировал, в чем для него состояло достижение Вагнера, а именно в том, что в его произведениях "драма вызывает картинность положения, и эти драматические картины в своей глубочайшей поэзии сливаются в одном аккорде с чарующими звуками голоса и оркестра…" – "У Вагнера мелодия парит постоянно, у него поет каждый голос, каждый инструмент оркестра – но поет с толком, не разлучаясь с драматическим смыслом...". И он указывает на триединство, из которого должна рождаться музыкальная драма: "l. поэзия как смысл оперы…; 2. музыка, музыкальное существо драматической задачи; 3. театральное, и сценическое... осуществление той же задачи". В русской опере Серов признавал к тому времени только одно произведение, в котором это взаимодействие искусств – с некоторыми ограничениями – было бы осуществлено: "Жизнь за царя" Глинки. Поэтому неудивительно, что Серов написал однажды сестре: "Чем больше я вживаюсь в Вагнера, тем больше нахожу моменты родства с Глинкой, которые прямо-таки бьют в глаза". Это редко замечаемое родство, на которое Серов здесь справедливо указывает: в "Руслане и Людмиле" Глинка тоже в инструментовке и гармонии приходит к решениям, поразительно похожим на позднего Вагнера – хотя они (насколько сегодня известно) даже не знали друг о друге!
Среди своих современников Серов только в "Русалке" Даргомыжского видел "стремление к серьезной драме на сцене, к настоящей трагедийности, к драматической правде". Это стремление совпадает для Серова со стремлением к русской национальной опере. Ему не довелось пережить время русской музыкальной драмы, произведения Мусоргского, Чайковского и Римского-Корсакова. Однако его многолетняя борьба за музыкальную драму создала теоретические основы для этого развития. А потому Козима Вагнер не совсем не права, когда назвала однажды Александра Серова "русским Рихардом Вагнером". Более высокого признания она никогда не высказывала.
Цитируемая литература
Glasenapp C.F. Das Leben Richard Wagners. B. 3–4. – Leipzig, 1904–1905.
Riesemann O. von Monographien zur russischen Musik. B. 1. – München, 1923.
Wagner C. Die Tagebücher. B. I. – München, 1976.
Вагнер Р. Моя жизнь. Т. 3. – СПб, 1912.
Серов А.Н. Избранные статьи. Т. 1. – М.;Л., 1950.
Серова В.С. Cеровы Александр Николаевич и Валентин Александрович. Воспоминания. – СПб., 1914.
Перевод Э.. Махровой
Климов П. Рихард Вагнер и Павел Жуковский
Павел Климов
(К истории первой постановки "Парсифаля" в 1882 году)
Среди людей, окружавших Вагнера при жизни, были и русские. Среди них наиболее заметная фигура – художник Павел Васильевич Жуковский (1845–1912). Это имя, почти забытое в России, на Западе достаточно хорошо известно именно в связи с Вагнером. Жуковский являлся автором декораций и костюмов к первой постановке "Парсифаля" в Байройте и, кроме того, самым близким другом семьи Вагнера в последние годы жизни композитора.
Жуковский был сыном поэта-романтика В.А. Жуковского и Елизаветы фон Рейтерн, дочери немецкого художника Герхарда фон Рейтерна, работавшего для русского двора. Судьба Жуковского сложилась таким образом, что большую часть жизни он провел за границами России, где, благодаря не столько таланту, сколько своим исключительным человеческим качествам, удостоился дружбы таких замечательных людей как И.С. Тургенев и Ф. Лист, Ф. Ленбах и А. Бёклин. Систематического художественного образования Жуковский не получил, но искренняя любовь к искусству помогла ему стать достаточно интересным живописцем. Тому свидетельством служат несколько работ художника, хранящихся в Русском музее и экспонировавшихся на выставке "Символизм в России".
С музыкой Вагнера Жуковский впервые познакомился в 1869–1870 годах, когда присутствовал на премьерах "Золота Рейна" и "Валькирии" в Мюнхене. Впечатлительного юношу не могла не захватить грандиозность вагнеровских постановок, сочетавших в себе яркую сценическую зрелищность. оригинальность музыкальных тем и глубину философского замысла. В начале 1870-х годов началось практическое осуществление мечты Вагнера о постройке в баварском городке Байройте "Дома торжественных представлений", где исполнялись бы его оперы. По всей Европе возникали ответвления и филиалы "Вагнеровского общества", созданного для поддержки этого масштабного проекта. Членом одного из таких обществ стал Жуковский. В августе 1876 года он находился в Байройте на премьерном показе всей оперной тетралогии "Кольцо нибелунга", включавшей "Золото Рейна", "Валькирию", "Зигфрида" и "Гибель богов". В те дни Жуковский встречался с женой композитора, Козимой Вагнер, которую знал еще по Мюнхену, но самому Вагнеру представлен не был. Козима, однако, в разговорах с мужем не раз тепло отзывалась о молодом русском художнике, и Вагнер запомнил его имя. Личное же их знакомство состоялось несколько лет спустя в Позиллипо близ Неаполя, где композитор работал над партитурой "Парсифаля".
Трудно сказать, была ли то счастливая случайность, или здесь присутствовал элемент определенной преднамеренности, но в январе 1880 года мастерская Жуковского в Позиллипо оказалась в нескольких минутах ходьбы от виллы Ангри, где поселилось вагнеровское семейство. Жуковский вспоминал:
"При таком близком соседстве я посчитал за долг посетить госпожу Вагнер: она поведала мне, что маэстро болен, однако приглашает меня как-нибудь вечером после его выздоровления в гости, и сказала, что мое имя ему известно еще с Байройта. Я ощутил известную робость ввиду возможности оказаться рядом с великим человеком: так много я, как и все, наслышался о "непредсказуемости" и "скверности" его характера, что думал, будет умнее судить о нем только по его великолепным произведениям. Позднее я от него узнал, что перспектива знакомства с русским, с которым, как он полагал, придется говорить только по-французски, была ему не слишком приятна. Когда я однажды вечером (в воскресенье, 18 января) явился на виллу Ангри, то получилось все совершенно иначе, чем мы оба ожидали. Я нашел Вагнера оправившимся от болезни, радостно взволнованным, бесконечно милым и снисходительным. Мое знание немецкого языка, бывшего языком моей матери, по-видимому, оказалось для него приятной неожиданностью. Этот вечер был незабываем и остался в моей памяти навеки. Мгновенно между нами возникла глубокая взаимная симпатия, которая вскоре привела к необходимости ежедневного общения. Снова и снова со стороны его и госпожи Вагнер я слышал любезную фразу: "Вы скоро придете к нам опять?"
Жуковский импонировал композитору не только своими человеческими качествами, но и художественным талантом. Вагнер с интересом рассматривал его старательно сработанные портреты, пейзажи, религиозные композиции. "Гений, который пишет с чувством", – так однажды представил Вагнер гостям своего нового друга. Вероятно, впечатления от произведений Жуковского были усилены тем, что художник хорошо знал Ленбаха и являлся его учеником. Вагнер очень высоко ценил Ленбаха. В 1872 году он писал Фридриху Ницше: "Я уже сказал Козиме, что после нее больше всего люблю Вас и потом уже Ленбаха, написавшего с меня поразительный по сходству портрет". Если учесть все эти обстоятельства, то совершенно неудивительно, что спустя всего месяц после знакомства Вагнер заказал молодому и мало кому известному русскому живописцу большой, в натуральную величину, портрет жены, а затем решил ему доверить и оформление "Парсифаля", своей последней великой оперы.
Первоначально предполагалось, что исполнение декораций и костюмов к "Парсифалю" возьмет на себя Арнольд Бёклин, прославленный "живописец кентавров и нереид". Особенно этого хотела Козима, добивавшаяся согласия Бёклина с весны 1878 года. Однако Бёклин отказывался. Художник не разделял идей Вагнера относительно музыкальной драмы – универсального произведения, в котором бы слились в синтетическое целое музыка, поэзия и изобразительное искусство. Хорошо зная весьма деспотичный характер композитора, Бёклин не сомневался, что Вагнер постарается подчинить его волю своей и без колебаний принесет в жертву музыке все остальные элементы сценического действа. В июле 1880 года Бёклин посетил чету Вагнеров на вилле Ангри. Снова последовали уговоры и снова отказ. Тогда, видя неуступчивость Бёклина и, вероятно, понимая, что ему в качестве сотрудника был бы нужен совсем другой человек, безусловно бы следовавший всем его указаниям, Вагнер окончательно остановился на кандидатуре Жуковского, художника не только талантливого, но и бесконечно преданного композитору.
На подготовку эскизов декораций и костюмов оперы ушло почти два года напряженного труда. Весь творческий процесс строго контролировался самим Вагнером, прямо указывавшим Жуковскому на необходимость того или иного художественного решения. Декорации дворца и волшебного сада Клингзора, храма Грааля имели реальные прототипы, выбранные Вагнером во время его совместных с Жуковским путешествий по Италии. Композитор и художник почти не расставались. Жуковский неизменно следовал за Вагнером. Осенью 1881 года он писал другу:
"...я совершенно поселился со всеми вещами в Байройте и здесь будет мне всегдашняя летняя квартира; я в этом году написал пять эскизов для декораций "Парсифаля", нарисовал все костюмы и написал, кроме того, большой портрет и большую картину. Все это для Вагнера и даром, ибо служить тому, кого любишь – счастье. Живу я в монастыре, вижу только семейство Вагнера и рад, что не приходится видеть никого другого. Интимная жизнь... с единственным несомненным гением и великим характером, которого знаю, заменяет мне все – Отечество, друзей, Италию – все. А работа идет в этой глуши лучше, чем когда-либо, тем более, что она делается для этой глуши и не просится наружу... Это был лучший год моей жизни и единственный, достойный человечества".
Вместе с тем творческому содружеству композитора и художника пришлось испытать и трудные минуты. Нетерпеливый, раздражительный характер Вагнера то и дело давал о себе знать. Об одном таком эпизоде вспоминал фотограф Ганс Брандт, работавший в Байройте: "Было уже написано много эскизов на большой картонной доске, однако Вагнер оставался недоволен. Художник был в отчаянии. Однажды, как раз во время моего разговора с Жуковским, вошел внутренне раздраженный Вагнер, взглянул на новый эскиз волшебного сада, бросил его тотчас в угол к остальным и взволнованно закричал: "Не то! Эти цвета не подходят к моей музыке. Если бы я только мог рисовать!" Ничего не говоря, как он представляет этот волшебный сад, он, не попрощавшись, выбежал из комнаты".
Несмотря на подобные эпизоды, отношения между Вагнером и Жуковским долгое время сохранялись самые теплые и доверительные. В Байройте художник жил в десятке метров от вагнеровской виллы Ванфрид. Специально для него хозяин приказал проделать маленькую дверь в садовой стене. Имея ключ от этой двери, Жуковский в любой момент мог оказаться у Вагнера, не предваряя свой приход никакими формальностями. Подтверждением тесной дружбы между художником и композитором служили и знаки внимания, которые они оказывали друг другу. Однажды Жуковский преподнес Вагнеру на день рождения картину "Святое семейство", на которой сын Вагнера, Зигфрид, предстал в виде Христа, дочери в виде Богоматери и ангелов, а сам художник – в виде Св. Иосифа. К другому дню рождения композитора Жуковский расписал деревьями, птицами и цветами огромный многометровый кусок атласной материи, украсившей, наподобие ковра, один из залов виллы Ванфрид. Не менее драгоценные подарки делал Жуковскому и Вагнер. Так, в 1882 году он намеренно приурочил ко дню рождения художника окончание партитуры "Парсифаля", а на будущий год к такому же событию написал "Жуковский-марш", рукопись которого вручил своему русскому другу.
Весной 1882 года приготовления к постановке "Парсифаля" вступили в свою заключительную фазу. Над декорациями по эскизам Жуковского работали опытные театральные художники братья Макс и Готхольд Брюкнеры из Кобурга, а костюмы и реквизит готовила известная франкфуртская фирма Плеттина и Шваба. По мере приближения сроков премьеры, назначенной на конец июля, нервозность Вагнера возрастала. В частности, композитора не во всем удовлетворили пробные испытания костюмов и декораций. Большую часть вины за неудачи он возложил на Жуковского, ранее не имевшего опыта работы в театре и действительно допустившего несколько ошибок. Среди них были и курьезные. Так, например, художник долго и любовно расписывал и украшал сундук, в котором должна была храниться священная чаша Грааля. В результате уже затраченный труд пропал даром, ибо сундук оказался слишком тяжел, чтобы артисты могли носить его по сцене.
Для Жуковского в Байройте настали трудные дни, отмеченные явным охлаждением к нему со стороны Вагнера. Занимаясь исправлением декораций и костюмов, а затем, во время представлений, заведуя реквизитом и постоянно находясь за кулисами, художник в суете трудового дня гнал от себя тоскливые мысли. Но они вновь овладевали им, когда он оставался в одиночестве. Неблагодарность Вагнера отзывалась тем большей болью, что Жуковский во время жизни в Байройте залез в долги: бесплатная работа для Вагнера серьезно сказалась на его материальном благосостоянии. Осознав свое настоящее положение как невыносимое, страстно желая вновь обрести независимость, художник принял решение продать часть своего имущества и уехать из Байройта в Веймар, куда его приглашали великий герцог Александр Саксен-Веймарский и Ференц Лист.
Осень 1882 года, проведенная в Веймаре, вернула Жуковскому душевное равновесие. Где-то в ноябре он получил письмо из Венеции от Козимы Вагнер. "Она писала, – вспоминал художник, – что Вагнер, собственно, совершенно не может понять, что между нами произошло и почему я не рядом с ним. Лист, которому я ничего не сказал, уезжал в ноябре к Вагнерам и сказал при отъезде: "До встречи в Венеции!" Эти прощальные слова Листа подтолкнули Жуковского к поступку, на который он до того никак не мог отважиться. Художник решил вернуться к Вагнеру.
В Венецию Жуковский приехал в начале декабря и был с радостью встречен Вагнером, сказавшим ему в порыве пылкой откровенности: "Друг, мы с Вами прошли огонь и воду, теперь нас может разлучить только смерть". Художник поселился у Сан-Тровазо, в пятнадцати минутах езды на гондоле от виллы Вендрамин, где квартировали Вагнеры. Начались незабываемые дни, которые позднее Жуковский назовет, может быть, самыми счастливыми в своей жизни. Созерцание красот Венеции и общение с двумя музыкальными гениями, Вагнером и Листом, вызвали у художника прилив творческого вдохновения. Идею одной из картин, над которыми он тогда работал, ему подсказал Вагнер. Однажды композитор увидел гребца, ежедневно подвозившего Жуковского от Сан-Тровазо к вилле Вендрамин. "Напишите же его, – сказал Вагнер, – он выглядит как больной орел". Так появилось на свет едва ли не лучшее произведение Жуковского – "Последний гондольер" или "Портрет гондольера и его матери". Строгая двухфигурная композиция не являлась портретом в обычном смысле слова. Это был скорее портрет-картина. Глубокое жизненное содержание сочеталось в нем с возвышенным символическим смыслом. Тема увядания, смерти, неукротимого бега времени, прочитывавшаяся в образах уже немолодого мужчины и прильнувшей к его плечу старухи, усиливалась изображениями треснувшего мраморного надгробия и увитого зеленью античного портика. И все же тихая нежность, искренняя любовь, светившиеся в лицах персонажей полотна, говорили о конечной победе духа. Увидев "Последнего гондольера" в мастерской художника, Вагнер шутливо заметил: "Наконец-то Вы написали хорошую картину". Жуковский был совершенно счастлив. Но всего через несколько дней после этого совершилась трагедия. 13 февраля 1883 года Вагнер скончался от сердечного приступа.
Предчувствие, что он скоро потеряет Вагнера, не покидало Жуковского давно. Оно еще более усилилось после слов композитора, что их теперь "может разлучить только смерть". Зимой 1883 года художника с нетерпением ждали в России, где 10 февраля вся страна собиралась торжественно отметить столетие со дня рождения его отца. Вагнеры настойчиво уговаривали Жуковского съездить ненадолго в Петербург, но он решительно отказывался. "Я... остался в Венеции, – писал позднее художник, – потому что мной овладел страх, что Вагнер может умереть". Жуковский также лелеял мечту написать в Венеции портрет композитора, ранее не соглашавшегося ему позировать. 12 февраля, накануне смерти Вагнера, художник сделал с него беглый набросок карандашом. Этот графический портрет, изображающий композитора за чтением романтической повести Фридриха Фуке "Ундина" (известной русскому читателю, между прочим, в переложении В.А. Жуковского), хранится ныне как драгоценная реликвия в вагнеровском центре в Байройте. Смерть Вагнера потрясла Жуковского. Переживания художника были усугублены к тому же тем, что на его долю пали хлопоты по перевозке тела композитора из Венеции в Байройт. Проводив Вагнера в последний путь, Жуковский вернулся в Италию и оставался там еще год, после чего по приглашению великого герцога Саксен-Веймарского переселился в Веймар, где ему была предоставлена мастерская в Академии художеств. Так завершился интересный этап творческой и жизненной биографии П.В. Жуковского, первого среди русских художников, оформлявших в разные годы постановки вагнеровских опер.
Рихтер К. Вагнер и Скрябин – два творца "Gesamtkunstwerk'а" своей эпохи
Если ставишь перед собой задачу выявить связи, переклички и, возможно, даже черты родства между Рихардом Вагнером и Александром Скрябиным, то это кажется на первый взгляд благодарной темой. Творчеству Вагнера, как и творчеству Скрябина, была свойственна явная склонность к гигантизму, оба художника были исполнены мессианским сознанием своего творческого предназначения, оба были визионерами и своим творчеством открыли для развития музыкального искусства новые перспективы, ведущие далеко в ХХ столетие.
Таковы лишь немногие спонтанные ассоциации, которые напрашиваются сами, если имена Вагнера и Скрябина звучат рядом; но они не создают, конечно, никакой системы координат, которая позволила бы сформулировать точные положения, а потому необходимо присмотреться к проблеме внимательнее, чтобы обнаружить необходимую систему сравнения.
Я позволю себе определить три возможные пути сравнения:
Биографии Вагнера и Скрябина хорошо известны, или, по крайней мере, в своих основных контурах хорошо известны. Для лучшей ориентировки, тем не менее, несколько кратких замечаний.
Рихард Вагнер родился в 1813 году, в год "битвы народов" при Лейпциге, в том же году, что и Карл Маркс и Джузеппе Верди, а умер в 1883 году в Венеции. Вагнер считается сегодня одним из выдающихся, если не самым выдающимся немецким оперным композитором, но при этом часто не учитывается, что главные композиторские достижения Вагнера и корни его музыкального дарования находятся, собственно, не в опере, а в сфере симфонической музыки. В процессе знакомства с современной ему театральной практикой он пришел к осознанию необходимости реформы традиционной формы оперы и противопоставил ей в своих собственных произведениях новый тип "музыкальной драмы", основанной на мифологических сюжетах. Тем самым Вагнер хотел преодолеть традиционное расщепление отдельных видов искусства и внести одновременно свой вклад во внутреннее, духовное обновление публики. Так как он не имел желаемого успеха в официальных театрах того времени, Вагнер оказался вынужденным построить собственный, идеально соответствующий его представлениям театр. При поддержке баварского короля Людвига II такой театр был сооружен в Байройте. В 1876 году там состоялась премьера четырехчастного цикла драм "Кольцо нибелунга", а в 1882 – "сценическое священное торжество" "Парсифаль".
Александр Скрябин родился в 1872 году в Москве. Его мать – пианистка Любовь Петровна Скрябина, чей талант признавали в числе других Антон Рубинштейн, Александр Бородин и Петр Чайковский. После слишком ранней смерти матери юный Скрябин тоже начинает заниматься фортепиано, он обнаруживает большую музыкальную одаренность и предпринимает первые попытки сочинения музыки; это происходит в 1883 году, в год смерти Вагнера. В 1892 году Скрябин с успехом завершает учебу, однако экзамена по композиции ему сдать не удается. После ряда успешных концертных турне и сочинения многочисленных фортепианных пьес, преимущественно миниатюрных, Скрябин обращается к оркестровой музыке и одновременно преподает фортепиано в Московской консерватории. Начиная с 1899 года, возникают одно за другим 6 симфонических произведений, тональный язык которых становится все более самобытным, а партитуры все более сложными. Такие произведения, как op. 43, op. 54 и op. 60, то есть "divin poeme", "poeme de l'extase " и "poeme du feu", демонстрируют творческое развитие, уводящее Скрябина от "чистой" музыки и заставляющее искать новые, так сказать "совокупные художественные" формы. Его последнее произведение, "Мистерия", которая, по представлениям Скрябина, должна была иметь поистине космические масштабы, осталась незавершенной, также как и предшествующее "Мистерии" "Предварительное действо", для которого были сделаны лишь несколько музыкальных эскизов. Истощенный работой, а также постоянными концертными турне Скрябин умирает в апреле 1915 года от отравления крови.
Таковы краткие, достаточно поверхностные эскизы творческого пути Вагнера и Скрябина, которые тем не менее позволяют определить в контурах нечто существенное. К этому следует добавить, что Вагнер и Скрябин связаны друг с другом не столько непосредственными, сколько многочисленными косвенными связями. В русской музыкальной жизни начала ХХ века творчество Вагнера занимало очень прочное место. Не только как композитор, но и как теоретик, философ искусства Вагнер присутствовал в русской духовной жизни тех лет, его эстетические идеи были известны и широко обсуждались. Его представления о мифологическом "совокупном произведении искусства" перекликались с идеями русских философов и деятелей искусства; так, Владимир Соловьев, например, утверждал, подобно Вагнеру, "мистерию" как художественный жанр и отводил при этом ведущую роль музыке.
Скрябин был тесно связан с этими кругами. С некоторыми известными символистами он был лично знаком или дружен, например, с Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, Дмитрием Мережковским и Валерием Брюсовым. Если позже речь у нас пойдет о скрябинском замысле мистерии, нельзя забывать, что наряду с различными эзотерическими влияниями, прежде всего русский символизм дал Скрябину важные импульсы к такому замыслу. Идея Иванова о "всеискусстве" может трактоваться как прямая предшественница музыкальной эстетики Скрябина. Говоря упрощенно, именно русские символисты были "missing link", недостающим связующим звеном между Вагнером и Скрябиным.
Это то, что касается вопроса духовно-исторического континуума, духовной преемственности. Но это только один аспект. Даже если принять в расчет, что определенное влияние в том или ином направлении имело место, это еще не объясняет, почему такое влияние было возможным, почему восприимчивость к тем или иным идеям, что называется, витала "в воздухе". Откуда возникают художественные проекты того же Вагнера и Скрябина? Как художники, музыканты приходят к тому, чтобы вдруг покинуть поле "специальных дисциплин" и существенно расширить свою творческую компетентность за счет иных художественных областей?
Для сравнения: Йозеф Гайдн до конца своей жизни был ничем иным, как служащим своего господина, князя Эстерхази, и ему бы даже в голову не пришло заниматься чем-то еще кроме деятельности капельмейстера. Во времена Вагнера ситуация совсем иная. Как известно, дрезденский придворный капельмейстер Рихард Вагнер защищал свои революционные амбиции на баррикадах 1849 года, был на волосок от ареста и мог бы поплатиться, как многие его единомышленники, своей свободой. Скрябин, наконец, воспринимает сферу влияния своего художественного творчества еще более широко, охватывая всю историю человечества, весь космос. Что скрывается за такими представлениями, или, иначе говоря: что делает художника восприимчивым к таким идеям?
Решающее значение имеет, вероятно, историческое время. Вагнер и Скрябин жили и творили в эпоху, которую историки обозначают как эру "буржуазной революции". В ходе этой буржуазной революции намечается, с одной стороны, никогда доселе не существовавшая тяга к индивидуализации, к дифференциации всех жизненных условий, а с другой стороны, начинается ранее неизвестный европейской истории подъем масс.
Важно и другое: в той же мере, в какой вытесняются традиционные идеи и идеологии – прежде всего трансцендентное христианство, – их в возникающем вакууме тотчас же заменяют новые идеологии, претендующие на абсолютное лидерство; вспомним хотя бы так называемый "научный материализм", а также дарвинизм или различные варианты социализма. Характерно, что эти новые идеологии масс претендуют занять постепенно и те области, которые до сих пор принадлежали религии или церкви. И как следствие, одновременно с подъемом буржуазных социальных слоев возникают новые учения о спасении, использующие точно такую же "тоталитарную" аргументацию, как и ранее христианство. Это начинается с якобинцев и без какого-либо перерыва подводит к идеологиям уничтожения в ХХ столетии, благодаря чему историки обозначают всю эпоху также и как "тоталитарный век".
И Вагнер, и Скрябин с их творчеством находятся внутри этой эпохи. Уже французская революция дает очень красноречивые примеры того, как тоталитарный импульс мгновенно отражается в художественном творчестве современников, и вплоть до периода "социалистического реализма" этот источник вдохновения не иссякает. Художники осознанно принимают участие в социальных событиях, больше не удовлетворяются своей ролью придворных создателей развлечений, а превращают свое искусство в средство трансляции идей, имеющих внехудожественную природу.
Это, конечно, не общее правило, и в дальнейшем, само собой разумеется, продолжают существовать художники, которые хотят оставаться только музыкантами, поэтами или скульпторами; однако неоспоримым остается то, что XIX век создает и иного, так сказать "тоталитарного" художника, который хочет преодолеть вездесущую индивидуализацию и атомизацию и осуществить новое единство всех вещей. Вагнеровская идея "Gesamtkunstwerk'а" – "совокупного произведения искусства", – которое стремится преодолеть традиционное расщепление отдельных искусств и придать человеческому обществу новый смысл, принадлежит к этому типу, также как и задуманная Александром Скрябиным "Мистерия", которая должна была преобразить все человечество. Даже естествознание с открытием структуры атома обрело для себя тогда новые, сметающие все прежние границы горизонты. Это было время большого синтеза и мечтаний, и искусство должно было играть при этом особую роль.
О том, что здесь находится одна из важнейших точек пересечения между русским и немецким искусством на рубеже XIX и XX веков, кратко уже упоминалось. Так, например, русский литературовед и театровед Сергей Дурылин в своей книге "Вагнер и Россия" (1913) пишет: "Русское искусство бессознательно жаждет той правды возрожденного мифа, правды искусства символического, мифотворческого и религиозного одновременно, – в котором весь подлинный Вагнер".
Ко "всему" Вагнеру принадлежит, однако, и политика, и в этом как раз Вагнер – дитя своего времени, одна из тех великих "совокупных" личностей, которые больше не принимают традиционное разделение на отдельные дисциплины и независимые роды деятельности. Вот некоторые доказательства. К 1846 году принадлежит дошедшая до нас беседа между Вагнером и австрийским писателем-социалистом доктором Альфредом Майсснером, который впоследствии опубликовал некоторые вагнеровские высказывания в своих мемуарах. Согласно этим воспоминаниям, Вагнер, который был тогда еще дрезденским придворным капельмейстером, считал политическую ситуацию в стране "созревшей для самого радикального изменения и ожидал предполагаемый политический переворот в ближайшее время как нечто неизбежное".
Нечто подобное высказывал Вагнер своему старому дрезденскому знакомому, актеру и режиссеру Эдуарду Девриенту. Последний 1 июня 1848 года записывает в своем дневнике: "После обеда визит капельмейстера Вагнера; мы снова страшно ссорились по поводу политики. Он хочет разрушить, чтобы построить по-новому, я хочу превратить уже существующее в новый мир". И в октябре 1848 года снова: "Капельмейстер Вагнер принес мне новый оперный проект, у него снова бог весть какие социалистские идеи в голове. Теперь ему недостаточно единой Германии; теперь ему подавай единую Европу, единое человечество".
Все эти мнения принадлежат, если хотите, Вагнеру-политику, Вагнеру-революционеру. Но, конечно, Вагнер не был бы Вагнером, если бы он, как позже и Скрябин, не отводил бы искусству центральное место в своей программе будущего. Вообще участие Вагнера в революции, его обращение к политической борьбе станет понятно, если принять в расчет, что в первую очередь им движут художественные соображения, а именно: состояние современной театральной жизни приводит Вагнера в отчаяние и заставляет искать выход в основательном преобразовании вещей. Преобладающая часть его теоретических работ революционной поры вращается вокруг художественных, а не политических проблем. Заголовки его больших работ пред- и послереволюционных лет связаны с эстетическими вопросами и только во вторую очередь – с политическими: "Произведение будущего", "Опера и драма", "Искусство и революция".
В этом отношении у Александра Скрябина дело обстоит сходным образом; он тоже в первую очередь художник. Впрочем, сразу бросается в глаза, что у Скрябина совершенно другое отношение к конкретной политике. Скрябин никогда не был революционером, никогда не стоял на баррикадах, и даже в его письмах политические вопросы не играют почти никакой роли. Это тем более характеристично, поскольку Скрябин тоже жил в политически беспокойную предреволюционную эпоху. Но ни в его почтовой корреспонденции, ни в его педагогической деятельности доцента Московской консерватории сколько-нибудь существенного отражения эта ситуация не находит.
Вагнер в годы перед и после революции 1848 года настолько захвачен своими эстетическими и революционно-политическими трактатами, что он в период между 1848 и 1853 годом не пишет почти ни ноты. В скрябинском творчестве таких цезур нет. В 1905 году, когда благодаря "кровавому воскресенью" перед Зимним дворцом, военным беспорядкам в Одессе, массовым демонстрациям и забастовкам по всей стране Россия переживает первое революционное потрясение, – в этом году Скрябин читает "Ключ к теософии" Елены Блаватской, в этом году в Париже впервые исполняется его "Divin Poeme", а он с большим напряжением работает над "Poeme de l'extase". Большую часть этого 1905 года он находится в концертных поездках за границей. Лишь один единственный раз он высказывается как бы между прочим о кровавой расправе перед Зимним дворцом в письме из Парижа к своей покровительнице Маргарите Морозовой: "Как поживаете, и какое действие производит на Вас революция в России: Вы радуетесь, правда? Наконец-то пробуждается жизнь и у нас!"
А в 1906 году он пишет в одном из писем: "Политическая революция в России в ее настоящей фазе и переворот, которого я хочу, – вещи разные, хотя, конечно, эта революция, как и всякое брожение, приближает наступление желанного момента".
Таким, скорее маргинальным, выражением симпатии исчерпывается скрябинское участие в революции и это тогда, когда его коллега-композитор Римский-Корсаков выражал в открытом заявлении солидарность с протестующими студентами и за это получил от полиции запрет на концерты. Даже Александр Глазунов, Анатолий Лядов и бывший учитель Скрябина Сергей Танеев выражали тогда солидарность с бастующими.
Однако это лишь одна сторона – конкретно политическая. Другая – содержательная; вопрос о духовно-историческом месте Скрябина, его специфической художественной идеологии. И здесь выявляются определенные параллели с Вагнером, даже если учесть, что Вагнера и Скрябина разделяют несколько десятилетий и что духовно-исторические условия в России в 1910-е годы были, конечно, иными, чем в Германии в 1880-е или в 1850-е годы.
Вагнер был, как известно, явным эклектиком (в хорошем смысле слова), который никогда не задумывался об источниках вдохновлявших его идей. Так же, как он в ранние годы прочитал Фейербаха и Гегеля, он освоил позже Шопенгауэра и восточные религии. Однако примечательно, что Вагнер – как и позже Скрябин – уже в 1848 году в мало известной работе высказывает предположение об азиатской прародине, об "изначальных скалах Азии", с которых в давние времена на запад пришли европейские народы. Впрочем, это расхожая идея, которая возникает вместе с началом исследования санскрита, ее наличие у Скрябина уже не удивляет. Иное дело Вагнер, который в последние годы жизни, действительно, вновь и вновь в изобилии читает восточные тексты и даже до определенной степени идентифицирует себя с ними – в то время, когда знание индуистских и буддистских источников в Европе является большой редкостью.
В последние годы жизни он вынашивает замысел создания буддистской драмы и в это же время дает своему последнему сочинению "Парсифаль" подзаголовок "сценическое священное торжество". Как и Скрябин, Вагнер ждет от своего искусства полной "регенерации" человечества. Многое воспринимается как предвосхищение последующей антропософии или реформационного движения рубежа XIX и XX веков.
Скрябин, начиная самое позднее с 1905 года, идентифицировал себя, если верить исследованиям, с теософией; доказательством тому служит фрагмент письма, написанного весной 1905 года его тогдашней спутнице жизни Татьяне Федоровне Шлецер: "La Clef de la Theosophie" – это замечательная книга. Ты будешь удивлена, до какой степени близко мне". В этой книге, которая в Германии известна под заголовком "Ключ к теософии", речь идет о введении к корпусу текстов Елены Петровны Блаватской, основательницы теософии, родом с Украины. Термин "теософия" может служить при этом обобщающим понятием для очень сложного комплекса эзотерического знания, которое Блаватская разработала отчасти на основе более старых индуистских и буддистских источников, отчасти посредством собственных интуиций и который представляет широкий свод важнейших оккультных традиций. По аналогии с восточными мифологиями теософия дает очерк общего космического развития от создания мира до самого далекого будущего; история развития человечества совершается в бесчисленных космических "кругах" и рассматривается как "тренировочная площадка" для мириад отдельных душ, которые должны в вечном движении, во все новых инкарнациях восходить к чистому духовному сознанию.
В общем и целом многое напоминает в теософии о гностико-манихейских корнях: индивидуум находится в непрекращающейся борьбе между светом и тьмой, духом и материей, и потому поведение отдельного человека всегда должно быть обдуманно и руководимо высокими моральными мотивами.
Официальной датой рождения этой "новой" теософии считается 1875 год, когда Блаватская вместе со своим сотрудником в Нью-Йорке создала Теософическое общество. В течение немногих десятилетий теософическое движение распространяется по всему миру, насчитывая многие тысячи членов, и можно с полным правом утверждать, что теософические идеи в годы перед Первой мировой войной стали духовной почвой для большинства европейских стран, включая и Россию.
Подобно Вагнеру Скрябин был убежден в том, что его художественное творчество откроет новый – и возможно, решающий – этап в истории человечества. Эту убежденность можно проследить во всех его симфонических произведениях, даже если они к концу его жизни принимали устрашающе грандиозные формы. Уже первая симфония E-Dur, которая была закончена в апреле 1900 года и в ноябре того же года впервые исполнена в Санкт-Петербурге, содержит в последней (хоровой) части места, которые могут уже интерпретироваться как стремление облагородить мир посредством искусства. Вот соответствующий текст:
"И лучших песен песнь поет
Твой жрец, тобою вдохновленный.
Царит всевластно на земле
Твой дух, свободный и могучий.
Тобой поднятый человек
Свершает славно подвиг лучший.
Придите все народы мира,
Искусству славу воспоем!"
Это, так сказать, первое предвосхищение того, что Скрябин, пятнадцатью годами позднее хотел осуществить в своей великой "Мистерии". Основная мысль, которая полностью совпадает с Вагнером, остается отныне всегда одной и той же: спасение мира искусством. В 1898 году двадцатисемилетний Скрябин уже сформулировал ее впервые. Музыковед и композитор Леонид Сабанеев, который в последние годы жизни Скрябина принадлежал к самому тесному кругу друзей, сообщает, что Скрябин уже тогда говорил о "некоем грандиозном "Празднике всего человечества", который объединил бы все искусства".
Как и у Вагнера, эта конечная цель всех его художественных устремлений отражается у Скрябина в ряде инноваций, которые касаются отчасти конкретной музыкальной текстуры, отчасти однако целостного контекста его произведений. Мы не будем вдаваться здесь в музыкальную теорию и лишь заметим, что Скрябин в своих симфониях и сонатах совершенно независимо от предшественников или современников проделал эволюционный путь, который увел его прочь от классической тональности – то есть от преобладания определенной тональности или по меньшей мере определенных тональных функций – и привел его к атональному музыкальному стилю, напоминающему, например, стиль Шенберга.
Скрябин тоже пришел в своем композиторском развитии постепенно к системе полной равнозначности отдельных тонов звуковой шкалы, что среди прочего повлекло за собой упразднение классических музыкальных связей – законов тяготения и разрешения. В последней звуковой поэме, которую Скрябин смог завершить, "Прометее", имеется один единственный основополагающий аккорд, звуковой комплекс, состоящий из семи тонов и образуемый наслоением нескольких квартовых интервалов. Но эта основная гармония, которую называют "мистическим аккордом", не содержит никаких тональных тяготений или даже намека на них, а потому на протяжении всего произведения позволяет себя как угодно перемещать, варьировать и транспонировать, не создавая при этом впечатления тонального развития. Чтобы как-то конкретизировать музыкальное высказывание, Скрябин должен был применить ряд художественных приемов, например, быструю смену различных транспозиций основной гармонии, ускорение темпа и т. д. Тем не менее, нельзя оспаривать, что основным впечатлением при слушании всегда остается определенная монотонность: все звучания родственны друг другу, все кажется взаимозаменяемым, не хватает устремленной динамики – впечатление, которого не мог избежать уже Римский-Корсаков, которому Скрябин однажды проиграл на фортепиано свою "Poeme de l'extase".
Сколь невыгодно действует эта композиционная практика Скрябина на восприятие публикой его поздних сочинений, столь же последовательно она выводится, с другой стороны, из его художественной идеологии. В центре этой идеологии стоит у Скрябина образ Прометея, миф дарителя света, культурного героя, который своими деяниями движет вперед всеобщую историю человечества. Сам Скрябин представлял себя таким Прометеем, и, начиная с Первой симфонии, он создавал все новые, более совершенные вариации на ту же тему Прометея.
Но Скрябин трактует миф о Прометее не в классическом или романтическом смысле как драматическую тему, которую композитор может представить дистанцированно – как например, Лист в его симфонической поэме, – но с самого начала он проецирует этот миф на себя самого. В такой перспективе драматическое повествование – например, в духе Бетховена или даже Вагнера – для композитора оказывается, конечно, невозможно, и фигура Прометея предстает изначально как неподвижная, богоподобная фигура в центре художественной материи, не способная более ни к какому подлинному развитию. В поэтической программе к "Poeme de l'extase" находим следующие строки:
"Создав тебя множество,
И подняв вас,
Легионы чувств,
О чистыя стремленья,
Я создаю тебя,
Сложное единое,
Всех вас охватившее
Чувство блаженства".
В этих строках можно увидеть всю художественную программу Скрябина: "Я создаю тебя, сложное единое" – это звучит как описание симфонического творчества Скрябина, которое, несмотря на различные фазы развития, производит впечатление удивительного внутреннего единства. В то же время это формирование совершенно индивидуального композиторского стиля означает отказ от индивидуалистски-субъективного метода сочинения романтиков и предвосхищает во многих аспектах новые, "тоталитарные" тенденции в искусстве двадцатого столетия.
Последние усмотрел среди прочего не кто иной, как первый народный комиссар по народному образованию в Советском Союзе, Анатолий Луначарский, который в 1925 году в статье "Танеев и Скрябин" писал: "...Таким образом, Скрябин, несмотря на свой индивидуализм, через изображение страсти шел к изображению революции или предсказанию о ней. Он музыкально пророчествовал о ней и в этом социальное значение Скрябина".
Здесь снова бросим взгляд назад, на Вагнера. И Вагнер вырабатывает, как известно, благодаря критике существующей театральной и оперной практики своего времени новый, совершенно особый музыкальный язык, значение которого для музыкальной истории даже он сам не оценивал в полной мере. Сам Вагнер был далек от того, чтобы видеть, скажем, в партитуре своего "Тристана", его, без сомнения, "самом прогрессивном" сочинении, акт сознательного художественного мятежа. Бесспорно, музыка "Тристана" (сочинение завершено в 1860 году) представляет собой совершенно необычное и не типичное для своего времени музыкальное сочинение, и не требуется большого труда, чтобы убедиться, что там по меньшей мере местами устои классической тональности оказываются поколеблены – количественный сдвиг, который, например, современник Вагнера Йоханнес Брамс освоит только в 90-е годы.
Другая позиция сравнения – композиционная структура. И у Вагнера имеются музыкальные фрагменты, которые вырастают из одной единственной гармонии или из немногих гармоний или мотивов; достаточно вспомнить, например, большое, протяженностью в 240 тактов вступление к "Золоту Рейна", которое построено на материале единственного трезвучия; в такие моменты вагнеровский звуковой язык приобретает явные медитативные характеристики. Но в общем и целом Вагнер всю жизнь остается верен вдохновленному Бетховеном драматическому стилю композиции, который основывается на контрасте и развитии тем, а не на медитативной неподвижности.
Можно выразить это, вероятно, еще четче: Вагнер был всю жизнь человеком театра, который, несмотря на все высокополетные утопические планы всегда рассчитывал воздействие своей музыки. Скрябин, напротив, был пианистом и, прежде всего, большим индивидуалистом; конкретное воздействие его музыки на публику, кажется, никогда его особенно не интересовало. Можно рассматривать почти как иронию истории отрицательное суждение Скрябина о музыке Вагнера, которое он высказал в одном из писем 1904 года – при ближайшем рассмотрении его упрек касается скорее его собственной музыки: "Вчера я был на "Валькирии". Впечатление совершенно такое же, как и от "Зигфрида". Намерение всегда выше исполнения. Как и в "Зигфриде" есть 2, 3 момента очаровательных, все остальное ужасно скучно".
Данное суждение, естественно, очень субъективно, и музыкальная история подтвердила правоту Вагнера по меньшей мере тем, что все его десять музыкальных драм и спустя более чем сто лет являются репертуарными произведениями. Конечно, успех или неуспех какого-либо сочинения не является надежным показателем объективной исторической ценности. Однако если все произведения композитора в течение столетия удерживаются в числе самых исполняемых на оперной сцене, то это свидетельствует о том, что эти произведения затрагивают некие константные ментальные структуры слушательского восприятия.
Здесь мы выходим за рамки проблем музыковедения или литературоведения в строгом смысле слова. Художественные проекты таких художников как Вагнер или Скрябин невозможно описать, пользуясь инструментарием отдельных отраслевых дисциплин, и объяснить их во всей их полноте. Как в "случае Вагнера" (Ницше), так и в случае Александра Скрябина здесь не обойтись без психологии. И поэтому позволим себе несколько замечаний по этому поводу.
Сначала придется констатировать совершенно банальный факт: творческим доменом как Вагнера, так и Скрябина была музыка. Музыкальное творчество – в отличие от литературы или живописи – является само по себе областью эзотерического, имеет черты своего рода науки для посвященных, которая не допускает "недостойных" или дилетантов. Этой аурой музыка была окружена уже у Пифагора и Платона, и спустя многие столетия, в 60-е годы XIX века, французский поэт Стефан Малларме сокрушается по поводу того, что литература не располагает, как, например, музыка с ее нотной записью, системой тайных символов, и потому ей недоступна свойственная музыке исключительность. Наконец, Скрябин и вовсе придерживается мнения, что музыка – это изначальный язык человечества, находящийся за пределами понятийности. Уже в силу своей музыкальной одаренности он чувствует себя призванным к грандиозному проекту мистерии, которая должна мгновенным образом "катапультировать" развитие человечества в новое измерение.
У Скрябина центральным прообразом является образ света. В текстах и текстовых программах к его музыкальным сочинениям – которые он создавал, как и Вагнер, сам – световые и красочные ассоциации постоянно играют большую роль. В оркестровке его симфонической поэмы "Прометей", которая имеет характерный подзаголовок "Poeme du feu" – "поэма огня" – предусмотрена обязательная партия светового клавира, инструмента, который должен был создавать цветовое сопровождение к музыке (точное русское обозначение соответствующего инструмента звучит как "световая клавиатура"; сконструировал подобный инструмент хороший знакомый Скрябина Александр Эдмундович Мозер, который был профессором электротехники в Москве). Как в "Прометее", так и в "Предварительном действе", которое должно было предшествовать "Мистерии", свет и музыка вновь оказываются теснейшим образом связанными друг с другом. В начале "Acte prealable" в скрябинских набросках читаем: "В полутьме, на тремолирующем аккорде pianissimo (...)". В другом месте: "Кто ты, звучанием белым воспетая? Кто ты, молчанием неба одетая?"
В таких текстовых фрагментах хорошо ощущается, как тесные рамки чистой музыки покидаются и происходит переход к гораздо более широкому, или лучше, тотальному пониманию искусства – представление, которое не было чуждым и Вагнеру; вспомним хотя бы его известное выражение "звучащее молчание", которым он однажды охарактеризовал музыку своего "Тристана".
В основе как скрябинского "света", так и вагнеровского "океана" или "звучащего молчания" лежат первоощущения, которые известны психологии как "океаническое чувство", ощущение безграничности, даже космической протяженности. Совершенно оправданно соотнести эти психические первоощущения с художественными представлениями Вагнера и Скрябина: и здесь, и там тенденция к преодолению существующих границ и преград, к освоению искусством новых, до сих пор неведомых областей и к осуществлению сверх того средствами искусства социальных, всемирно-исторических преобразований. Обоих композиторов, и Вагнера, и Скрябина, можно с полным правом упрекнуть, ничуть не ущемляя их художественные достижения, в том, что эта тенденция приобретала подчас чрезмерный масштаб. Уже намерение Вагнера соорудить себе театр для образцового исполнения исключительно собственных произведений представляется дерзким на фоне современных демократических представлений о сущности театра; совершенно немыслимым кажется требование Скрябина исполнить свою "Мистерию" на фоне Гималаев, построив для этого специально огромный театр с куполом, действо в котором должно было длиться целых семь дней. Нужно признать, что в сравнении с таким масштабом даже вагнеровские замыслы кажутся скромными.
Не следует все же при подобной склонности к широкомасштабности делать поспешные выводы о "мегаломании". Луначарский в уже цитированной статье 1925 года считал: "Скрябин не был безумцем, Скрябин в корне своем был здоровым и умным человеком". Заключение это подтверждается даже беглым взглядом на все более усложняющуюся, становящуюся все более филигранной структуру скрябинских партитур: тот, кто способен это сочинить, не может быть сумасшедшим.
С точки зрения живущих сегодня, надо, вероятно, смириться с тем, что мы не можем постичь грандиозный, глубоко утопический настрой Вагнера и Скрябина. Вероятно, мы в ходе истории стали скептически относиться к большим, преобразующим мир проектам. Но это совершенно ничего не говорит об историческом значении "Кольца нибелунга" или "Прометея". Мы должны воспринимать Вагнера и Скрябина такими, какими они, без сомнения, были: великими, неповторимыми художниками.
Перевод Э.. Махровой
1 Дурылин С. Вагнер и Россия. О Вагнере и будущих путях искусства. – М., 1913. С. 65.
2 Цит. по: Otto W. (Hrsg.) Richard Wagner. Ein Lebens- und Charakterbild in Dokumenten und zeitgenossischen Dokumenten. – Berlin, 1990. S. 91.
3 Ibid. S. 93.
4 Ibid. S. 99.
5 Скрябин А. Письма. – М., 1965. С. 347.
6 Там же. С. 422.
7 См.: Crankshaw E. Winterpalast. Ru?land auf dem Weg zur Revolution 1817–1917. – Munchen, 1976. S. 378f., а также: Римский-Корсаков Н. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980. С. 296–297.
8 Wagner R. Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage / Wagner R. Gesammelte Schriften / Hrsg. von J. Kapp. Bd. 6. – Leipzig, o.J. S. 122.
9 Скрябин А. Письма… С. 369.
10 Русские пропилеи. Материалы по истории русской мысли и литературы. Т. 6. – М., 1919. С. 122.
11 Цит. по: Scriabine М. Uberlegungen zum "Acte preatable" // Aleksandr Skrjabin und die Skrjabinisten (= Musik-Konzepte / Hrsg. von H.-K. Metzger und 12R. Riehn. Heft 32/33). S. 13.
13 Русские пропилеи… С. 201.
14 Луначарский А.В. Скрябин и Танеев // Луначарский А.В. В мире музыки: Статьи и речи. – М., 1971. С. 140.
15 Скрябин А. Письма… С. 324.
16 См.: Dahlhaus C. Die Idee der absoluten Musik. – Kassel, 1978. S. 147.
17 См.: Wagner R. Mein Leben. Vollstandige, kommentierte Ausgabe / Hrsg. von M. Gregor-Dellin. – Munchen, 1976. S. 512.
18 Цит. по: Scriabine M. Ibid. S. 23.
19 Русские пропилеи… С. 203.
20 См. об этом: Skrjabin А. Prometheische Phantasien / Hrsg. von O. von Riesemann. – Stuttgart; Berlin, 1924. S. Uff.
21 Луначарский А.В. Цит. соч. С. 139.
Солостюк Т. Традиция перевода оперного либретто Р. Вагнера в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века
Татьяна Солостюк
в русской художественной культуре 80-х годов ХIХ – 10-х годов ХХ века
(к проблеме "русского Вагнера")
Мощное воздействие вагнеровского гения на русскую художественную культуру конца ХIХ – начала ХХ века, во многом обусловленное столичными театральными премьерами всех опер немецкого композитора, неоспоримо. Первоначальное восприятие произведений Вагнера как "экзотического явления современной музыки" (Э. Махрова) повлекло за собой более чем тридцатилетнее магическое увлечение, подробное изучение, интеллектуальное постижение, "впитывание в кровь" духа, "текучей мысли" вагнеровского "опиума". Результатом явилась уникальная рецепция вагнеровского творчества, немыслимого на рубеже веков вне национальной культуры, ставшего ее необходимой, неотъемлемой частью, потребностью, источником подлинного восхищения, экстатического восторга, вдохновения литераторов, художников, музыкантов.
Об исследовательском интересе к проблеме "русский Вагнер" свидетельствуют фундаментальные работы авторитетных советских музыковедов. Пристального внимания заслужило отражение вагнеровских новаций в философских и творческих исканиях русских символистов. Воздействие магического облика гениальной личности и её творчества на индивидуальный стиль формирующегося на рубеже веков поколения русских композиторов – А. Скрябина, И. Стравинского, Н. Мясковского, С. Прокофьева – так или иначе, затронуто в каждом монографическом издании. Широко освещен и подъем в сфере русского театрального искусства конца ХIХ – начала ХХ века – динамика постановок вагнеровских опер, поиски и замечательные находки русских режиссеров, сценографов, декораторов. Переосмысление сочинений байройтского гения сквозь призму русской оперной эстетики, освобождение их от постановочных штампов, создание великолепных эскизов и декораций к вагнеровским спектаклям, особые требования к исполнителям, которые должны были сочетать таланты певца и драматического актёра создали специфические "пласты" художественной, постановочной, вокальной традиций.
Вместе с тем, в исследовательских работах практически не затронута проблема перевода вагнеровских либретто в России, несмотря на то, что явление "русского Вагнера" тесно связано с переводными версиями его опер. Специфический момент переосмысления древненемецких эпических и легендарных источников на интеллектуальном, семантическом, семиотическом уровнях, важнейшая роль интуитивного осмысления переводчиками образного мира вагнеровского либретто показательны как в плане "перевода" одной языковой системы в принципиально отличную другую, так и своеобразной культуры восприятия немецкого типа мышления русским. Это красноречиво подтверждает высказывание гениального актера, певца и переводчика вагнеровских музыкальных драм И.В. Ершова: "Не могу петь, говорить на языке, на котором не мыслю, который не является моим родным, органически мне присущим". Таким образом, актуальный для исполнительской практики того периода перевод вагнеровских либретто также способствует выявлению имманентных особенностей русской природы мышления – усвоения результатов "чужого" художественного опыта, восприятия его как неотделимого от "своей" традиции.
Попытки интерпретировать оригинальный текст Вагнера-либреттиста предпринимались многими. При этом переводчикам пришлось столкнуться с рядом специфических трудностей авторского либретто. С одной стороны, это остро ощущаемая композитором взаимосвязь "слова-рассудка", несущего конкретику мысли и "музыки-чувства", раскрывающей эмоциональный импульс, единство интонационного "кода" немецкого слова и его музыкального эквивалента. Этот важнейший принцип музыкальной драмы был теоретически обоснован Вагнером в философско-эстетических работах. С другой стороны, существовала необходимость сохранения исходного фонетического ряда подлинника в переводном варианте при его обязательной естественности и грамотности. Кроме того, немаловажным было мнение байройтского мастера, критически относившегося к переводам, не учитывающим специфику "интонируемого диалога", который выражает искомую суть немецкой музыкально-речевой природы. Эти проблемы занимали умы переводчиков, требовали всестороннего осмысления.
Традиция переводов вагнеровских либретто рубежа веков представлена в двух формах. Одна из них – публикация клавиров с полными версиями музыкально-литературного текста Вагнера, параллельно сопровождаемого строкой русского перевода. Издания с текстовыми вариантами О. Лепко, К. Званцова, Г. Лишина, И. Тюменева, В. Коломийцова, Вс. Чешихина, С. Свириденко, И. Ершова отличаются глубоко индивидуальным осмыслением подлинника. Другая связана с печатанием многочисленными частными типографиями так называемых "кратких либретто"; представляющих собой тип популярных изданий с биографией композитора, содержанием оперы и русским переводом либретто (иногда содержащих только текст основных арий). На рубеже веков, в период "пика" феноменальной популярности Вагнера, такие издания стали своеобразными "анонсами", выпускаемыми непосредственно перед знакомством публики с оперой на отечественной сцене.
С течением времени издательская традиция кратких переводных либретто обогатилась и другими языками славянской группы. Так, известно полтавское издание на русском и украинском языках первого действия "Зигфрида" (русская версия М. Кудряшова, украинская – Михайлы Рудинского, 1919), свидетельствующее о распространении переводческой практики вагнеровских опер и в российских провинциях.
Отголоски издательской традиции "кратких либретто" Р. Вагнера слышны вплоть до первой половины 30-х годов ХХ века. В это время практика перевода вагнеровских либретто уже была теоретически разработанным, исторически укоренившимся явлением в русской художественной культуре.
Хронологически наиболее ранние замечания о языковой специфике оригинального текста байройтского мастера содержатся в эссе Вс. Чешихина, критических этюдах С. Свириденко. Каждый из них отмечал безупречную ясность и точность вагнеровской поэтической манеры, некоторую сухость и сжатость, но при этом большую степень информативности каждого слова. Текстовая сторона опер Вагнера, по мнению мастеров перевода, стала своеобразным "кодом", который расшифровывался только музыкой.
Вместе с тем, существовал и особый "эзотерический" язык вагнеровского либретто, особенно в зрелый и поздний период творчества. Композитор практически отказался от рифмы, переходя к так называемой "ритмизованной прозе" либо оригинальным прихотливым стихам. Каждый из переводчиков оговаривал искусство вагнеровского аллитерационного стиха, к которому трудно подобрать русский эквивалент. Однако, несмотря на сложности, все переводчики единогласно признали значение вагнеровской драматической поэзии в истории новой немецкой литературы и пытались интерпретировать её в переводных вариантах.
К рубежу веков в переводческой традиции вагнеровских либретто был накоплен значительный практический материал, появились комментарии к вагнеровской поэтической манере, структурным особенностям его либретто. В этих условиях статья В. Коломийцова "О музыкальном переводе драм Вагнера" (1910), приобрела базовое значение. Автор впервые чётко сформулировал основные проблемы, цели и задачи музыкального перевода вагнеровских либретто в России.
Рассуждая о важной особенности оперных текстов Р. Вагнера, внешней идеальной грамматической правильности и внутренней психологической взаимосвязи поэзии и музыки, Коломийцов отмечал "обусловленность" либретто немецкого мастера готовой музыкой, сложившейся и кристаллизовавшейся в зависимости от слов иного языка. Автор выдвигал ряд требований к переводчику вагнеровских драм, заключавшихся в удобстве текста для певцов, максимальной близости к оригиналу, свободном, естественном, абсолютно правильном, производящем впечатление оригинального языке перевода, неприкосновенности музыки, музыкально-просодической грамотности, предполагающей идеальное совпадение грамматических и музыкальных акцентов. "Детальное знание законов ритмики и обладание ритмическим чувством – это первое и совершенно необходимое условие для того, кто приступает к музыкальному переводу вообще и переводу Вагнера в особенности", – полагал В. Коломийцов.
Наиболее важным качеством перевода вагнеровского либретто переводчик считал сохранение образности, "вагнеровского духа" текста, даже если это обусловливало приблизительный вариант. Вместе с тем, особенностью каждой русскоязычной версии, по мнению Коломийцова, должна была быть естественность перевода, призывом к которой и завершалась статья.
Традиция перевода вагнеровского либретто в России существовала во множестве теоретических и практических проявлений. Исследовательский интерес представляет анализ переводческих версий с позиции современности, выявление их национальной специфики, определение историко-культурного значения.
Музыкальный перевод оперного либретто является специфическим, "промежуточным" предметом литературно-музыкального порядка. Два соответствующих уровня можно выделить и при его анализе. В процессе перевода их значимость равноценна.
"Литературный" уровень предполагает три аспекта, наиболее существенные для художественно-поэтических переводов:
Художественный, выявляющий соответствие образного строя и выразительных возможностей исходного и переводного текстов.
Лингвистический, собственно языковой, включающий несколько позиций: фонологическую (артикуляционные и акустические свойства языка), семантико-семиотическую (воплощение смысла в знаковой форме конкретной языковой системы), внутрилингвистическую (выявляющую имманентность звуковых единиц каждого языка и их совпадение в оригинальной и переводной версиях).
Эквиритмический, подразумевающий перевод, где поэтический текст должен быть полностью равноценным оригиналу в метроритмическом отношении.
"Музыкальный" уровень перевода оперного либретто определяется следующими позициями:
Эвфонической, выявляющей степень соотношения "звучания" стихотворной структуры подлинника и её выявления в переводном тексте.
Музыкально-интонационной, определяющей соотнесение текста с изобразительными элементами музыки в вокальной и инструментальной партиях.
Музыкально-драматургической, представляющей общий характер развития вокальной партии, динамику её становления, оформление кульминаций и т.д.
Безусловно, предлагаемые аспекты не претендуют на полноту, однако, способствуют более или менее подробному рассмотрению двух основных уровней оперного либретто – музыкального и поэтического.
Сосредоточим внимание на трёх переводческих вариантах оперы "Тангейзер", выполненных К. Званцовым, Г. Лишиным и В. Коломийцовым. Относящиеся к разным временным периодам, переводы имеют серьёзные отличия, обусловленные спецификой авторских манер.
Версия К. Званцова, музыкального и театрального критика, первого переводчика вагнеровских опер, весьма своеобразна. В стремлении сохранить яркость и прихотливость авторской образности, Званцов существенно искажает поэтическую сторону перевода. Его вариант не отличается высоким мастерством, изобилует штампованными фразами, загружен неловкими лингвистическими конструкциями, сложными и неудобными для восприятия. Особенное множество нарушений допущено переводчиком в эквиритмическом аспекте, обнаруживающем несовпадение грамматического и музыкального акцентов. Тем не менее, значение перевода К. Званцова, "безоглядного вагнерианца", пропагандиста вагнеровского творчества представляется чрезвычайно важным, так как является первой, хотя и не очень удачной попыткой восприятия и осознания вагнеровской образности в рамках русской языковой системы. Вариант К. Званцова был создан в 1862 году и опубликован в России за двенадцать лет до премьеры "Тангейзера" на русской сцене. С этим переводом опера исполнялась до 1900 года
Намного труднее выяснить место постановки "Тангейзера" в переводческой версии Г. Лишина (псевдоним Нивлянский), широко известного аккомпаниатора и автора различных произведений. Осуществлённый в 1879 году, перевод сразу был опубликован в Санкт-Петербурге частной типографией Э. Гоппе в виде "краткого либретто". В 1893 году (по другим сведениям 1898) было предпринято издание клавира (переложение для фортепиано и пения) с переводом Г. Лишина в столицах (типография И. Юргенсонов) и Варшаве (типография Ю. Сенневальда).
Варианту Лишина присущи неоднородность, нестабильность, проявляющиеся в явном несоответствии художественного и профессионально-технического аспектов. Яркая поэтичность, богатство метафор и изобретательность эквивалентов сообщают переводу неповторимую эмоциональность и динамичность развития. Вместе с тем, стремление к безупречному и убедительному воплощению вагнеровской образности связано с большим количеством серьёзных нарушений (семантических, фонологических, внутрилингвистических), затрудняющих восприятие текста. Представляется, что переводческая версия Лишина воплощает распространённое в ХIХ веке понимание перевода, как требующего абсолютной точности, идеальной передачи поэтической формы, образов, игры слов оригинала, приводящей иной раз к некоторой несуразности и загруженности текста. Видимо, этим и обусловлено обилие тяжеловесных синтаксических конструкций, злоупотребление архаичными и устарелыми формами, принципиальное нарушение норм русскоязычной фразеологии.
Наиболее профессиональными переводческими вариантами отличаются сцены, связанные с динамикой, действием, предполагающие диалогическое или ансамблевое развитие, сочетающие поэтическую и прозаическую речь. Для их большей цельности и поэтичности в переводе допускается множество эквиритмических изменений. Здесь на первый план выступает музыкально-драматургический аспект.
Стремясь к идеальной эквивалентности содержания, переводчик создаёт множество нюансов, сообщающих вокальной партии эмоциональность и напряжённость. Ради сохранения основной мысли, ведущей идеи фрагмента переводчик жертвует поэтической рифмой, внедряя прозаические реплики и нарушая тем самым конструкцию исходного текста (окончание ариозо Венеры, молитва Елизаветы).
В переводе Лишина наряду с этим также встречается филигранная поэтическая техника переводов некоторых фрагментов, подбор мастерских эквивалентов, совпадающих с кульминациями формы. К примеру, фраза из дуэта 1-го действия: "Aus Freuden sehn ich mich nach Schmerzen", отмечена выразительным переводческим вариантом: "Я жажду горя и страданий". Немецкое существительное Schmerzen предполагает несколько синонимов: "горе, слезы, печаль, страдание". Г. Лишин профессионально объединяет два синонима в безупречной поэтической форме. Более того, в целях утверждения пафоса основного настроения ариозо Тангейзера – страстного желания борьбы, мучений, страданий – переводчик отступает от авторского смысла во фразе: "O, Konnigin, Gottin! Lass mich ziehn!" "Королева, богиня, пусти меня" и заменяет ее на: "Да, страданья мне, сердцу вновь счастье дадут!"
Таким образом, к переводческой версии Г. Лишина, отличающейся стилистической пестротой, сочетающей фрагменты, отмеченные высоким уровнем переводческой техники и "эстетически сниженные" в духе драматических мелодекламаций, вполне применимо высказывание известного филолога В. Задорновой: "...ни один перевод нельзя признать совершенным. У каждого есть свои слабости. Однако большинство переводов содержит строки, достойные того, чтобы их запомнить и сохранить". Переводческая интерпретация Г. Лишина, безусловно, интересна с художественной, эстетической, профессионально-технической позиций.
Переводческий вариант В. Коломийцова наряду с безупречной художественностью переводческих находок, идеальным сохранением вагнеровской образности и метафоричности языка отличает мастерская эквивалентность семантических акцентов. К примеру, следующие фрагменты из дуэта 1-го действия:
"Mein Sänger! Auf! Auf und ergreif deine Harfe!"
"Певец мой! Встань, встань и возьми в руки арфу!"
или:
"Hin zum Tod, den ich suche, zum Tode drängt es mich".
"Я о смерти тоскую, и смерть влечет меня".
Точное совпадение семантических акцентов является стилистической особенностью перевода В. Коломийцова. Абсолютизируя "грамматическую правильность и полную поэтическую естественность", переводчик стремится и к семиотической эквивалентности, что отражает высокое мастерство поэтической техники.
Стилистическим признаком выступает также максимальное фонетическое, интонационное совпадение рифмоокончаний (ассонантность оригинального и переводного текстов) и точное сохранение музыкально-интонационной стороны оригинального текста.
Таким образом, все перечисленные особенности переводного варианта В. Коломийцова позволяют считать его почти идеальным (учитывая неизбежные лингвистические нарушения, обусловленные различиями немецкой и русской языковых систем), целиком отвечающим собственным требованиям переводчика-практика.
В исследовании традиции русских переводов вагнеровского либретто немалый интерес представляет интерпретация оригинального текста сквозь призму православной духовности, возможно, раскрывающей одну из сторон вагнеровской рецепции на ментальном уровне.
Попробуем подтвердить это замечание анализом переводных фрагментов, сделанных Г. Лишиным и В. Коломийцовым. Стиль перевода Лишиным текста молитвы Елизаветы отличается несвойственной переводчику конструктивной простотой, языковой лёгкостью и прозрачностью. Его отличает также высокая одухотворённость, эмоциональная открытость и искренность. Здесь раскрывается не только постижение подлинного текста, но и глубочайшее его переосмысление. Высокопрофессиональным представляется подбор эквивалентов. Обращение к Деве Марии у Вагнера "Jungfrau" ("Юная дева") заменяется православным аналогом "дева пресвятая", очерчивающим синонимический ряд духовных ипостасей Богородицы – Присноблаженная, Пречистая, Пренепорочная. Смиренная мольба героини о смерти воплощается в прочувствованных строках: "дай мне с невинною душой стать в царстве Славы пред Тобой". Христианская идея искупления чужого греха смертью и неустанными молитвами раскрывается предельно просто и идеально эквивалентно оригиналу: "Чтоб за него могла и там вечно молиться небесам".
Восприятие вагнеровской образности сквозь призму православной духовности своеобразно проявляется и в варианте В. Коломийцова. В ариозо Елизаветы из сцены состязания певцов кульминационной фразе "Erlöser ist" подбирается эквивалент, несущий православный образ Христа – Страстотерпца (не Спасителя, не Избавителя, а претерпевающего мученика):
"За него я слезы лью в молитве, чтоб он, раскаясь, к небу путь искал!
Пусть грешник падший снова твердо верит, что сам Христос и за него страдал!"
Так в переводах вагнеровского либретто выявляются особенности русского национального мышления, неотъемлемой составляющей которого является православная вера.
Каждый из переводов, независимо от своего профессионального уровня, наполнил вагнеровскую образность напевностью, плавностью, мелодичностью русской речи, лингвистически, фонологически, интонационно контрастной воинственно-чёткой звонкости и отрывистости немецкого языка. Об этом, в частности, свидетельствуют варианты, не отличающиеся техническим мастерством, являющиеся скорее дилетантскими. Традиция переводов вагнеровского либретто приобретает помимо звукового комплекса русской речи признаки бытовой музыкальной культуры России рубежа веков. К примеру, версия Ф. Берга в романсе Вольфрама из 3-го действия "Тангейзера" характеризуется повышенной патетикой, не свойственной первоисточнику, преувеличенным драматизмом содержания. Стиль поэтического текста, его эмоциональная "открытость" близка отечественному "жестокому" романсу:
"Как покрывает ночь поля пустые и тени в лес слетаются ночные, когда в моей душе кипит слеза и в сердце собирается гроза, восходишь ты, звезда моя златая…"
Таким образом, этот пример невысокого в художественном отношении перевода апеллирует к многогранности русской переводческой традиции опер Р. Вагнера на рубеже XIX–ХX веков
Фанталов А. Сценические образы Вагнера и архитектурный декор Санкт-Петербурга
Ничто не проходит бесследно. Бывает, идеи дремлют столетиями, а затем прорастают и дают неожиданные всходы в самых разных областях бытия. Таким временем культурного пробуждения для народов окружающих Балтийское море стали вторая половина XIX – начало ХХ века. Некогда здесь существовало целостное культурно-историческое сообщество со свойственным только ему типом города, в котором ведущую роль играло международное сословие варягов. Таковы наши Новгород, Старая Ладога, западнославянские Аркона, Ретра, датский Хедебю, шведская Бирка и др. Уклад жизни, искусство, религиозно-мифологические взгляды их обитателей эволюционировали в сходном направлении.
Судьба не позволила балтийскому сообществу народов сложиться в самостоятельную цивилизацию. Но богатейшее культурное наследие Северной Европы не пропало. Оно послужило источником вдохновения для движения неоромантизма, возникшего в 1890-е годы и охватившего литературу, музыку, изобразительное искусство, ярко проявившегося в архитектуре. Это движение не могло не затронуть и Петербург, являющийся естественным преемником балтийских традиций России.
Неоромантики в каждой стране живо интересовались национальной историей, фольклором и искусством. Вместе с тем происходило и взаимопроникновение культур. Так, возникшее в зодчестве России особое направление, ориентированное на традицию деревянного рубленого жилища (Р.Ф. Мельцер, особняк на Каменном острове, Петербург, 1904–1907) оказало определенное влияние на сложение финской национальной школы. В свою очередь последняя, впитав архитектурное наследие средневековых крепостей и церквей Финляндии с их нарочитой угрубленностью, сыграла большую роль в формировании "Северного модерна" одного из самых значительных течений русского зодчества начала ХХ века, широко представленного в Петербурге. Историософским обоснованием данного направления стала "норманнская теория" образования русского государства.
Российская архитектура рубежа веков в последние годы все больше привлекает внимание исследователей. Появился ряд интересных публикаций, посвященных эпохе эклектики и модерна. Однако скульптурное обрамление зданий этого периода до сих пор специально не изучалось. А ведь именно в нем должна была отразиться, пожалуй, самая характерная сторона неоромантизма – его увлечение мифами и фольклором, будь то скандинавская "Эдда", германская "Песнь о нибелунгах", карело-финская "Калевала", наконец, восточнославянские "Былины".
В связи с этим, у автора данной статьи возникла идея выявить в архитектурном декоре Петербурга образы североевропейских мифологий, показав, что они занимают там свое место наряду с широко известными героями античных легенд. Работа в библиотеках убедила меня, что до сих пор не существует издания, где подробно было бы представлено скульптурное убранство зданий нашего города периода эклектики и модерна. Столице в подобном отношении повезло больше. В 1987 году издательство "Московский рабочий" выпустило альбом "Наряд московских фасадов", включивший несколько сот фотографий, собранных энтузиастом старого города А.А. Колмовским. Тем не менее, исследования и атрибуции памятников в альбоме проведено не было.
Итак, решив перенести на родную почву метод Колмовского, я обошел подобно ему все улицы старого Петербурга, фиксируя наиболее интересные мотивы. Среди них попадались легендарные герои и символы Египта, Греции, Итальянского Возрождения, персонажи, популярные в европейском модерне. Наибольший интерес, в свете нашей темы, вызвали, естественно, образы мифологии Северной Европы. О них и пойдет речь.
Но прежде всего, хотелось бы обрисовать вкратце основные этапы проникновения мифологических сюжетов в лепной декор Петербурга.
Начало его фактически совпадает по времени с основанием нашего города. На формирование петербургской архитектуры в течение всего ХVIII века и первой половины ХIХ века ведущее влияние оказывала культура Классицизма и Просвещения с их канонизацией античной мифологии как универсальной системы художественных образов. Более того, формы, восходящие к отличным от античности источникам, до 1830 года, за единичными исключениями, вообще не допускались на фасады городских сооружений. Неудивительно, что в архитектурном декоре столь внушительное место занимают образы греческих богов и чудесных существ. В основном они связаны с царившим в классицизме культом Разума и персонифицируют светлое, гармоничное ("аполлоническое") начало. Это, разумеется, сам Аполлон, окружавшие его музы, грифон – священное животное бога (пожалуй, самый распространенный мотив в обрамлении домов, превращенный в элемент орнамента).
Архитекторы и скульпторы Санкт-Петербурга широко обращались также к образу Афины – воплощенной Мудрости (с ней связаны многочисленные лепные головки Медузы Горгоны, изображающие эгиду богини). Часто встречающиеся фигуры атлантов, помимо функциональной роли, содержат в себе и смысловое начало, олицетворяя силы, удерживающие мироздание от хаоса.
Классицизм наложил неповторимый отпечаток на облик нашего города, создав великолепные архитектурные ансамбли. Но он слабо учитывал интересы отдельного человека. Общество постепенно уставало от холодного царства разума. Критическое отношение к классицизму выразил и Н.В. Гоголь, в статье "Об архитектуре нынешнего времени" грезивший о романтико-фантастическом зодчестве.
Параллельно происходили и серьезные сдвиги в социально-экономической сфере, сложнее становилась структура российского общества. Купечество превращалось в торгово-промышленный класс, приобретающий все больший вес в жизни страны. В области архитектуры это вызвало приход эклектики, предваряющей модерн. А в тематике лепных украшений происходило своего рода "смещение акцентов". Аполлона все больше вытеснял Гермес. Его сложный образ, являющийся воплощением обмена, передачи и перехода из одного состояния в другое, как нельзя лучше соответствовал переменам в обществе.
Владельцам новых роскошных особняков пришелся по нраву этот греческий персонаж, которого они несколько узко поняли как бога торговли. Гермес начал завоевывать петербургские фасады, будучи всегда хорошо узнаваем. Еще в эпоху золотого века античности сложился его канонический тип: высокий, стройный юноша (одна из функций бога – покровитель борцов), безбородый, с коротко остриженными курчавыми волосами, в плоском, похожем на тазик шлеме с двумя маленькими крылышками. На ногах Гермеса были крылатые же сандалии, в руках кадуцей – жезл в виде палки, симметрично обвитой двумя змеями.
В лепном декоре эклектики и модерна в Петербурге чаще всего встречаются рельефные изображения лица этого бога, реже объемные скульптурные головы (например, на крыше здания Азовского коммерческого банка – Невский пр., д. 62, архитектор Б.И. Гиршович, 1896–1898). Рядом на знаменитом доме Елисеева мы можем видеть даже великолепную статую Гермеса, пожалуй, наиболее интересную в городе (ил. 1). Иногда, в качестве элемента рельефа, отдельно используется жезл-кадуцей.
Но, как уже говорилось, Гермес – это бог перехода, трансформации. Не зря в Средневековье он, под римским именем Меркурия связывался со ртутью, которой отводилась исключительно важная роль в алхимических превращениях. И вот, постепенно облик Гермеса на городских фасадах начинает как бы "мутировать", сквозь него проступают чужие черты. Шлем вырастает, становясь остроконечным, крылья на нем увеличиваются в размерах. Сам образ греческого бога расщепляется на два типа: бородатого мужа со свисающими книзу усами, и женщины с выбивающимися из-под шлема локонами волос. И хотя рядом с ними встречается еще иногда кадуцей, но ясно, что здесь изображен уже не Гермес. Кто же тогда?
Надо сказать, что провести атрибуцию интересующих меня персонажей возможно было лишь гипотетически. В рассматриваемый период (в отличие от эпохи классицизма), выполнение декоративной скульптуры переходит в руки безвестных мастеров. Кроме того, сам размах тогдашнего строительства и, в то же время, негативное к нему отношение, долгое время державшееся у нас, создают большие трудности с источниками. Сведения по конкретным домам носят единичный характер и не затрагивают обычно скульптурное убранство. В определении имен архитекторов, времени постройки и назначении зданий большую помощь оказывает справочник, выпущенный в 1986 году и включающий перечень почти всех домов данного периода. Но определение сюжетов скульптурных изображений автору данной статьи пришлось проводить самому, привлекая различные сведения по мифологии, особенностям рассматриваемой эпохи, пристрастиям архитекторов и заказчиков.
Как уже говорилось, со второй половины ХIХ века в Европе происходит резкое усиление интереса к мифу, причем в основном неклассическому. Одним из основоположников "неомифологизма" стал Рихард Вагнер. Его знаменитая оперная тетралогия "Кольцо нибелунга", в основе которой лежит древнегерманская мифология в ее скандинавском варианте, оказала мощное влияние на культурную жизнь Западной Европы. Благодаря операм Вагнера общество познакомилось с богами и героями германо-скандинавских легенд, представленными в выразительных сценических образах. Первые инсценировки опер представляли этих героев одетыми в шлемы с оперенными крыльями или рогами.
Самым характерным представителем скандинавской мифологии является Один (герм. Вотан), верховный бог, носитель мудрости, связанной с тайным знанием а также поэтическим и пророческим даром. Он был также хозяином особого воинского рая – Валгаллы. В мифах Один часто странствует между мирами, добывая магические предметы. Этот северный бог в значительной степени отождествляется с греческим Гермесом, отличаясь от последнего лишь обладанием верховной властью и военной функцией (тут сказалось своеобразие психологии древних германцев). Поэтому можно с большой долей уверенности предположить, что загадочные мужские лики, о которых говорилось выше, представляют изображения Одина (Вотана). Разумеется, они в первую очередь появились в Германии, на родине великого композитора.
Что же касается женских головок в крылатых шлемах, то здесь мы, очевидно, имеем дело с валькириями – воинственными девами, входившими в свиту Одина, даровавшими его волей победу в битве и доставлявшими павших героев в Валгаллу. В эпосе они нередко становились возлюбленными и женами богатырей.
В России идеи Вагнера и его художественное творчество нашли живой отклик. Не только в музыкальном театре, но и в русской литературе можно найти многочисленные отголоски вагнеровских мотивов и тем. Влияния Вагнера проникли даже в архитектуру. Во всяком случае появление ликов северных персонажей на фасадах Санкт-Петербурга удивительным образом совпадает со временем постановок опер немецкого композитора, прежде всего его "Кольца нибелунга", где нордические боги и герои показаны во всем своем великолепии.
На Английской набережной, 30 находится так называемый особняк Мейера. Построенный в 1730 году, он в 1870–1872 годах был подвергнут перестройке академиком архитектуры К.К. Рахау совместно с Р.Б. Бернгардом. Тогда-то на фасаде и появились картуши с женскими головками в крылатых шлемах (похожие на юношу Гермеса, но с вьющимися локонами), расположенные в пролетах между окнами (ил. 2), и две склоненные головы мужей с длинными раздвоенными бородами (ил. 3). Необходимо отметить, что данная реконструкция проводилась именно после того, как хозяином особняка стал Эдуард Мориц Мейер – генеральный консул Баварии, и в период мощного роста популярности Рихарда Вагнера, которого с этим немецким государством связывали особые отношения. Баварский король Людвиг II был страстным почитателем творчества композитора, окружал себя картинами, изображающими сцены из его опер, носил театральные костюмы. В эти годы в Мюнхене ставились "Золото Рейна" и "Валькирия". Несколькими годами позже вся тетралогия была представлена в баварском городке Байройт на сцене специально построенного для вагнеровских представлений театра-святилища.
В свете изложенного допустимо предположить, что консул Мейер, не без оглядки на вкусы своего монарха, украсил фасад особняка головами валькирий и, возможно, Вотана (бородатые мужи). Правда, верховный бог германцев и скандинавов не имел правого глаза, но сей прискорбный факт не годился для отображения на фасадах петербургских домов. В таком случае, это одно из самых ранних изображений персонажей нордических легенд в нашем городе (в котором не проявились еще их ярко выраженные черты).
Особняк Мейера является по времени возникновения исключением. Остальные изображения появляются позже. Петербуржцам тетралогия Вагнера за редкими исключениями в эти годы еще не известна. Впервые "Кольцо нибелунга" было показано в Петербурге на императорской сцене в 1889 году немецкой труппой. В русской постановке оперы "Валькирия" и "Зигфрид" впервые увидели свет лишь спустя десять лет и с той поры вплоть до 1914 года шли почти непрерывно. Ставилась тетралогия полностью или частями и в других театрах России, кроме того, русская интеллигенция могла видеть ее в Германии и других европейских городах.
Салтыкова-Щедрина ул., 4. Здание Александровского комитета о раненых (1901), автор проекта и строитель Н.Д. Цвейберг. Между окнами верхнего этажа располагаются лепные изображения мужских голов (ил. 4). Они выполнены в типично северном, "вагнеровском" стиле: бороды, свисающие книзу усы, крылатые остроконечные шлемы.
Казанская пл., 1 – Казанская ул., 2. Доходный дом Г.К. Кохендерфера. Перестроен в 1902 году архитектором Е.И. Гонцкевичем совместно с Г.К.Кохендерфером. Над большим полукруглым окном верхнего этажа, обращенным в сторону Казанского собора, мы видим крупную женскую голову в шлеме с крыльями дракона или летучей мыши (ил. 5). Возможно, здесь непосредственно и не предполагалаcь валькирия, а образ представляет, так сказать, собственную "мифологию" модерна. Однако, в любом случае, на культуру "нового стиля" большое влияние оказал все тот же Вагнер, так что косвенная связь тут безусловно имеется.
7-ая Красноармейская ул., 5. Доходный дом. Построен в 1904 году архитектором Е.Н. Грушецким. Здесь также видим на фасаде женские головы в крылатых шлемах (ил. 6).
Гороховая ул., 47. Дом Компании для хранения закладных имуществ. Архитектура здания невыразительна, несмотря на несколько перестроек, одну из которых осуществлял П.Ю. Сюзор (автор проекта Дома акционерного общества "Зингер и К"). Но с точки зрения интересующей нас темы здание представляет собой настоящую жемчужину.
Фасад первого этажа (отделывался под руководством В.С. Карповича в 1912 году) украшен шестью маскаронами явно нордического мифологического облика, прямо-таки пантеон! Наибольшее внимание привлекают крылатые головы косматого бородача и женщины (ил. 7, 8). Овал их лиц принадлежит к северному, балтийскому типу.
Для того, чтобы проверить данную гипотезу на более широком материале, целесообразно привлечь и сведения по архитектурному декору Москвы, сравнив его с приведенными в данной работе петербургскими образцами.
Вот формы, наиболее интересные с моей точки зрения:
Пушкинская ул., 12. Здание перестроено в 1894 году архитектором С.С. Эйбушитцем. На фасаде обращает на себя внимание голова воина в крылатом шлеме (ил. 9). Лицо с пышными, свисающими усами напоминает описанный тип с петербургского дома (Салтыкова-Щедрина, 4).
Хлебный пер., 18. Архитектор С.У. Соловьев, 1901. Рельефное изображение бюста женщины, с расправленными крыльями летучей мыши и в шлеме в виде совы (ил. 10). Этот тип перекликается с упомянутым выше петербургским (Плеханова ул. 2).
Телеграфный пер., 9. Архитектор А.Н. Зелигсон. Разнообразный декор, в числе прочего – крылатые львы. Для рассматриваемой темы большой интерес представляет лицо старого бородатого мужа в крылатом шлеме (ил. 11).
В Санкт-Петербурге кроме окрыленных ликов имеются (или имелись) произведения объемной скульптуры, возможно также выполненные по германо-скандинавской тематике. Они, как и рассмотренные выше формы, включались в обрамление зданий. Вот два примера:
Исаакиевская пл., 11 (Большая Морская ул., 41). Новое здание Германского посольства. Построено в 1910–1912 годах известным немецким архитектором Петером Беренсом. Здание являет собой сочетание особенностей неоклассики и неоромантики. На крыше со стороны площади находилась скульптурная группа: двое мужей с круглыми щитами, держащие под уздцы лошадей (ил. 14). Они могли изображать и античных воинов, но их грубая мощь вполне соответствует нашим представлениям о древних германцах. К тому же, как известно, немецкий неоромантизм проявлял особенный интерес к национальной мифологии. Группе была уготована печальная судьба, она простояла лишь несколько лет. В 1914 году разразилась Первая мировая война и статуи сбросили на землю. Их дальнейшая судьба неизвестна.
Первая мировая война и последовавшая за ней революция остановили естественное развитие культурного процесса. Связи между балтийскими народами оказались прерванными. Все, что казалось "чужим" изгонялось из отечественной культуры. И лишь десятилетия спустя, мы вновь стали открывать для себя то, что было найдено и познано блестящей эпохой неоромантизма.
Хмельницкий О. О книге Розамунд Бартлетт "Вагнер в России"
Россия внесла существенный вклад в освоение творческого наследия Вагнера. Влияние русской культуры, русской манеры исполнения Вагнера несомненно. Это отчетливо демонстрирует изданная в Кембриджском университете в 1995 году книга Розамунд Бартлетт "Вагнер и Россия". (Rosamund Bartlett "Wagner end Russia", 1995). Она является свидетельством беспристрастного исследователя "со стороны", не стесненного цензурными рамками. В ней много новых данных и интересных высказываний. Автор скрупулезно собрала огромный архивный материал, работая в наших отечественных библиотеках, беседуя с лицами, имеющими хоть какое-то отношение к интерпретации творчества Вагнера в России. Могу об этом сказать с полным основанием, так как был подвергнут "строжайшему допросу" со стороны Р. Бартлетт по поводу существовавшего в 20 – 30-х годах в Ленинграде общества вагнеровского искусства, которое возглавлял мой отец и которое было разгромлено после того, как отец, отвечая на вопрос "Как увязать Вагнера с марксистским учением?", простодушно ответил: "Марксизм неприменим к Вагнеру".
В своей книге Р. Бартлетт подчеркивает, что в России творчество Вагнера более чем где-либо в Европе нашло плодотворную почву. Начиная с 1841 года, указывает она, когда имя Вагнера впервые узнали в России, в течение более 150 лет его творчество было предметом пристального внимания, остается им и сейчас, когда оно реабилитировано в эпоху перестройки и гласности.
В первой главе автор подробно прослеживает период с 1841 по 1863 год, когда, как она пишет, Россия впервые встретилась с музыкой будущего, чему способствовал приезд Вагнера в Петербург и Москву и последовавшие затем отклики на его концерты в русской прессе. Она приводит интересные данные о роли великой княгини Елены Павловны, которая принимала активное участие в организации приезда Вагнера и оказала ему материальную помощь в размере 1.000 рублей. В письме своей жене Минне Вагнер писал, что он хотел бы в свой следующий приезд в Петербург заработать много денег на годы вперед. И возможно, что его следующий приезд в Россию состоялся бы, несмотря на сбои в договоренности о его новом предстоящем визите. И Россия вновь бы встретилась с Вагнером. Но чудо, которое свершилось в судьбе Вагнера, начавшаяся моральная и щедрая материальная помощь со стороны влюбленного в творчество композитора, Людовика II Баварского, закончившаяся постройкой в Байройте театра для исполнения вагнеровских творений, и обретенная им вилла Ванфрид, изменили жизнь Вагнера. Из вечно материально зависимого, обремененного долгами человека он превратился в независимого свободного творца. Р. Бартлетт подробно останавливается на первых постановках ранних вагнеровских опер. Она приводит описание занятного диалога у кассы Н. Степанова, отражающего отношение публики того времени к Вагнеру. Кассир в ответ на вопрос "Собирают ли полный зал его оперы?" отвечает, что такое возможно раз в пятьдесят лет. Но этот "дружеский шарж" оказался опровергнутым. После открытия Байройтского фестиваля, куда отправились многие музыканты, включая и П.И. Чайковского, отчета о нем в прессе, дискуссии, разгоревшейся среди русских музыкантов, интерес к Вагнеру только повысился. И свидетельством этого, как указывает Р. Бартлетт, были первые постановки его музыкальных драм из "Кольца нибелунга". Все это повлекло за собой увлечение Вагнером и получило свое отражение в русской литературе. Р. Бартлетт пишет, что и Вагнер, и Достоевский проделали почти одновременно, независимо друг от друга эволюцию от революционных устремлений к религиозному самосознанию. "Бедные люди" написаны Достоевским в 1846 году, а пронизанная революционным пафосом опера "Риенци" в 1842 году. Почти одновременно оба великих художника закончили свои выдающиеся творения, проникнутые религиозными идеями. Достоевский закончил роман "Братья Карамазовы" в 1880 году, а Вагнер свою последнюю оперу-мистерию "Парсифаль" в 1882 году. Вагнер был старше Достоевского на 8 лет и пережил его на 2 года. Сходство эволюции взглядов двух гениев с интересом отметил Томас Манн. Он указывал, что в образе Клингзора в "Парсифале" Вагнер демонстрирует бесперспективность царства греха и переносит нас в мир христианской проницательности, похожий на мир Достоевского.
Большое место в книге Р. Бартлетт занимает раздел "Вагнер и русский модернизм", охватывающий период с 1890 по 1917 год. Она останавливается на роли "Русской музыкальной газеты", много сделавшей для популяризации Вагнера, описывает первое исполнение всего цикла "Кольца нибелунга" и связывает с этим "подъем русского вагнеризма". Подробно разбирает эпохальную для своего времени постановку В.Э. Мейерхольдом "Тристана и Изольды" и посвящает целый раздел увлечению творчеством Вагнера (от вагнеризма к вагнеровщине) и воздействию Вагнера на русскую музыку в предреволюционный период. В числе различного рода свидетельств она приводит отклики прессы на выступление в симфоническом концерте под управлением Зилоти великого Ф.И. Шаляпина. Известно, что Ф.И. Шаляпин не участвовал в вагнеровских постановках, и поэтому так ценны сведения о его трактовке "Прощания Вотана с Брунгильдой" в концертном исполнении. Интересно и отношение 16-летнего С.С. Прокофьева к Вагнеру, который испытывал трудности в осуществлении подписки на издание партитур произведений Вагнера, которые были необходимы ему для изучения. Р. Бартлетт считает, что Вагнер оказал большое влияние на творчество тогдашних молодых русских композиторов: Н. Мясковского, А. Дроздова, С. Василенко.
Большое место в книге уделено проблеме: "Вагнер и серебряный век русской литературы". Сама Р. Бартлетт по профессии филолог-славист, и владеет свободно русским языком, в чем я мог лично убедиться, прекрасно знакома с русской литературой начала ХХ века. Она подробно разбирает такие вопросы, как "Вагнер и русский символизм", и много уделяет внимания проблеме влияния Вагнера на творчество Вячеслава Иванова. Этот интересный поэт-мыслитель, энциклопедист, сыгравший большую роль в становлении многих поэтов (вспомним "открытие" Анны Ахматовой в знаменитой башне на Таврической улице) и закончивший свою жизнь в эмиграции в качестве библиотекаря в Ватикане, хорошо известен на Западе. У нас интерес к нему проявился только в последнее время.
Имеют большое познавательное значение и разделы текста, посвященные рассмотрению влияния Вагнера на Белого, Метнера, Эллиса. Андрей Белый с его антропософией и поиском истины тоже меньше знаком русскому читателю, чем зарубежным специалистам. И поэтому страницы книги, отражающие образ Зигфрида и поиск Грааля в творчестве А. Белого представляют несомненный интерес. Более знакомо нам представление о месте и значении Вагнера в творчестве А. Блока, о чем достаточно полно изложено в книге А.А. Гозенпуда. Здесь, пожалуй, "перевес" на его стороне по сравнению с тем, что пишет Р. Бартлетт.
С большим интересом читатель ознакомится с главой "Вагнер в Советской России". Конечно, Р. Бартлетт писала по данным, которые она могла почерпнуть из печатных изданий. И тут, казалось бы, нет ничего нового. Но независимая трактовка этих "свидетельских показаний", проведенная весьма корректно, отличает ее текст от того, что издано у нас. Оригинальным представляется небольшой раздел "Постановки Вагнера в век конструктивизма". В нем Р. Бартлетт освещает эту доселе неразработанную проблему, которую она связывает с предшествующим периодом модернизма, и в качестве иллюстрации подробно характеризует постановку в 1923 году "Лоэнгрина" в Большом театре. Автор воскрешает забытое отечественными исследователями существовавшее в Ленинграде в 20-х годах Общество вагнеровского искусства, пытавшееся представить цикл "Кольца нибелунга" на концертной эстраде и осуществившего исполнение "Золота Рейна" и "Валькирии". К сожалению, по идеологическим соображениям общество было закрыто, и идея представить все "Кольцо нибелунга" оказалась нереализованной. В книге Р. Бартлетт помещены эскизы специальных костюмов для певцов, выступавщих на концертной эстраде в вагнеровском цикле. Своеобразный ренессанс Вагнера в 20-х годах, когда его творчество пытались трактовать с позиций революционных преобразований, проходивших тогда в России, сменилось скептическим отношением к нему. Период, который Р. Бартлетт обозначила как "Вагнер и искусство для народа", сменился временем, когда, по ее мнению, проблемы идеологии заслонили представление о подлинных культурных ценностях. В том числе и музыки. Подробно останавливается она на новаторской постановке "Валькирии" С. Эйзенштейна. Р. Бартлетт полагает, что в истории русского оперного театра есть две высшие точки сценического воплощения Вагнера – это "Тристан и Изольда" в Мариинском театре и "Валькирия" в Большом театре. Послевоенные годы Р. Бартлетт подразделяет на два периода – "от ждановщины до оттепели" и " от Брежнева к гласности".
Касаясь послевоенного "умолчания" Вагнера, Р. Бартлетт подробнее перечисляет гастрольные спектакли зарубежных театров на сцене Большого театра, чем постановки на отечественных сценах. Выпала из ее внимания интересная постановка "Лоэнгрина" в Киевском театре, безупречная в музыкальном отношении, где проявил себя как тонкий интерпретатор Вагнера замечательный дирижер К.А. Симеонов. Позднее он возобновил с успехом эту оперу на сцене Мариинского театра.
Как видим, Вагнер практически не оплодотворил тех писателей, которых можно причислить к советским. У них была задача – выжить, и "инженеры человеческих душ" в своем творчестве вынуждены были ориентироваться на признанных благонадежными великих людей, если они вспоминали о таковых в своем творчестве. В связи с этим нельзя не привести цитату из книги Бартлетт: "Это было достаточно необычно, что композитор XIX века смог так долго продержаться в русской художественной жизни – до 1940 года. Естественно, влияние Вагнера должно было уменьшиться, так как стало очевидно, что утопические мечты идеального искусства для масс, которые трансформировались в новое социалистическое общество, никогда не станут реальностью".
Книга Р. Бартлетт – серьезный вклад в изучение влияния Р. Вагнера на русскую культуру. Помимо новых фактических данных и оригинального осмысления взаимосвязей эстетического мировоззрения великого композитора и русского искусства и литературы, она ценна непредвзятой объективностью, использованием огромного материала, прекрасной библиографией и красотой издания. Сейчас, когда перед русским оперным театром вновь возникла возможность нового возрождения Вагнера на сцене, рецензируемая книга представляет особую ценность.
Михаил Назаренко. "Рождение фэнтези из духа музыки"
Источник: журнал "Реальность фантастики" №2 (42), 2007 г, статья из серии "За пределами ведомых нам полей"
Летают Валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
Осип Мандельштам.
«Может быть, «Нибелунги» очень великое произведение, но уж наверное скучнее и растянутее этой канители еще никогда ничего не было... Все эти Вотаны, Брунгильды, Фрики и т.д. так невозможны, так нечеловечны, так трудно принимать в них живое участие. Да и как мало жизни!»[2]
А ведь говорил — вернее, писал в личной корреспонденции — не дилетант, и не упрямый консерватор, и не враг фантастики: Петр Ильич Чайковский. Неужели принц Зигфрид из «Лебединого озера» ближе к жизни, чем Зигфрид Вельзунг из «Кольца Нибелунга»?
Если уж Чайковский не принял Вагнера (только последняя опера немецкого композитора, «Парцифаль», заставила его русского коллегу пересмотреть взгляды), то что говорить о Льве Толстом, который склонен был отрицать не только «неестественность» оперы, но и (современное) искусство вообще! В трактате «Что такое искусство?» Толстой дал замечательно смешной пересказ третьей оперы «Кольца» — для того лишь, чтобы доказать: «...Не говоря о взрослом рабочем человеке, трудно себе представить даже и ребенка старше семи лет, который мог бы заняться этой глупой, нескладной сказкой». В самом деле: «Загадки [Миме и Вотана] не имеют никакого другого смысла, как тот, чтобы рассказать зрителям, кто такие Нибелунги, кто великаны, кто боги и что было прежде. Разговор этот также со странно разинутыми ртами происходит нараспев и продолжается по либретто на восьми страницах и соответственно долго на сцене. После этого странник уходит, приходит опять Зигфрид и разговаривает с Миме еще на тринадцати страницах. Мелодии ни одной, а все время только переплетение лейтмотивов лиц и предметов разговора. Разговор идет о том, что Миме хочет научить Зигфрида страху, а Зигфрид не знает, что такое страх. Окончив этот разговор, Зигфрид схватывает кусок того, что должно представлять куски меча, распиливает его, кладет на то, что должно представлять горн, и сваривает и потом кует и поет: Heaho, heaho, hoho! Hoho, hoho, hoho, hoho; hoheo, haho, haheo, hoho, и конец 1-го акта».
Да и устно Толстой не уставал «нападать на вагнеровские сюжеты, говоря, что ему, человеку XIX века и христианину, нет надобности знать, что делали скандинавские боги, что он удивлялся Н.Н.[Страхову, известному критику], когда тот ему рассказывал сюжет «Нибелунгов» и восхищался этими детскими сказками. Н.Н., стоявший против него, медленно и с усилием произнес: «Сюжет удивительный»».[3]
В наши дни скорее придется доказывать не достоинства сюжета, не правомерность введения языческих богов в современные произведения искусства, но — гениальность музыки Вагнера.
«— Три дня ругани между богами и двадцать минут запоминаемых мелодий? Нет уж, благодарю покорно».
Так обсуждают репертуар оперного театра герои Пратчетта («Маскарад», пер. С.Увбарх); боюсь, что эту точку зрения разделяют многие из моих читателей. В этой статье я сведу вопрос о причинах колоссального (в том числе и коммерческого) успеха Вагнера к проблеме более узкой: какое влияние Вагнер оказал на фэнтези и почему оно так велико?
Здесь самое время вспомнить о времени. Времени и месте.
Германия не только породила романтизм, она его еще и экспортировала. Как в XV веке Мэлори вынужденно опирался на французские источники, создавая свой _opus magnum_, так и в XIX веке англичане получили артуриану, возвращенную в современный контекст, от немцев.
Август Шлегель обратился к сюжету о Тристане и Изольде в 1800 году, за четыре года до того, как Вальтер Скотт издал старинную английскую поэму «Сэр Тристрем» и более чем за полвека до поэмы Мэтью Арнольда (правда, Шлегель свою обработку так и не закончил).
Что еще важнее, на рубеже XVIII-XIX веков Фридрих Шлегель и Фридрих Шеллинг посвятили философские труды понятию мифа. Одной из задач, поставленных ими перед культурой, было создание современной мифологии, которая стала бы синтезом мифа языческого и христианского, природы и истории.[4]
Вагнер пришел к схожему решению, следуя не философии, а музыке. С трактатом Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» он познакомился, когда первый план «Кольца» был уже набросан. Если коротко суммировать взгляды Вагнера на оперу («Искусство будущего», 1849; «Опера и драма», 1851), то перед нами предстанет грандиозная и захватывающая картина... постепенного упадка театра и музыки. Изначальное единство слова, мелодии, движения в греческой драме сменяется веками их разделения. Шекспир и Бетховен довели свое искусство до совершенства — и показали, что дальше пути нет. Вернее, по этому пути дороги нет; а Шекспир к тому же был ограничен театральной техникой своего времени. Литература же последних веков (в противоположность драме) обратилась к внешнему, социальному миру, забыв о мире внутреннем; следовательно, роман — не выход из культурного тупика. Не стала выходом и опера: единства она достичь так и не смогла, поскольку либреттист, композитор и прочие участники спектакля действуют вразнобой, будучи к тому же скованы условностями — даже не сцены, а традиции. Вагнер пришел в ярость, когда от него потребовали, чтобы в одну из опер он добавил балетную сцену — как же без нее!
Поэт может проанализировать то, что чувствует интуитивно (этим он и отличается от простых смертных), — и собрать новую картину, которая будет властно влиять на чувства зрителей. Потому и необходим синтез поэзии и музыки, что последняя развернуто выражает то, что сконцентрировано и скрыто содержится в первой. И, конечно же, музыка главным образом обращена к эмоциям, тогда как поэзия — к интеллекту. Из чего следует, что и творцом их должен быть один человек: на новом уровне происходит возврат к древнейшей стадии развития человечества, когда слово и мелодия были неразделимы в речи.
И вот тут-то мы подходим к самому главному для нас. Что должно стать предметом музыкальной драмы? Не суетная современность, но и не история, которую невозможно ощутить, а лишь понять при помощи рациональных построений ученых, заведомо убивающих непосредственность восприятия. Остается единственная форма, в которую Человек (Народ) облекает свои впечатления: миф.
«Если мы теперь захотим определить произведение поэта в его высшей возможной силе, то должны назвать его оправданным чистейшим человеческим сознанием, отвечающим воззрению современной ему жизни, вновь созданным и понятно представленным в драме мифом!» [5]
Противоречия тут нет: поэт потому и «отвечает воззрению современной ему жизни», что «миф — начало и конец истории» [6] Напомню, это пишет человек, уже создавший «Летучего голландца» (1843), «Тангейзера» (1845) и «Лоэнгрина» (1850), в которых претворены три знаменитых сюжета, причем «Лоэнгрин» уже создавался как реконструкция некоего пра-сюжета, общего для германской и греческой мифологий. И в эти же годы у Вагнера сложился замысел, узнав о котором, Ференц Лист восторженно откликнулся:
«Итак, за труд! Смело работай над своим великим созданием, для которого пусть не будет начертано у тебя другой программы, кроме программы, данной капитулом Севильи архитектору, строившему кафедральный собор: «Построй нам такой храм, при виде которого последующие поколения сказали бы: капитул был сумасшедший, если он решился на такое необычайное предприятие!» И вот все же кафедральный собор Севильи и поныне устремляет к небесам свои башни».[7]
От сравнений Вагнера и Толкина никуда не уйти, так вот первое: оба творца могли не то что годами — десятилетиями обдумывать широкие планы, которые подчас преображались до неузнаваемости. В 1845 году Вагнер с восторгом прочитал роман Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» — тридцать семь лет спустя состоялась премьера одноименной оперы. В 1848 году, за двадцать восемь лет до первой постановки тетралогии «Кольцо Нибелунга», Вагнер опубликовал брошюру «Вибелунги. Всемирная история согласно саге» — и как же она далека от либретто, не говоря о самих операх!
К этому времени Вагнер был хорошо знаком не только с комплексом древних текстов, посвященных Нибелунгам (скандинавским Нифлунгам), но и с трудами историков и фольклористов. К.Лахман и Я.Гримм, по собственному признанию композитора, помогли ему проникнуть в мир эпоса гораздо глубже, нежели это позволила бы «Песнь о Нибелунгах», созданная на рубеже XII-XIII веков. Чрезвычайно характерно, что и до, и после Вагнера деятели германской культуры обращались именно к этому — очень позднему, зато несомненно немецкому тексту (драматическая трилогия Кристиана Фридриха Геббеля «Нибелунги», 1862; поставленный по ее мотивам — а не по тетралогии Вагнера! — знаменитый фильм Фрица Ланга «Нибелунги», 1924).
При том, что Вагнер жестко противопоставлял историческую реконструкцию и музыкальную драму, он, тем не менее, прежде чем приступить к работе над оперой, счел нужным опубликовать нечто, напоминающее труд по истории. Но какая история и какой труд!
«В эпоху, которую большинство саг именует Великим Потопом, когда северное полушарие нашей Земли было столь же покрыто водой, как ныне южное, самым большим островом в этом море северного мира являлась высочайшая горная гряда Азии, так называемый Индийский Кавказ: на этом острове, т.е. в этих горах, и надлежит искать колыбель нынешних азиатских народов, а равно и тех, кто ушел оттуда в Европу. Здесь — наследный престол всех религий, всех языков, рыцарства всех наций».[8]
Так начинает Вагнер свое повествование о Вибелунгах и далее на каких-то сорока страницах очерчивает ход событий, в которых миф и действительность абсолютно неразделимы — ведь миф и есть абсолютная действительность!
В начале всего — вечная борьба света и тьмы, победа Зигфрида, солнечного бога, над драконом-Нибелунгом из племени «темных альвов». Завладев сокровищем, Зигфрид сам становится Нибелунгом. Такова судьба этого древнего клада: владеть им может или Нибелунг, или тот, кто в Нибелунга превратится. «Ибо Клад содержит в себе средства достижения и удержания власти, как единый Талисман Владычества»; это сама Природа, само Мироздание. _
Но Зигфрид пал, сраженный, и «прадавняя битва продолжается нами, изменчивость ее хода есть не что иное, как вечная смена дня и ночи, лета и зимы — судьба самого рода человеческого, вечно колеблющегося между жизнью и смертью, триумфом и поражением, радостью и скорбью».
Здесь мы наконец вступаем в пределы Истории, поскольку «германский народ — наследник древнейшего королевского рода: он происходит от Сына Божьего, коего соплеменники называли Зигфридом, а прочие народы земли — Христом». Так, по мысли Вагнера, должен был рассуждать Фридрих Барбаросса, глядя на долгую борьбу двух племен, Вибелунгов (Нибелунгов) и Вельфов — гибеллинов и гвельфов, короля и жреца, Императора и Папы Римского. Власть над Европой, над Священной Римской Империей — это и есть обладание древним Кладом.
Именно Барбароссе суждено было завершить борьбу: он примирился с Папой, дал свободу ломбардским городам — и устремил взор на Восток. Нет, не к Гробу Господню, но дальше, дальше, к прародине человечества, индийским горам, где правит король-жрец, Пресвитер Иоанн, хранитель чаши Святого Грааля.
«...Непокой гнал его в дальние пределы Азии. Там, на буревом поле он разбил силы Сарацинов; перед ним открыто лежала земля обетованная; он не мог ждать, пока возведут перекидной мост, и нетерпеливо ринулся на Восток, — на лошади он устремился в бурный поток: и в этой жизни никто более не видел его».
Но Барбаросса не погиб: в горе Кифгейзер спит он, в той самой горе, где некогда Зигфрид сразил дракона, и охраняет Клад, сгинувший с поверхности земли; меч драконоборца лежит подле него.
Брошюра эта интересна не только вдохновенным безумием автора; и не только потому, что влияния вагнеровских идей явно не избежали позднейшие искатели Шамбалы (да и Умберто Эко в романе «Баудолино»). Вагнер попытался нащупать возможности соединения Мифа, т.е. безусловной истины с Историей, живым процессом. Более того — перед нами опыт пересоздания Мифа: отдельные элементы, каждый из которых хорошо известен, складываются в новую, небывалую картину, обладающую, по замыслу автора, чрезвычайной убедительностью.
Нет, не убеждает. Вагнер, несомненно, и сам это понял, почему и отказался от замысла оперы о Фридрихе Барбароссе. Миф может стать объяснением истории (всё происходит так-то и так-то потому-то и потому-то). История может быть превращена в миф (что, собственно, и произошло с Барбароссой в фольклоре). Но соединить историю и миф напрямую невозможно.
Сразу же после «Вибелунгов» — год в год — Вагнер пишет «Миф о Нибелунгах. Набросок драмы», и в этом десятистраничном эскизе уже содержится законченный сюжет будущего «Кольца». Миф явился на свет. Авторский миф.
Вагнер в такой мере определил само восприятие мифа в культуре, что многие его находки и открытия — литературные, не музыкальные! — кажутся сейчас очевидными. А ведь предельно серьезный подход к мифологии, к «невозможным и нечеловечным» скандинавским богам и героям — заслуга Вагнера. Если бы он только содействовал возрождению интереса писателей к древним сюжетам, то и тогда влияние Вагнера на фэнтези было бы чрезвычайно велико. Но композитор также сумел внушить современникам и потомкам новый взгляд на Миф.
Вот что писал Фридрих Ницше — верный последователь Вагнера (которому посвящена первая книга философа, «Рождение трагедии из духа музыки), «реальный» прототип Зигфрида, непримиримый противник Вагнера в последующие годы:
«Миф глубоко пал и исказился, — превратившись в «сказку», занимательную игру, радость детей и женщин выродившегося народа [...]
В основе мифа лежит не мысль, как это полагают сыны искусственной культуры, но он сам есть мышление, он передает некоторое представление о мире, в смене событий, действий и страданий. «Кольцо Нибелунга» есть огромная система мыслей, но не облеченная в форму мысли, как понятия» («Несвоевременные размышления. Рихард Вагнер в Байрёйте»).
Поясню — точнее, перефразирую, — последние слова. Смысл мифа не может быть выражен в какой-то одной фразе, в каком-то итоговом выводе. Его смысл — это его сюжет, его структура. В этом смысле _ понять_ миф невозможно, а вот прочувствовать — вполне. Но ведь такую задачу и ставил Вагнер перед зрителем музыкальной драмы!
Миф у Вагнера перестал быть «сказкой», перестал быть и только выражением народного духа. Стал тем, чем и был когда-то, — истиной. «Это язык «минувшего» в его двузначности, заключающей в себе «то, что было», и «то, что будет», — скажет о зрелой вагнеровской мифологии Томас Манн.[9] Иначе говоря — то, чего никогда не было и что пребывает вечно. «Кольцо Нибелунга» заканчивается концом света — древнего света мифов или того, в котором живут зрители?
Оказалось, что нет никакой необходимости сплетать древние сказания с реальностью исторической жизни Европы. Миф в музыкальной драме не может не быть современным — уже потому, что создает его человек XIX века (тот самый, которому, по словам Толстого, якобы не интересна северная мифология). И новая опера, с одной стороны, изображает «интимную судьбу европейского индивидуума» [10] (что стало возможным только благодаря эпохе романтизма), а с другой — оказывается сильнейшим инструментом анализа мифа архаического.
В ХХ веке культурологи с некоторым изумлением увидели, что по-настоящему понять «Кольцо Нибелунга» можно, только если обратиться к древнейшим пластам мифологии. Сергей Эйзенштейн, поставивший «Валькирию» в Большом театре (1940 г.), написал глубокую статью, где доказал, что режиссер, художник и певцы должны воспроизвести на сцене реальность мифа во всех ее проявлениях, включая и мифологическое сознание. Иная психология, иные время и пространство.[11]
Выше было сказано, что оперы Вагнера — инструмент анализа мифов. Это именно так: «Вагнер бесспорно является отцом структурного анализа мифов... — говорит крупнейший исследователь мифологии Клод Леви-Стросс. — Весьма показательно, что этот анализ сначала был осуществлён в музыке! Поэтому, показывая, что анализ мифов подобен большой партитуре, мы просто извлекаем логическое следствие из вагнеровского открытия: структура мифов раскрывается с помощью музыкальной партитуры».[12]
Как такое возможно? Как музыка может воспроизводить миф, то есть повествование? Как партитура становится «акустической мыслью» [13]?
Для того, чтобы ответить на эти непростые вопросы, нужно для начала вспомнить фабулу «Кольца». Нет, я, конечно же, не буду пересказывать события всех четырех опер («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Сумерки богов»): найти краткие изложения либретто вам труда не составит, было бы желание. Но главные вехи напомнит нужно.
Нибелунг, темный карлик Альберих, прокляв любовь, добывает золото из вод Рейна (ибо только так и можно им овладеть) и кует из него Кольцо, дающее власть над миром и всеми его богатствами. Но вскоре в его подземные чертоги являются боги Вотан и Логе (Один и Локи). Они хитростью захватывают Альбериха в плен: ведь им необходимо его золото, чтобы заплатить великанам за строительство Вальгаллы, чертога богов. Частью выкупа становится и Кольцо; создатель проклинает его: отныне все будут стремиться им завладеть, всем оно будет приносить гибель, и «Властелин Кольца станет рабом Кольца». Как ни хотелось Вотану оставить сокровище себе, он вынужден, осознав опасность, отдать его великанам — и тут же проклятие Кольца свершается, великан Фафнир убивает своего собрата Фазольта.
Затем действие переносится в героический век, когда на земле жили Вельзунги, потомки Вотана, ходившего по земле под именем Вельзе (Волк). Зигфрид, дитя запретной любви Зигмунда и Зиглинды (брата и сестры Вельзунгов), убивает Фафнира, который в облике дракона возлежит на золоте, забирает Кольцо и пробуждает валькирию Брунгильду. Она спала на скале, окруженной огнем, ибо вопреки приказу своего отца Вотана пыталась помочь Зигмунду в бою. Из-за людского коварства Зигфрид забывает Брунгильду (виной тому волшебный напиток) и погибает; его убийца — Хаген, сын Альбериха, также вожделеющий Кольцо. Брунгильда, ставшая виновницей гибели любимого, сгорает вместе с ним на погребальном костре, рушится Вальгалла (чья судьба неразрывно связана с судьбой Кольца), гибнут боги, а рейнские русалки возвращают в свои владения древнее золото.
Пересказ нарочито примитивный; Льву Толстому для изложения событий «Кольца» понадобилось четыре страницы, а завершил он приложение к трактату «Что такое искусство?» следующими словами: «Впечатление при моем пересказе, конечно, не полное. Но как ни неполно оно, оно, наверно, несравненно выгоднее, чем то, которое получается при чтении тех четырех книжек, в которых это напечатано».
В том-то и беда, что «Кольцо Нибелунга» в таком варианте действительно становится детской — или не очень детской, но сказочкой. (Любопытно, что «Сагу о Вёльсунгах» действительно превратил в сказку известный фольклорист Эндрю Лэнг, неоднократно упомянутый в других статьях этого цикла.)
А теперь я попытаюсь показать — по необходимости столь же кратко — как работает вагнеровский миф.
В пересказе исчезают не только нюансы (здесь — даже ключевые персонажи, как Миме или Гутруна), но и психология героев, изображенная Вагнером чрезвычайно тонко. Но психология эта — не современная или, во всяком случае, не вполне современная.
Следы XIX века найти, конечно же, несложно. Мысли Вотана перекликаются с идеями Шопенгауэра; старый бог, по признанию Вагнера, — образ современного европейского интеллигента (равно как Альберих — символ международного еврейского капитала... никуда не денешься от факта: Вагнер был лютым антисемитом, хотя и, как полагают, наполовину евреем).
Но насколько размыто в тетралогии понятие человеческого «я»! Оно еще не вполне отделено от коллектива и даже от природы. Вотан стал отцом Зигмунда, чтобы тот, не скованный клятвой, которую бог дал великанам, мог добыть Кольцо. Но, как точно замечает жена Вотана Фрика, Зигмунд — не самостоятельная личность. Он, как и валькирии, — порождение Вотана и, следовательно, остается его частью, так же не свободен, как и отец. (Судьба Брунгильды, снова и снова идущей против желаний Вотана, — это представленная в рамках мифа история рождения личности.)
Возмутивший Льва Толстого разврат («Зигмунд узнает, что Зиглинда его сестра и что его отец вбил меч в дерево, так что никто не может вынуть его. Зигмунд выхватывает этот меч и совершает блуд с сестрой») действительно необъясним для «человека XIX века и христианина», однако совершенно логичен и в рамках мифа, и в сюжете оперы. Зигмунд и Зиглинда — первопредки, положившие начало роду ( «Ты сестра мне, ты и жена мне — / Цвети же, Вельзунгов род!»; пер. В.Коломийцова), над которыми не властно табу на инцест. По логике же событий — Вотану нужно, чтобы его сын стал вне закона, вне всякого закона, ибо только тогда он сможет обойти клятву, данную богами великанам.
Подобно тому, как человек еще не вышел из родового «мы», также и внешняя речь еще не отделена от внутренней (поскольку не разделены внешний и внутренний миры). Классический театральный прием — речи «в сторону» — Вагнер поставил на службу своим целям. Самые тайные замыслы героев воплощаются в музыке. Лейтмотив меча звучит в финале «Золота Рейна», что означает: Вотан задумал добыть Кольцо с помощью героя-человека. Зигфрид, слизнув с руки драконову кровь, начинает слышать коварные мысли Миме, которые кроются за сладкими словами: совершенно шизофренический результат заставляет вспомнить о Голлуме.
Двоякую функцию выполняют и бесконечные повторы, пересказы того, что зрителю уже известно. С одной стороны — это еще одна отсылка к мифу. Вотан и Миме обмениваются загадками потому, что в «исходном» мифе герои обмениваются загадками. Вещунья раскрывает Вотану тайны прошлого и будущего, потому что так происходит в мифе. Потому что миф разворачивается перед нами. Но, с другой стороны, каждый такой повтор драматургически мотивирован. Зигфрид беспечно рассказывает о своих подвигах, а зритель понимает, что вот сейчас он вспомнит Брунгильду. Наконец, при каждом повторе нам сообщается что-то новое: Вагнер любит объяснять причины событий после того, как показал следствия.
С первого появления Вотан расхаживает по сцене с повязкой на глазу; в руке у бога — ясеневое Копье Закона. Каждый, кто знаком со скандинавской мифологией, скажет, как Вотан потерял глаз и что это за ясень такой. Но только в прологе к четвертой части мы узнаем, что Мировое Древо высохло, когда Вотан отрубил его ветвь, и что теперь Ясень стал дровами для погребального костра в Вальгалле. Мы знаем, что валькирии — дочери Вотана, но только из монолога, обращенного к Брунгильде, становится известно, что девы-воительницы собирают героев в Вальгаллу на случай, если Альберих овладеет кольцом и придется защищать цитадель от Нибелунговых орд. И — одна из самых ярких и страшных сцен тетралогии: Вотан обрекает Зигмунда на смерть, вспоминает о сыне Альбериха и в отчаянии благословляет потомство своего врага.
Сломись, разбейся, дело мое!
Я с ним расстаюсь; одного лишь я хочу:
конца...
конца!..
Прежде о Хагене мы ничего не слышали: Вагнер приберег сведения до того момента, когда они произведут наибольший эффект.
Я вскользь упомянул «лейтмотив» — как известно, именно на системе лейтмотивов строится музыка Вагнера;14 всего их в тетралогии около девяноста. Роль их не сводится к вульгарной иллюстративности, над которой издевался Толстой ( «Есть мотив кольца, мотив шлема, мотив яблока, огня, копья, меча, воды и др., и как только упоминается кольцо, шлем, яблоко, — так и мотив или аккорд шлема, яблока») и которая так процветает в современных саундтреках. Нет, лейтмотивы непосредственно связаны с мифом.
Какова же параллель между мифом и музыкой? Леви-Стросс заметил, что если бы инопланетяне попытались читать наши оркестровые партитуры, у них бы ничего не вышло до тех пор, пока они не поняли, что рассматривать эти странные тексты нужно одновременно по горизонтали (течение музыки) и по вертикали (отдельные инструменты). Так же и миф: его «горизонтальное прочтение» — изложение сюжета, прочтение же «вертикальное» — по тематическим группам, связи в которых могут быть далеко не очевидны. Что же объединяет оперные элементы в такие группы? Именно лейтмотивы.
Музыкальные темы не только раскрывают тайные помыслы героев, но и позволяют увидеть связи, которые совершенно не очевидны при чтении либретто. Так, в первой же сцене «Золота Рейна» в связи с Альберихом возникает героическая тема: ибо Нибелунг действительно герой — первый, кто противопоставил себя природному единству (как позднее Зигмунд бросит вызов законам общественным). Когда Миме пытается объяснить Зигфриду, что такое страх, в оркестре возникает искаженная тема Брунгильды (пробудить которую может только тот, кто не знает страха; кроме того, как заметил Томас Манн, Вагнер неоднократно предвосхищает Фрейда). Из величественной темы Рейна возникают основные лейтмотивы, подобно тому, как и сам Рейн, мировая река, порождает (а в финале — поглощает) всё сущее. В начале темы Кольца и Вальгаллы тесно связаны, поскольку создаются эти объекты одновременно и судьбы их нераздельны.
Такова структура оперы — такова структура мифа. Любые сущности могут отождествиться, между любыми понятиями возможен переход («медиация», говоря языком мифологов).15 Этому способствует и вагнеровская «бесконечная мелодия» — непрерывное развитие, из которого крайне редко выделяются отдельные «номера» (наподобие «Полета Валькирий»).
Вагнеровская реформа имела огромное значение и для музыкальной культуры, и для культурологии ХХ века, но если бы композитор-либреттист ограничился играми с древними мифологическими мотивами, упреки Чайковского и Толстого в том, что мира «Кольца» чужд современности, были бы обоснованы. Однако стоит присмотреться к событиям тетралогии (как это сделал Анри Лиштанберже, глубоко проникший в философию Вагнера), — и мы увидим, с какой точностью и последовательностью автор рассматривает вневременные, а значит, и современные проблемы.
Вотан приобретает знание, платой за которое становится увечье, потеря глаза; создает Копье Закона, само по себе дающее власть (и подчиняющее своей власти) — ценой гибели Великого Древа, основы мироздания; наконец, бог хочет утвердить свою власть навечно, однако именно с постройки нерушимой Вальгаллы начинается его путь к гибели. Стремление овладеть кольцом — последний и роковой шаг.
Показательно, что Вагнер приступил к сочинению «Кольца» с последней из опер — «Сумерки богов»; три предыдущие части писались как «приквелы» и объяснения событий. И столь же показательно, что финал финалов Вагнер переписывал несколько раз. Первоначально Зигфрид хотя и погибал, но Брунгильда, отдав Кольцо русалкам, относила его в Вальгаллу: рана в мироздании исцелена, Вальгалла спасена, Зигфрид становится родоначальником нового, свободного и счастливого человечества. Но остановился Вагнер на ином варианте: окончательная катастрофа уничтожает всех и вся, кроме рейнских русалок и, возможно, Альбериха; «из развалин обрушившегося дворца мужчины и женщины, глубоко потрясённые, смотрят на разгорающийся небесный пожар». Исчез старый закон, исчезла власть золота, и людям теперь нужно искать новые, неведомые ранее принципы существования. Те же, кто принадлежал прежней эпохе, гибнут — в ярости, как Хаген, в смирении, как Вотан, с осознанием необходимости искупления мира, как Брунгильда. Кто таков истинно свободный человек, если все в мире связаны жаждой власти и золота, силой закона и тщетным стремлением управлять своей судьбой? Вот главный вопрос, на который лишь частичным ответом стал образ Зигфрида.
О том, как Вагнер обращался с сюжетами «Старшей Эдды», написано много. Композитор считал себя вправе, выстраивая единственный на все века пра-миф, изменять подробности и мотивировки. Так, чудесным золотом нужно было забросать с ног до головы не богиню молодости Фрейю, а убитую выдру-оборотня; проклятое золото, возможно, и было некогда центром мифологического сюжета (как полагали ученые, чьи труды читал композитор), но в дошедших до нас памятниках это не так. Синтез исследовательского интеллекта и художественной интуиции — метод Вагнера.
Так сто лет спустя работал и Толкин, который отрицал какое-либо сходство «Властелина» с «Нибелунгом». «Оба кольца круглые, вот и всё», — это раздраженное замечание Толкина его почитатели приняли настолько всерьез, что в новейшем 800-страничном комментарии к «Властелину Колец» Вагнер не упоминается вовсе! Между тем, истовые вагнерианцы, с Толкином знакомые слабо, обвиняют Профессора чуть ли не в плагиате. «Комбинация Вагнера и Винни-Пуха», — так высказался о «Властелине Колец» один злобный критик.
Сходство и вправду значительное, которое не объяснить тем, что оба творца опирались на одни и те же образы. Кольцо возвращается к месту своего «рождения», и заканчивается эпоха мифа, и уходят бессмертные, и приходит время людей — это Вагнер, а вовсе не северная мифология. Пагубное стремление защитить магией существующий порядок вещей — общее стремление и Вотана, и эльфов.
Но вряд ли можно найти больший контраст, чем между истинным арийцем Зигфридом и домовитыми хоббитами. У Вагнера действует Рок, у Толкина — Провидение; финал «Кольца Нибелунгов» — космическая катастрофа, финал «Властелина Колец» — «эвкатастрофа», благое завершение, по определению Толкина. Понятно, почему современным интеллектуалам ближе философия Вагнера; понятно, почему для католика Толкина она неприемлема.
К сожалению, объем статьи не позволяет мне рассмотреть другие великие мифологии Вагнера — «Тристана и Изольду» и «Парцифаля». Скажу только, что одну и ту же задачу — воплощение сложной философской концепции — композитор решил в этих операх двумя принципиально различными способами. В «Тристане» он выбрал минимальные, ключевые эпизоды легенды и сделал главным событием действа изменение чувств героев: отказ от воли, стремление к смерти (в этом Вагнер следует одновременно версии Готфрида Страсбургского и философии Шопенгауэра). В «Парцифале» же Вагнер, напротив, нарастил на основу, восходящую к Вольфраму фон Эшенбаху, совершенно новые сюжетные повороты и новых персонажей. «Тристан и Изольда» — предельная сложность при внешней бедности сюжета; «Парцифаль» — многозначность и таинственность, не вполне разгаданная.16
Воистину произошло рождение фэнтези из духа музыки: древний миф и авторская воля, актуальная метафора и чувство причастности к глубинам праистории — таков путь, открытый Вагнером. Путь, по которому мало кто осмеливается идти.
1 Продолжение цикла статей об истории жанра фэнтези (начало см.: «РФ», 2004, № 1, 3, 5, 8, 10; 2005, № 1, 7, 10; 2006, № 2, 3, 8, 11).
2 Цит. по: А.Гозенпуд. Рихард Вагнер и русская культура. — Л.: Советский композитор, 1990. — С. 141, 144.
3 Там же. — С. 180 (из дневника Сергея Танеева).
4 О связи опер Вагнера с мифотворчеством немецких романтиков см., напр.: Е.Рощенко (Аверьянова). Новая мифология романтизма и музыка (проблема энциклопедического анализа музыки). — Х.: ХНУРЕ, 2004.
5 Р.Вагнер. Избранные работы. — М.: Искусство, 1978. — С. 414 (пер. А.Шепелевского и А.Винтера). Изложение философских и эстетических взглядов Вагнера содержится в популярной и отнюдь не устаревшей книге Анри Лиштанберже «Рихард Вагнер как поэт и мыслитель» (1898; М.: Алгоритм, 1997).
6 Р.Вагнер. Указ. соч. — С. 416.
7 А.Лиштанберже . Указ. соч. — С. 269-270.
8 На русском языке «Вибелунги» единственный раз издавались еще до революции; я вынужден пользоваться английским переводом.
9 Т.Манн. Страдания и величие Рихарда Вагнера // Собр. соч. — Т. 10. — М.: ГИХЛ, 1961. — С. 112.
10 А.Лосев. Исторический смысл эстетического мировоззрения Рихарда Вагнера // Р.Вагнер. Указ. соч. — С. 21.
11 С.Эйзенштейн. Воплощение мифа // Собр. соч. — Т. 5. — М.: Искусство, 1968.
12 Клод Леви-Стросс. Мифологики. — Т. 1. — М.-СПб.: Университетская книга, 1999. — С. 23.
13 Т.Манн. Указ. соч. — С. 123.
14 Благодарю за музыковедческие консультации и предоставленные материалы Данила Перцова. Если я допустил ошибки, они всецело на моей совести.
15 Поэтому и отождествление героев «Кольца» с персонажами иных мифологий происходит куда более естественно, чем в «Вибелунгах». Как показал Томас Манн (указ. соч. — С. 112-113), Зигфрид — это одновременно Таммуз, Адонис, Осирис, Дионис и Христос.
16 Об отношении «Парцифаля» к легендам о Граале см.: Р.Барбер. Святой Грааль: Во власти священной тайны. — М.: Эксмо, 2006. — С. 459-478.
Тристан. Психологический этюд
Ю.Полежаева
Опера "Тристан и Изольда" написана по мотивам известной средневековой легенды, но представляет собой, при формальном совпадении множества деталей, совсем другой сюжет. Классическая история жизни, освещенной светом огромной любви, или, возможно, история любви, пронесенной через целую жизнь, преодолевающей любые препятствия, время и расстояния и торжествующей даже над самой смертью - в изложении Вагнера превратилась в историю liebestod, любви-смерти, любви, ведущей к смерти, любви, зовущей смерть... С этим утверждением никто не спорит. Менее очевидно, как я недавно обнаружила, что в этом другом сюжете участвуют другие люди. У вагнеровских Тристана и Изольды не только иное отношение к любви и к жизни, по сравненпию с героями легенды - они сами другие, другие личности - собственно, именно этим, возможно, и вызвано все остальное. Особенно это справедливо в отношении Тристана - но именно на вагнеровского Тристана, по моим впечатлениям, люди более всего склонны переносить свои укоренившиеся впечатления от Тристана легендарного, не замечая принципиальных различий.
Я надеюсь построить здесь психологический портрет вагнеровского Тристана и показать, чем и почему он отличается от "оригинального". Чтобы не повторять постоянно "мне кажется" и "на мой взгляд", сразу скажу один раз, что мое вИдение Тристана, разумеется, субъективно и ни в малейшей степени не является единственно возможным - просто лично мне оно кажется наиболее вероятным и обоснованным.
Если верно, что о человеке можно судить по его поступкам, то так же верно, что при этом надо учитывать обстоятельства, в которых совершены эти поступки: одно и то же действие в разных обстоятельствах может означать совершенно разные душевные движения. Коварство изменений, внесенных Вагнером в сюжет, именно в том и состоит, что герои совершают те же самые поступки - но при других обстоятельствах. Чтобы показать разницу и объяснить, что из неё следует, мне придется здесь кратко пересказать классический вариант легенды, акцентируя моменты, измененные или вообще выброшенные Вагнером. (В этом я опираюсь на реконструкцию Бедье, которая, правда, написана намного позже оперы Вагнера, но объединяет все ключевые моменты легенды из разных средневековых источников).
Итак, оригинал.
Эпизод первый. Отец Тристана, мелкий король на западном побережье Франции, был убит за несколько дней до рождения Тристана врагом, захватившим его королевство. Мать умерла от горя, узнав о смерти мужа. Новорожденного Тристана спас верный придворный и воспитал вместе со своими детьми, как сына. После некоторых приключений Тристан оказался на службе у своего дяди короля Марка, который предоставил ему войска для восстановления своих прав. С этой помощью Тристан отбил назад свои родовые земли и убил врага, виновника гибели родителей. После этого он подарил свои земли придворному, некогда его спасшему, а сам вернулся на службу к Марку, чтобы отблагодарить его за помощь в отмщении. В ходе всех этих событий Тристан проявляет себя всесторонне благородным, умным, честным и разнообразно талантливым, а также бескорыстным и способным на глубокую благодарность. Не мудрено, что бездетный Марк его любит и готов назначить наследником - однако, объективно Тристан является безземельным наемником, бедным родственником, облагодетельствованным дядей, поэтому понятно и появление недовольных этой идеей.
Эпизод второй. Прибывает знаменитый непобедимый боец Морольд, брат ирландской королевы, за данью. Это тяжелая и унизительная дань, включающая в себя, помимо разных металлов, также и людей, отпрысков знатных родов, которых надо отдать в рабство - но от выплаты дани можно избавиться, победив Морольда в поединке. Тристан вызывается драться и побеждает, после чего говорит опечаленным соратникам Морольда: "Ваш господин славно дрался, но проиграл. Видите, как зазубрен мой меч - осколок стали засел в его голове. Так пусть же этот кусочек стали и станет последней данью Корнуолла". Соратники привезли тело Морольда домой для погребения, его племянница Изольда участвовала в ритуалах и сохранила пресловутый кусочек стали.
Эпизод третий. Раненого Тристана никак не могут вылечить и, наконец, по его просьбе отправляют в море на ладье на волю волн - без оружия, с одной арфой. Ладью приносит в Ирландию, где Тристана берется лечить Изольда. Понимая, что его занесло к врагам, Тристан называется жонглером Тантрисом и убегает, как только начинает выздоравливать. Если Изольда и испытывала симпатию к пациенту, она вряд ли позволила себе показать это - она принцесса, а он какой-то жонглер. Тристан безусловно испытывал симпатию к Изольде, не говоря уж о благодарности - но она в тех обстоятельствах должна была ему казаться недоступной как небо.
Эпизод четвертый. Вернувшегося Тристана Марк на радостях объявляет наследником, но недовольные придворные настаивают на женитьбе короля, в надежде получить более законного наследника. Тристан, с одной стороны, оскорблен подозрениями, что совершал свои подвиги в корыстных целях, а, с другой стороны, не может забыть Изольду. В результате, чтобы доказать свою бескорыстную верность Марку, он вызывается сосватать ему вражескую принцессу.
Эпизод пятый. Когда замаскированное посольство Тристана прибывает в Ирландию, обнаруживается, что столицу терроризирует дракон, за победу над которым король обещал руку Изольды. Тристан убивает дракона, но снова ранен, а плодами его победы пытается воспользоваться нехороший сенешаль. Изольда не верит в подвиги сенешаля, находит на поле боя раненого героя и снова начинает его лечить. Однако, сейчас Тристан уже вооружен, и Изольда узнает его по зазубренному мечу. Она заносит меч над беспомощным раненым, но он говорит: "Сначала выслушай! Ты дважды спасла мне жизнь, поэтому она принадлежит тебе. И хотя я убил дракона и честно завоевал твою руку, ты можешь меня убить - но после этого тебе придется выйти замуж за сенешаля". Изольда опустила меч, а Тристан поклялся, что его цель - не месть, а заключение мира. Тут надо отметить, что он таки слегка лукавил и не сказал ей, что прибыл сватом от короля. Не сказав прямой лжи, он позволил Изольде обмануться самой и выбирать не между сенешалем и неизвестным старым королем, а между сенешалем и данным конкретным героем. В результате Изольда активно его поддержала, и когда выяснилась истина, ей уже было некуда деваться - а её родня только порадовалась, что жених оказался куда почетнее, чем они сначала подумали. Самому Тристану с самого начала этого эпизода было некуда деваться, т.к. он уже прибыл во главе посольства. Отплывая в Корнуолл с королевской невестой, он, несомненно, осознавал, что она только что согласилась выйти замуж за него самого - но, с другой стороны, у неё для такого решения было много других аргументов, кроме личной симпатии.
Эпизод шестой, критический. По пути в Корнуолл Тристан и Изольда случайно выпивают волшебный напиток и не могут противиться вспыхнувшей взаимной страсти.
Эпизод седьмой, длинный. Влюбленные в течение некоторого времени тайно встречаются, проявляя чудеса изобретательности, потом после разоблачения сбегают буквально с казни и два года (!) живут в лесу в шалаше. С милым и в шалаше, конечно, рай, однако в конце концов обоих начинает мучить совесть: Тристана из-за тягот и лишений, которые по его вине терпит любимая, а Изольду - за то, что герой вместо свершения славных подвигов ловит кроликов. Они договариваются расстаться: короля удается убедить, что ему все примерещилось, и он соглашается принять Изольду обратно при условии изгнания Тристана. Изольда возвращается к жизни королевы, а Тристан отбывает на континент. Оба они проявляют себя замечательно находчивыми и остроумными, а также настоящими борцами, готовыми бороться за жизнь, друг за друга и за свою любовь до последнего в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Однако, тем не менее, каждый из них оказался способным пожертвовать даже своей любовью и возможностью быть рядом с любимым - ради блага этого любимого.
Эпизод восьмой, самый длинный и последний. Перед расставанием Изольда дала Тристану перстень в качестве сигнала: она надеялась, что он где-нибудь устроится и вызовет её к себе. Тристан, однако, надеялся её забыть и после нескольких лет скитаний по всей Европе даже женился. Это не помогло, в течение нескольких последующих лет он пару раз срывался, приезжал в Корнуолл и тайно встречался с Изольдой - но открыто вызвать её к себе так и не решился, пока не получил на очередной войне смертельного ранения. Тут он послал перстень, и Изольда, как обещала, все бросила и приехала - но опоздала и умерла у тела Тристана. Из их расположенных рядом могил выросли два розовых куста и сплелись ветками. Уф-ф-ф...
Теперь посмотрим, как этот сюжет изменил Вагнер и что из этих изменений следует.
Как мы узнаем в третьем акте, вагнеровский Тристан свои родовые земли сохранил - они бедные и заброшенные, но тыл у него все-таки есть. Мать Тристана умерла родами, и он совсем осиротел в достаточно сознательном возрасте, чтобы запомнить, как о смерти его отца возвещал печальный пастуший напев. Ни о каких врагах, завоеваниях, поражениях и отмщениях в связи с родовым поместьем не упоминается - и это не просто пропущено, это сюжетный факт. У вагнеровского Тристана нет повода благодарить Марка за военную помощь - наоборот, нам дважды сообщают, что это как раз Марк обязан Тристану своими землями и короной.
Первым делом из этого следует, что вагнеровский Тристан заметно старше "оригинального". В легенде, Тристан отправился отбивать свое королевство сразу по посвящении в рыцари, лет этак в 16-18, и угодил на бой с Морольдом сразу после этого. У него просто не было времени сильно прославиться, бой с Морольдом был его первым широко известным подвигом. В опере, напротив, когда Изольда спрашивает мнения Брангены о Тристане, та восторженно отвечает: "Он чудо стран окрестных, прославлен и велик! Герой он беспримерный и доблести оплот!" (Дословно: "герой, не имеющий равных, кладезь славы и обаяния"). Другими словами, здесь Тристан - уже широко известный и прославленный герой, победа над Морольдом сделала его вообще чемпионом №1 в Британии, и среди его подвигов есть и деяния, принесшие Марку королевство и трон.
Возникает тогда интересный вопрос, почему же придворные Марка так настаивали на женитьбе короля и появлении другого наследника? Ведь здесь Тристан - уже не безземельный молокосос, королевский любимчик, которому пару раз повезло (как могли бы рассуждать бароны). Здесь он землевладелец, не хуже прочих, взрослый мужчина и не просто прославленный воин - доказанно самый лучший! Да ближайший кровный родственник короля, которому король ещё и обязан своим положением! При таких обстоятельствах Тристан - совершенно естественный и законный наследник, против него не должно быть аргументов. Конечно, у каждой яркой личности есть завистники и недоброжелатели - но чтобы "весь двор и весь народ"? Чем же это наше "чудо стран окрестных" умудрилось так достать соотечественников, что, несмотря на все его заслуги, они не хотят видеть его на троне?
Некоторый свет на этот вопрос может пролить вагнеровский вариант второго эпизода, боя с Морольдом: обезглавленное тело побежденного рыцаря было без всяких почестей зарыто на острове, а его отрубленную голову Тристан послал в Ирландию в качестве дани. Можно предположить, что наш блестящий герой не обладал добродетелью великодушия к побежденным, а обладал, напротив, весьма специфическим чувством юмора и склонен был над побежденным поглумиться. Вероятно, то же можно было сказать не только в отношении побежденных, но и в отношении слабейших - а таковыми были почти все окружающие.
Интересно также вспомнить рассуждение, которым Курвенал ответил Брангене на требование Изольды, чтобы Тристан подчинялся ей как вассал: "Кто блеск венца, Корнуолла трон, ирландке в дар поднёс, кто сам теперь её дарит, тот ей уже не слуга. Властитель он, храбрый Тристан!". Фактически, то же рассуждение справедливо и в отношении Марка, так что отношения между племянником-вассалом и обязанным ему дядей-королем должны быть весьма непростыми. Возможно, Тристан искренне любил Марка, заменившего ему отца, но его верность - это не верность вассала королю, а верность своим собственным, выбранным для себя теоретическим принципам - грубо говоря, верность себе. Легко предположить, что он обычно вел себя попросту слишком нагло, чтобы иметь меньше врагов, чем сторонников.
С другой стороны, Брангена не зря упоминает "кладезь обаяния" - Тристан, несомненно, умел быть обаятельным, когда хотел, это подтверждает и успешное завершение дипломатической миссии с недавним противником - без всяких драконов! И, так же несомненно, пользовался успехом у женщин - что само по себе могло дополнительно создать ему много врагов. Как видим, чистый благородный юноша постепенно скрывается в тумане, а вместо него проявляется кто-то, больше похожий на моцартовского Дона Жуана: человек очень одаренный, умный, талантливый - и очень недобрый, блестящий боец и обаятельный кавалер, для которого нет равных партнеров и достойных задач. Человек, идущий по жизни в окружении восторженных рукоплесканий и злобного лая... Не видел ли Вагнер себя в этом зеркале?
И вот мы подходим к третьему эпизоду, который Вагнер объединил с пятым: Изольда лечит героя после боя с Морольдом и узнает по зазубрине меча. Нет никаких драконов и сенешалей, никаких заслуг Тристана перед Ирландией - только убитый Морольд и издевательская посылка его невесте. Если бы в этот момент Тристан, подобно легендарному прототипу, попытался остановить занесенный над ним меч словом - ему было бы нечего сказать, у него нет ни одного аргумента. Тристан и не пытается говорить - он останавливает меч взглядом. Представим себе этот взгляд - крупным планом. Девушка, хоть и гордая принцесса, но невинная и, следовательно, неопытная - и взрослый мужчина, "кладезь обаяния", чемпион, не знавший поражений, и не только в бою... Представим себе этот взгляд, который сама Изольда определила как "оценивающий" - messender Blick - жадный, жаркий, властный взгляд, под которым у девушки слабеют колени и меч выпадает из руки... Можно ли предположить, что Тристан хоть на секунду заблуждался насчет чувств, которые питала к нему Изольда? Он этих чувств сознательно добивался и успешно добился - потому что только любовь Изольды могла спасти его от смерти, если (когда) его узнают.
И ведь взглядом дело не ограничилось: Изольда говорит, что "Давал он с жаром клятвы, что будет век мне предан!". Стало быть, за опусканием меча последовало объяснение, после которого не только Тристан полностью убедился в любви Изольды, но и она сама уверилась в его чувствах к ней. Справедливости ради надо признать, что Тристану хватило порядочности не воспользоваться своей победой - он всего лишь хотел убраться из Ирландии подобру поздорову, в чем и преуспел. Однако, девушка ни в коем случае не могла в тот момент интерпретировать этот факт как то, что она "отвергнута" - напротив, она посчитала его лишь доказательством благородства возлюбленного и серьезности его чувств. Возможно, она не надеялась на примирение стран-врагов, возможно, она предполагала, что больше никогда Тристана не увидит, спасла его и была готова выйти замуж по политическим соображениям за кого отдадут родители, сохранив в сердце тайную любовь...
Принципиальная разница между вагнеровской версией сюжета и классической состоит в том, что эпизоды четыре и пять поменялись местами: здесь Тристан проявляет инициативу сосватать Изольду Марку не до, а ПОСЛЕ своего разоблачения и взаимного объяснения. Когда Тристан явился в качестве свата, у неё не осталось места для сомнений - она была отвергнута и предана. Рыцарь, клявшийся в вечной верности - обманул, добившийся её любви - отказался от неё и отдает другому. Не просто победил - а как с Морольдом, победил и поглумился... Горе и ярость Изольды понятны, но возникает вопрос, чем же были в действительности продиктованы действия Тристана?
В первом акте он сначала ведет себя ровно так же, как Дон Жуан по отношению к доне Эльвире - старается любыми средствами избежать объяснения, а когда не удается - держаться насмешливо и нагло. Но музыка, не говоря уж о последующих событиях, убеждает нас, что это только маска, Тристан в отчаянном напряжении, едва владея собой, лишь играет ловеласа, обманувшего влюбленную девушку. Вполне обоснованное предположение о крайнем эгоцентризме и полном непонимании и отсутствии интереса к чувствам других все равно никак не отвечает на вопрос, зачем Тристану самому-то понадобилось предложить Изольду королю?
Мы не можем предположить карьерные соображения - Тристану некуда подниматься, он и так занимает предельно высокое положение, выше - только король. В отличие от Тристана из легенды этому Тристану уже не надо никому доказывать свою лихость - он, собственно, этого и не делает, дракон отсутствует, сватовство добивается успеха дипломатическими средствами. Он может доказывать, что равнодушен к власти и не стремится к наследству - но для этого подошла бы любая невеста, нет необходимости оскорблять Изольду. Мы не можем также предположить, что именно удовольствие оскорбить и посмеяться было его целью, потому что быстро убеждаемся, что он к Изольде далеко не равнодушен.
Я предполагаю, что именно чувство, которое Тристан, к своему собственному изумлению и, возможно, впервые в жизни, испытывал к Изольде - он и посчитал оскорбительным для своей гордости. Любовь - это зависимость, человек теряет абсолютную самодостаточность и начинает нуждаться в ком-то другом. Соответственно, люди, зацикленные на своей крутизне, склонны считать любовь, как и проявление любого другого человеческого чувства, слабостью - такая точка зрения, говорят, до сих пор существует, например, в криминальной среде. Впрочем, чувство, охватившее Тристана, вряд ли можно назвать любовью: в нем напрочь отсутствует стремление сделать счастливым объект своей привязанности (в отличие, между прочим, от чувства Изольды). Любовь Тристана абсолютно эгоистична, это вожделение, ещё и оставшееся, под влиянием внезапного приступа благородства и благодарности, неудовлетворенным - факт, который он впоследствии тоже склонен сам по себе рассматривать как проявление постыдной слабости.
Он успешно вернулся домой, время идет, а влечение к Изольде, страстное желание её видеть и обладать не уменьшается - и это Тристана бесит. Любая попытка решить проблему каким-то нормальным путем (например, посвататься к Изольде самому) кажется ему позорной уступкой чувствам, недостойным героя. А ничего не делать он не в силах. И Тристан выбирает самое мучительное решение для обоих, он мстит Изольде за то, что не может противостоять влечению к ней, и мстит себе за то же самое. Он бросает вызов - не каким-то там придворным, не врагам и завистникам, а единственному достойному противнику - себе самому, своей страсти, своей "слабости".
Тристан бросает вызов своей любви - и впервые в жизни терпит поражение, не просто проигрывает, а сдается, капитулирует. После этого настоящему самураю остается только харакири... В аннигилирующем столкновении любовь и гордыня порождают неодолимое стремление к смерти.
Есть принципиальная разница между желанием смерти, которое проявляет Изольда в первом акте, и призывом смерти, о котором толкует Тристан во втором и третьем. Для Изольды смерть - это "мщенье злому врагу, сердцу покой в страданье!". Сам факт, что смерть рассматривается как наказание врагу за предательство, говорит о нормальной здоровой системе ценностей: жизнь вообще лучше смерти, но, однако, даже смерть лучше жизни, полной боли. Яд, положенный матерью в ларчик - это не только средство отмщения, но и спасение на крайний случай, "от глубочайшего отчаяния, от высшего горя".
Однако, когда Тристан соглашается выпить предложенный Изольдой кубок, веря, что это яд, для него смерть - избавление не от боли, а от борьбы, капитуляция перед собственной слабостью или тем, что он таковой считает. Смерть - единственная причина и оправдание такой капитуляции. Когда Тристан принимает это решение и "отпускает вожжи", позволяет себе отдаться своей любви - он, вопреки обстоятельстввам, чувствует себя счастливым, и это ощущение счастья соединяется в его душе с ожиданием немедленной смерти. Его система ценностей переворачивается вверх ногами, все, что было важно до сих пор, слава, борьба и победы, теряет смысл по сравнению со смертью, несущей счастье любви.
Заметим, кстати, что для Изольды ничего не перевернулось, она и так что угодно вместе с Тристаном была готова ценить выше, чем что угодно без него. В этом она не очень отличается от Изольды из легенды - та тоже активно поддерживала все инициативы Тристана и была готова с ним и за ним куда угодно - в обман, так в обман, в лес, так в лес, в разлуку, так в разлуку... Вагнеровская Изольда добавила к этому списку только: в смерть, так в смерть. Для неё любовь со всем, что она может принести - высшая сила и высшая ценность:
"Во всей вселенной царит она! Жизнь и смерть подвластны ей!
Ткань плетёт из счастья и горя, все страсти будит она!
Я смертных врат дерзкой коснулась рукой... Но вот Любовь закрыла крепко их,
и в плен добычу смерти взяла, чтоб всё вершить рукой своей!
Пусть же решает, пусть направляет! Всюду за нею следом пойду я!
Да, мной пусть владеет, – во всём ей послушна буду! ".
Из этого гимна ни в малейшей степени не следует, что Изольда неразрывно связывает любовь только со смертью - может случиться и смерть, да, но и жизнь, и счастье... Если бы этот Тристан предложил ей сбежать в лес или, тем более, в родное поместье - она бы согласилась с той же готовностью, как и её прототип из легенды.
Тот факт, что идея liebestod исходит от Тристана, подчеркивает и музыка. Центральная часть дуэта - канон. "О Ночь Любви, спустись над нами и забвенье жизни дай нам..." - Тристан призывает ночь и смерть, Изольда ему вторит. В первый раз после предупреждающей реплики Брангены она ещё пытается проявить благоразумие: "Дня и Смерти единенье может наше счастье свергнуть" - она ещё нормально воспринимает смерть как врага их любви, хотя бы и на стороне разлучника "Дня". Тристан отвечает казуистическим рассуждением о том, что любовь бессмертна. Изольда опять-таки отвечает вполне здраво, что "жизнь Изольды тотчас же прекратится, когда смерть возьмёт Тристана" - на что Тристан отвечает новым каноном "Так примем Смерть мы, Смерть одну". После второй реплики Брангены Изольда, уже полностью загипнотизированная, заводит эту песню сама, самоотверженно принимая точку зрения любимого на мир, жизнь и смерть...
Любопытно, однако, что есть и другая разница между кубком Изольды и призывами к Ночи Тристана. Изольда, осознав в первом акте, что желает смерти Тристану и себе, предпринимает решительные активные действия для реализации этой идеи. Тристан, призывая смерть, занимает, тем не менее, малодушно пассивную позицию - он просто "опускает руки" и фигурально и даже, в схватке с Мелотом, буквально, в надежде, что желанная смерть случится как-нибудь сама собой. По сути, для него "смерть" уже случилась в конце первого акта - именно тогда, выпив яд, умер настоящий Тристан, боец, герой и победитель. То, что осталось, медленно агонизирует на протяжении остальных двух актов - опять таки сначала фигурально, а в третьем акте и буквально.
Его поддерживает на плаву только любовь - неконтролируемое счастье быть с Изольдой или, хотя бы, ждать Изольду, - из чего, между прочим, следует, что любовь - чувство объективно жизнеутверждающее. В начале сюжета любовь боролась в нем с самоубийственной гордыней - и победила. Беда в том, что гордыня представляла собой стержень личности Тристана, и, в разрушении, превратилась в его искаженном "посмертном" сознании в отрицание жизни вообще. И схватки с этой "пятой колонной" любовь не перенесла: в тот момент, когда Изольда прибыла и надежда на спасение жизни стала реальной, воля к смерти победила и Тристан, наконец, сделал решительный шаг - сорвал повязки...
Он так стремился к liebestod - а умер от потери крови, от раны, в конечном счете от отказа от борьбы. А от любви умерла Изольда, честно верная до смерти. Какой знакомый, какой узнаваемо вагнеровский образ - бесконечно привлекательный, высокомерный и порочный герой, тайно подточенный внутренней слабостью и увлекающий за собой в своем падении самоотверженно любящих его... В рамках вагнеровского творчества - ступень (или, скорее, виток) на пути от Голландца к Вотану.
Но вряд ли кто-то способен, слушая оперу "Тристан и Изольда", полностью отрешиться от гигантского культурного контекста - возможно, и сам Вагнер был на это не способен, даже если и хотел. Тристан, которого мы слышим в его музыке - никогда не только вагнеровский герой, он овеян духом древних легенд и обаянием мифа - и потому всегда глубже, сложнее и привлекательнее, чем можно рационально объяснить.
Маэстро и литераторы. Рихард Вагнер как катализатор новых литературных течений
Данный подраздел возник как результат дискуссии о влиянии Рихарда Вагнера на европейскую литературу конца 19 - 20 века. Проводившийся на сайте опрос на эту тему поначалу давал результаты стандартно-патриотические. Голоса набирали в основном бурно осенённый вагнеровским вниманием Ницше, музыкальнейший из писателей Томас Манн - плюс родные и любимые нами Булгаков и Маяковский, в произведениях которых наши продвинутые пользователи тоже явственно расслышали раскаты и арпеджио вагнеровского влияния.
Однако такой результат показался нам несправедливым и недостаточным, поэтому администрация разместила дополнительно две статьи о влиянии Вагнера, в частности, на французский символизм и декаданс. И заинтересованные пользователи поддержали эту дискуссию, предложив ещё ряд ссылок на материалы по теме. Ссылки эти относятся преимущественно к текстам, которые мы на сайте разместить не можем - диссертации, аннотации к диссертациям, объёмные труды в PDF. Это, что называется, не наш формат, но данные материалы могут быть многим интересны. Поэтому мы все эти ссылки помещаем в конце данной статьи и призываем всех пополнять нашу "вагнеро-влиятельную" ссылочную коллекцию. Также можно присылать статьи, более соответствующие стилистике нашего сайта, которые будут опубликованы целиком.
Обсуждение вагнеровского влияния практически на все виды искусства и на многих выдающихся представителей совершенно разных школ поистине неисчерпаемо. Если можно сделать такое сравнение, вагнеровская тема была примерно так же актуальна на рубеже веков в интеллигентной среде, как сейчас фильмы Линча, фон Триера, Тарантино и Земекиса вместе взятые. И априори можно сказать: если кто услышит вагнеровский революционный порыв в стихах Маринетти - он наверняка прав, и кто увидит пост-вагнеровскую мифологичность в произведениях Кафки - наверняка прав тоже. Даже в стиле, к которому Рихард Вагнер приложил руку в наименьшей степени - в реализме - его следы и то можно при желании кое-где обнаружить.
Собственно дискуссия у нас тут поначалу разгорелась по поводу статьи не то чтобы идейно спорной, а, напротив, идейно бесспорной, ибо с идеями там было вообще негусто. Но в качестве введения в тему материал показался нам вполне хорош. Сама эта статья Е.Г. Соколова "Модерн — декаданс: Р. Вагнер и символизм" и дискуссия вокруг неё теперь является дочерней страницей данного раздела, как и опубликованная вслед за ней статья Т. Ю. Яковлевой о музыкальной критике Шарля Бодлера. Надеемся, что этот случайно сложившийся перекос во "французскую часть программы" - явление сугубо временное и никого не собьёт с толку. Здесь можно обсуждать и давать любые материалы по теме вплоть до дадаистов, экзистенциалистов и фантастов. И даже не обязательно европейских. Это опрос у нас был про европейских писателей, а дальше можно бодрой поступью хоть в латиноамериканский мистический реализм, хоть в биографию Юкио Мисимы, хоть ещё куда, где только остановится ваш, дорогие наши пользователи, острый взгляд.
Ссылки по теме:
Введение и заключение диссертации Девятовой Н.Н. "Рихард Вагнер в контексте культурфилософской мысли Германии и России XIX - начала XX в."
Филипп Лаку-Лабарт "Musica Ficta. Фигуры Вагнера"
Бартош Н.Ю., введение в диссертацию "Мифопоэтика модерна в творчестве Оскара Уайльда"
Игорь Кондаков, Юлия Корж "Вагнер и русский Серебряный век"
Музыкальная критика Шарля Бодлера
Источник: Литература Западной Европы 19 века
Статья из цикла Т. Яковлевой "Становление литературно-художественной журналистики Франции XIX века". Остальные главы цикла и библиографический список можно найти на вышеуказанном сайте. Здесь же мы публикуем статью, имеющую прямое касательство к нашей теме - влиянию Рихарда Вагнера на своего великого французского современника, и не только на него. Данная статья публикуется целиком, хотя конец её является, собственно, итогом всего бодлеровского цикла Т. Яковлевой и к Вагнеру отношения не имеет.
Помимо интересных фактов и занимательного их изложения, в материале есть ряд ценных цитат из недоступной в интернете статьи Бодлера о постановке "Тангейзера" в Париже и из письма Бодлера к Вагнеру. Т. Яковлева, безусловно, не является образцом непредвзятого повествователя - в противоположность глубокому пониманию Шарля Бодлера она приводит, например, отрицательное отношение к Вагнеру Гектора Берлиоза. На самом деле упомянутая в тексте рецензия последнего "Концерты Рихарда Вагнера. Музыка будущего" на 80% положительная, местами даже восторженная. И Вагнер совершенно не зря при всех пикировках со своим коллегой, "этим типичным французом", именно его считал главным своим стратегическим союзником в Париже. Если разбираться капитально, то некоторые положения доктрины Вагнера Берлиоз ввёл в музыкальный обиход ещё до него, просто не формулируя и не декларируя их с вагнеровским пылом. Некоторая ревность и придирчивость, конечно, имела место быть и с той, и с другой стороны. В этом смысле Бодлеру, естественно, было легче восхищаться без всяких "но" - ему-то делить с Вагнером было нечего. И здесь надо опять-таки честно признать, что далеко не блестящее владение языком и погруженность в собственные заботы не позволили Рихарду Вагнеру в полной мере оценить, какого рода и ранга почитателя он обрёл в лице французского поэта. Впрочем, Шарль Бодлер в этом и не нуждался - собственная путеводная звезда светила ему достаточно ярко, чтобы лишь приветствовать появление других светил.
Т. Ю. Яковлева. МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА ШАРЛЯ БОДЛЕРА.
Музыка рано вошла в круг интересов Шарля Бодлера, хотя он и не получил специального музыкального образования. Его юность пришлась на те годы, когда в европейской музыке, хотя и с запозданием по сравнению с литературой и живописью, все явственнее проявлялись романтические веяния. "Новая" музыка, противопоставившая себя "традиционной", не довольствовалась функцией развлекательного и "услаждающего" искусства и требовала признания своего права выражать глубокие движения души и сложные философские идеи.
Музыкальная жизнь Парижа 1830-х годов была ознаменована медленным, встречавшим упорное сопротивление признанием сочинений Л. Бетховена и К. М. Вебера, концертной деятельности Ф. Листа и Ф. Шопена. Шарль Бодлер, в отличие от своих старших современников - Стендаля и Делакруа, поклонников композиционного и мелодического гения Ф. А. Моцарта, Д. Чимарозы, Дж. А. Россини, отдавал решительное предпочтение напряженно драматическим музыкальным формам Л. Бетховена и К. М. Вебера.
Задолго до личных встреч с Ференцем Листом и Рихардом Вагнером, Бодлер смог достаточно полно ознакомиться с их сочинениями и музыкальными теориями, найдя в них не только созвучность своим идеям, но и импульс для собственного поэтического творчества. Бодлера интересовали лишь те художники, в эстетических воззрениях и творческой практике которых он находил перекличку с собственными устремлениями. Таким художником в музыке для него стал Рихард Вагнер. Не случайно, единственная большая критическая статья Ш. Бодлера о музыке посвящена именно Вагнеру - "Рихард Вагнер и "Тангейзер" в Париже" («Revue Europeenne», 1 апреля 1861 года).
Р. Вагнер принадлежал к числу тех великих художников, творчество которых оказало большое влияние на мировую культуру. Гений его был универсален: Он прославился не только как автор выдающихся музыкальных творений, но и как замечательный дирижер, являвшийся наряду с Гектором Берлиозом основоположником современного искусства дирижирования; а также он был талантливым поэтом-драматургом – создателем либретто своих опер и одаренным публицистом, теоретиком музыкального театра.
Столь разносторонняя деятельность в сочетании с кипучей энергией и титанической волей в отстаивании своих художественных идеалов привлекла к личности и музыке Р. Вагнера всеобщее внимание, вызвав горячие споры.
В Париж Рихард Вагнер прибыл в середине сентября 1859 года. А в конце января – начале февраля 1860 года в зале Вендатур состоялись три концерта Р. Вагнера, исполнившего отрывки из своих опер: увертюру к "Летучему голландцу", увертюру и марш с хором из "Тангейзера", вступление к "Лоэнгрину", вступление к третьему акту и свадебный хор из той же оперы, вступление к "Тристану и Изольде".
Парижские концерты Р. Вагнера вызвали ожесточенные дебаты в прессе и кулуарах. В антрактах стоял невероятный шум из-за споров сторонников и противников его творчества. Концерты принесли убытки вместо ожидаемых доходов.
В газете "Le Journal des Débats" с отрицательной рецензией выступил Г. Берлиоз. Вступление к "Тристану и Изольде" ему не только не понравилась, но он отказывался признавать за ведущую тему то, что предложил Вагнер. "Если не принять за тему, - писал он, - нечто вроде хроматического стона с диссонирующими аккордами" (80. С. 235). Эксперимент с гармонией не был понят даже Г. Берлиозом.
В той же статье Берлиоз насмешливо говорил о теоретических положениях немецкого композитора, низводя их до абсурда. Он писал, что певцы для того, чтобы усвоить свои партии, "должны испытать такие же муки, какие им пришлось бы вытерпеть, чтобы заучить наизусть страницу на санскритском языке или проглотить пригоршню ореховой скорлупы" (11. С. 281).
В марте 1860 года в Париже состоялась удивительная встреча Р. Вагнера с Дж. А. Россини, композиторов разных поколений и разных музыкальных направлений. Россини искренне старался понять реформаторские идеи Вагнера, а тот жаловался на превратное и упрощенное понимание его идей.
Вагнер не отрицал в опере ни мелодии, ни самостоятельной инструментальной музыки, он только требовал, чтобы мелодия была свободна, не стеснена рамками симметричных периодов и обязательных кадансов, чтобы она гибко и многообразно откликалась на смысл поэтического текста и была индивидуализирована, то есть выражала бы характер и настроение каждого персонажа.
Несмотря на скандал с восприятием музыки Р. Вагнера, Наполеон III издал приказ поставить в театре "Гранд-Опера" оперу "Тангейзер". Этим Р. Вагнер был обязан супруге австрийского посла во Франции, княгине Меттерних, которая слушала "Тангейзера" в Дрездене и настояла на его постановке в Париже.
Сама опера была написана Р. Вагнером в 1840-х годах. В ней Р. Вагнер соединил три легенды: о рыцаре миннезингере Тангейзере, долгие годы предававшемся чувственным наслаждениям в царстве богини Венеры, о Вартбургском состязании певцов и о святой Елизавете. Герой первой легенды – Тангейзер – действительно историческое лицо, миннезингер XIII века. Согласно народному преданию, Венера заманила его в свои покои, но бог простил Тангейзеру беспутство. Эта легенда вошла в сборник "Волшебный рог мальчика" в изложении Людвига Тика. Как писал в "Обращении к друзьям" Р. Вагнер, "католически-фривольная тенденция" рассказа Л. Тика оттолкнула его. И он решил сделать Тангейзера героем своей оперы, следуя не версии Тика, а народному сказанию. Именно оно подсказало мысль ввести в оперу сцену состязания певцов в Вартбурге.
Вторая легенда в версии Р. Вагнера также сильно отличается от новеллы Гофмана. В новелле Гофмана действует миннезингер Генрих фон Офтердинген (тоже подлинное историческое лицо), а не Тангейзер, так как описанное Т. Гофманом состязание происходило за десять с лишним лет до рождения Тангейзера. Р. Вагнер соединил Тангейзера с Офтердингеном и ввел в оперу другие исторические персонажи – немецких миннезингеров Вальтера фон дер Фогельвейде, Вольфрама фон Эшенбаха, Битерольфа, Генриха Шрейбера, Рейнмара фон Цветтера.
Героиней третьей легенды является Елизавета, венгерская принцесса, племянница Германа – ландграфа Тюрингского. В детстве она была привезена в Вартбург. Будучи выдана замуж за сына ландграфа, грубого и дикого воина, Елизавета всю жизнь жестоко страдала и после смерти была причислена к лику святых. Вагнер связал судьбу Елизаветы с судьбой Тангейзера.
Вся концепция оперы "Тангейзер" сводилась к следующему: два мира противопоставлены друг другу – мир духовного благочестия, строгого нравственного долга и мир чувственных плотских наслаждений. Эта борьба двух начал – небесного и земного, христианского и языческого, духовного и светского – характерная тема романтического музыкального искусства.
В "Тангейзере" Р. Вагнера воплощением чувственного, "греховного" мира является богиня Венера, воплощением же мира идеального, мира чистой беззаветной любви – невеста Тангейзера. Вокруг каждого из этих образов группируется множество других персонажей, составляющих как бы фон и дополняющих образ.
Тангейзер – романтический раздвоенный образ, мечущийся между двумя мирами. Его характеризуют лихорадочные поиски истины, постоянная неудовлетворенность. От обольстительных чар грота Венеры он устремляется в свой родной Вартбург, к своим друзьям миннезингерам. В гимне Венере на состязании певцов он противопоставляет свою жгучую страсть христианской морали рыцарей: он жаждет любви богини.
Но раскаяние заставляет его примкнуть к пилигримам и отправиться в Рим к папе. Не получив прощения, он снова устремляется к Венере и лишь в смерти обретает успокоение и прощение. Поиски недостижимого идеала, невозможность примирить противоречия жизни – все это явилось художественно-символическим отображением чувств и переживаний романтической эпохи.
Испытывая влечение то к Венере, то к Елизавете, Тангейзер ищет путей к примирению любви чувственно-сладострастной и идеально-возвышенной. Но примирения не находит. Лишь великой любовью и смертью Елизавета искупает грех Тангейзера, получившего прощение лишь в смерти. Такова романтическая концепция оперы. Достижение идеала и успокоение возможно лишь за пределами земного бытия. Тангейзер умирает со словами: "Святая Елизавета, молись за меня".
Тангейзер прощен, вопреки проклятию папы. Но опера завершается не торжеством сладострастия Венеры, а величественным гимном-хоралом пилигримов, возносящих хвалу всевышнему. Р. Вагнер, как и Тангейзер, колеблется между двумя гениально созданными им мирами, не отдавая предпочтения ни тому, ни другому.
Новым явился образ главного героя, который нигде не может найти себе удовлетворения – ни в мире чувственного наслаждения (в гроте Венеры), ни в мире нравственного долга и высоких помыслов (среди пилигримов), хотя и здесь и там он отдается страсти без остатка. В этом отношении, утверждал Р. Вагнер, "Тангейзер – современный немец с головы до пят" (30. С. 26).
Сразу же после указа Наполеона III началась подготовка к постановке "Тангейзера", которая была связана со многими трудностями. Немало возни было с переводом оперы на французский язык. Серьезное затруднение возникло в связи с тем, что по традициям парижской "Гранд-Опера" во втором акте оперы обязательно должен быть большой балет, и Вагнер работал над второй редакцией своей оперы.
В качестве предисловия к прозаическому переводу на французский язык оперных текстов, Р. Вагнер опубликовал статью "Музыка будущего", в которой повторил основные положения своей книги "Опера и драма", стараясь разъяснить французской публике свои художественные задачи, покончить с недоразумениями, связанными с непониманием и неприятием его творческих взглядов.
Репетиции "Тангейзера" продолжались, но Р. Вагнер отказывался ввести балет во втором акте. Его вызвали к князю Меттерниху и к министру графу Валевскому. Когда композитор отказался, аргументируя тем, что достаточно большого балета в первом акте, ему было сказано, что наиболее высокопоставленные посетители театра обедают в восемь часов и приезжают в театр к десяти часам, а именно от этой части публики зависит его успех. Но Р. Вагнер не желал идти ни на какие компромиссы.
Оживились враги. В газетах и журналах появились пасквили на композитора и его "музыку будущего". На него ополчилась "золотая молодежь" Парижа, члены Жокей-клуба. Судьба "Тангейзера" была предрешена.
И вот в марте 1861 года состоялись три злосчастных представления "Тангейзера" в театре "Гранд-Опера". За всю историю существования оперных театров ни один зрительный зал не видел ничего подобного. Абоненты оперы – члены Жокей-клуба поставили своей целью провалить "Тангейзер" и достигли полного успеха. Во время всех трех спектаклей в зале стоял невероятный шум. С разных сторон раздавались крики, шиканье, вой, свистки, заглушавшие оркестр и певцов, которые героически переносили все эти издевательства и доводили спектакли до конца.
Р. Вагнер рассказывал в "Мемуарах": "Сцены эти произвели на моих друзей потрясающее впечатление. Бюлов по окончании представления с рыданием бросился на шею Минне, которая не избежала оскорблений со стороны соседей, узнавших в ней мою жену. Наша верная служанка швабка Тереза подверглась издевательствам одного из бушевавших скандалистов, но, заметив, что он понимает по-немецки, весьма решительно обругала его "свиньей" и "собакой", чем заставила на время замолчать" (29. Т. 3. С. 195).
Вся эта история вызвала большой резонанс в парижских музыкально-театральных кругах. Г. Берлиоз не изменил своего отношения к музыке Р. Вагнера, воспринимая его прежде всего как соперника. В письмах к друзьям он писал следующее: "О боже, что за спектакль! Какие взрывы смеха! Парижанин показал себя вчера в совершенно новом свете, он смеялся над дурным музыкальным стилем, смеялся над скабрезностями шутовской оркестровки, над наивностью гобоя; он понял все-таки, что в музыке есть стиль. А что касается ужасов, то их блестяще освистали”.
В письме к сыну: "Спускаясь по театральной лестнице к выходу, люди вслух величали несчастного Вагнера прохвостом, наглецом, идиотом. Если оперу будут ставить и дальше, то в один прекрасный день ее не доиграют до конца, и тем все будет сказано. Печать единодушно ее хоронит" (129. С. 280-281).
В некоторых театрах ставили даже пародии на "Тангейзера". Но нашлись друзья. Выдающийся дирижер Ж. Падлу демонстративно исполнял в своих концертах произведения Р. Вагнера. П. Виардо спела на большом музыкальном утреннике несколько номеров из "Тангейзера". Знаменитые композиторы Д. Ф. Обер и Ш. Ф. Гуно выступили с благосклонными отзывами о музыке Вагнера. Ф. Лист и другие подлинные знатоки музыки провозгласили опальный "Тангейзер" подлинным шедевром.
На третий спектакль Р. Вагнер не пришел. Но до него дошли слухи о еще более скандальном поведении "жокеев". Дело кончилось тем, что Р. Вагнер забрал партитуру из театра и запретил дальнейшие представления "Тангейзера".
Активное участие в защите Р. Вагнера приняли не только музыканты, но и писатели и поэты. Ж. Жанен напечатал фельетон в газете "Le Journal des Débats", в котором выразил свое глубокое негодование по поводу происшедшего. В защиту Р. Вагнера выступил и Ж. Шанфлери.
Ш. Бодлер не только признал талант Вагнера, но и отправил ему письмо: "Сударь, мне всегда казалось, что великий художник, как бы ни был он привычен к славе, не откажется от искреннего поздравления, когда это поздравление - слово благодарности, в котором ценность "особого" рода, оттого, что исходит от француза, то есть человека, мало склонного к восторженности и рожденного в стране, где больше не понимают ни поэзии, ни живописи, ни музыки. Прежде всего хочу сказать, что признателен вам за "самое большое музыкальное наслаждение, когда-либо мной испытанное". Я уже в таком возрасте, когда больше не развлекаются писанием знаменитым людям, и я долго колебался, засвидетельствовать ли вам в письме свое восхищение, если бы я не видел ежедневно недостойные, нелепые статьи, в которых всеми силами пытаются очернить ваш гений. Вы - не первый человек, сударь, по поводу которого мне пришлось страдать и краснеть за мою страну. В конце концов возмущение побудило меня высказать вам свою признательность. Я сказал себе: "Я не желаю, чтобы меня смешивали с этими глупцами". Прежде всего мне показалось, будто я знаю эту музыку, что это музыка моя, и я узнавал ее, как узнает всякий человек все то, что ему назначено любить <...> Ее свойством, более всего меня потрясшим, было величие. Она воссоздает возвышенное и побуждает к возвышенному. В ваших произведениях я повсюду находил торжественность великих созвучий, грандиозные картины природы и победу великих страстей человека <...> Повсюду нечто вдохновенное и вдохновляющее, какое-то устремление ввысь, что-то непомерное и необычайное <...> Я мог бы продолжать письмо бесконечно <...> Мне остается лишь добавить несколько слов. С того дня как я услышал вашу музыку, я беспрестанно говорю себе, особенно в тяжелые минуты: "Если бы сегодня вечером я мог по крайней мере немного послушать Вагнера!" Еще раз благодарю вас, сударь; в "тяжелые минуты" вы влили в меня душевные силы и призвали к возвышенному...
Шарль Бодлер
P. S. Я не прилагаю своего адреса, чтобы вы не подумали, что я хочу о чем-то вас просить" (163. С. 263-265).
Некоторое время спустя Шарль Бодлер написал большую статью "Рихард Вагнер и "Тангейзер" в Париже", опубликовав ее в журнале «La Revue Européene» («Европейский жунал»). "Опера Вагнера, - писал он, - серьезное произведение, требующее пристального внимания. Музыка Вагнера выражает самое сокровенное, что таит в себе человеческое сердце <...> Любой сюжет приобретает под пером Вагнера высшую торжественность <...> Не думаю, чтобы я ошибался или вводил кого-либо в заблуждение, когда я усматриваю тут главные черты того явления, которое мы зовем гениальностью" (163. С. 267-270).
Скандал с "Тангейзером" положил начало европейской славы Р. Вагнера. "Дай мне, боже, такой провал”, - повторял Шарль Гуно каждый раз, когда речь заходила о провале "Тангейзера".
Шарль Бодлер оказался неплохим пророком: "Те, кто надеялся избавиться от Вагнера, радовались слишком рано. Настоятельно рекомендую им менее шумно праздновать торжество, отнюдь не такое почетное, и вооружиться смирением на будущее. Им совершенно чуждо понимание превратностей человеческого бытия, прилив и отлив страстей. Они не знают, каким терпением и упрямством наделяет Провидение тех, на кого возложило ту или иную миссию. Фактически, реакция уже началась; она возникла в тот же день, когда недоброжелательность, глупость, косность и зависть, объединившись, попытались похоронить это произведение. Но чудовищная несправедливость породила тысячи симпатий, и они непрестанно растут" (163. С. 271).
В статье "Рихард Вагнер и "Тангейзер" в Париже" Ш. Бодлер решил рассеять атмосферу недоверия и враждебности, созданную "неудобоваримым и гнусным памфлетом господина Фетиса", одного из самых ярых парижских противников Р. Вагнера.
Полемизируя с Ф. Ж. Фетисом, известным музыковедом и автором направленного против Р. Вагнера памфлета, Ш. Бодлер отмечал в операх Вагнера ряд достоинств, которые позволяли ему считать немецкого композитора "самым подлинным выразителем чувств современного человека": эмоциональную насыщенность, силу страстей и воли, колебание между небом и адом. Очевидно, что Ш. Бодлер внимательно изучил вагнеровское "Письмо о музыке".
Сравнивая статью Ш. Бодлера со статьей Г. Берлиоза современники приходили в изумление от того факта, что литератор превзошел музыканта в понимании вагнеровских музыкальных идей. Сам Р. Вагнер объяснял это тем, что его реформа по сути дела имела отправную точку в литературе. Р. Вагнер исходил из потребности обновить и облагородить поэтическую идею оперы и из намерения подчинить музыкальное мышление драматургическому.
Ш. Бодлер с восхищением отмечал умение Р. Вагнера "мыслить двояким образом, поэтически и музыкально, видеть любую идею сразу в двух аспектах, причем один из двух видов искусства начинает действовать там, где кончаются пределы другого. Драматический инстинкт, занимающий столь важное место среди его способностей, должен был толкнуть его на бунт против всех фривольностей, пошлостей и нелепостей, которыми изобиловали пьесы, изготовляемые для музыки.
Таким образом, провидение, заботящееся о художественных революциях, заставляло созревать в уме молодого немца вопрос, так сильно волновавший XVIII век. В этом не усомнится ни один человек, внимательно прочитавший "Письмо о музыке", служащее предисловием к "Четырем оперным поэмам", переведенным на французский язык, и где имена Глюка и Мегюля часто упоминаются здесь с горячей симпатией.
Вопреки мнению господина Фетиса, который желал бы во что бы то ни стало и навеки установить преобладание в опере музыки, не стоит пренебрегать мнениями таких людей, как Глюк, Дидро, Вольтер и Гёте. Если два последних позднее отказались от своих излюбленных теорий, то это было лишь актом разочарования и отчаяния. Перелистывая "Письмо о музыке", я чувствовал, как в памяти моей, как бы в силу мнемонического эха, возникают пассажи из Дидро о том, что подлинная драматическая музыка не что иное, как вопль или вздох страстей, записанных в нотах и ритмах.
Все те же научные, поэтические, художественные проблемы непрестанно ставятся на протяжении многих лет, и Вагнер не выдает себя за изобретателя, а просто-напросто считает себя носителем старой идеи, которая, несомненно, еще не раз будет терпеть поражение и снова побеждать. Все эти вопросы, по существу, чрезвычайно просты, и поэтому довольно странно, что теории музыки будущего (чтобы воспользоваться выражением столь неточным, столь и распространенным) возмущают тех самых людей, которые так часто жаловались на рутину обычного оперного либретто, подвергающую терзаниям любой здравый ум" (163. С. 280-300).
Страстную силу вагнеровской музыки, в которой двадцать лет спустя Ницше усмотрит патологическое явление и признак упадка, Ш. Бодлер считал высшей заслугой таланта композитора: "По-моему, - писал он, - незабываемую печать на творчество этого мастера накладывает нервность, сила страстей и воли. Эта музыка то нежнейшим, то самым резким образом выражает все, что есть самого сокровенного в сердце человека. Правда, во всех своих произведениях Вагнер руководствуется стремлением к идеалу; но если по выбору сюжетов и драматических приемов он приближается к древности, то благодаря страстной энергии выражения он является в настоящее время самым подлинным представителем современного человека. Все знания, все усилия, все комбинации этого богатого ума являются, по правде сказать, не чем иным, как данью самому смиренному и самому ревностному служению этой безудержной страсти. Это порождает - независимо от избранного сюжета - наивысшую торжественность. Благодаря этой страстности он придает каждой выражаемой мысли нечто сверхчеловеческое; благодаря этой страстности он все понимает и все делает понятным. Все, что можно выразить словами: воля, желание, сосредоточенность, эмоциональная насыщенность и бурный взрыв страстей - все это чувствуется и угадывается в его операх. Думаю, что я не обманываюсь сам и не обманываю других, утверждая, что различаю в этом основные черты явления, которое мы называем гениальным" (163. С. 296).
В вагнеровской оперной реформе Ш. Бодлер справедливо увидел продолжение старого спора "глюкистов" с "пиччинистами", имевшего место в Париже в конце XVIII столетия. Однако возрождая в иную эпоху глюковские традиции подчинения музыке драматическому содержанию оперы, Р. Вагнер изменил само содержание. Его монументальные драмы так пронизаны сознанием трагизма бытия, противоречивой двойственности человеческой природы, разлада между мечтой и действительностью, как и стихи Ш. Бодлера. Чувствуя это родство, Ш. Бодлер еще более утверждался в справедливости дорогой ему идее "соответствий". Поэзия, музыка, живопись для него лишь разные языки Единого, готовые, каждый по своему, выразить сокровенные мысли и состояния души.
Ш. Бодлер признавал правомерность сомнений в способности музыки - самого абстрактного из искусства - передавать определенные идеи и ощущения; но признавал свободу ее выражения. Кроме того у музыки, по Бодлеру, есть и технические средства, адекватные слову: музыкальные диссонансы соответствуют иронии в литературе и т. д..
В статье о Р. Вагнере отмечены многие приемы, к которым прибегал композитор: использование лейтмотивов, увеличение смысловой нагрузки речитативов, наконец, изменение самой структуры оперы, представляющей собой уже не механическое соединение эффектных "номеров", а подчиненное драматической логике развития тем.
Ш. Бодлер не претендовал на профессионально-объективный анализ. Защищая музыку Р. Вагнера, он пользовался случаем, чтобы высказать свои эстетические суждения. Статья о Р. Вагнере, обладая определенной теоретической ценностью, сыграла немалую роль в бурной полемике, которая бушевала вокруг творчества композитора во время его пребывания в Париже в 1860-1861 годах.
Во многом благодаря печатному выступлению Шарля Бодлера во Франции началась пора увлечения Вагнером и "вагнеризмом".
Итак, если суммировать основные аспекты бодлеровской журналистской деятельности, то можно остановиться на следующем:
Вся журналистская деятельность Шарля Бодлера свидетельствовала о том, что в период журналистской специализации он выступил как один из последних универсальных критиков, одинаково уверенно проявившего себя в качестве литературного, художественного и музыкального критика.
Переводческая и популяризаторская деятельность Шарля Бодлера привела к появлению новых стандартов в культуре перевода и возникновению "культа Эдгара По" во французской культурной традиции, что, в определенной степени, инициировало формирование основных концептов символизма.
Как критик, Шарль Бодлер разительно напоминает Эдгара По. Его критика субъективна и эклектична в том плане, что несводима к какому-то одному сложившемуся подходу. При ее анализе стоит учитывать тот факт, что это критика поэта или поэта-критика, а не литературоведа. То есть перед нами литератор, прекрасно разбирающийся в своем предмете и способный на глубокие и профессиональные суждения, но не ориентированный на системный подход. В случае с Бодлером - два-три глубоких замечания могут стоить нескольких статей того же Планша, так как они гораздо более значимы для понимания литературного процесса Франции.
Однако и в отсутствии метода есть свой метод. Поэтому в случае с критическим наследием Шарля Бодлера более логично было бы говорить не о критическом методе автора, а о его критической манере.
В критической манере Шарля Бодлера можно выделить следующие характерные составляющие:
а) математический анализ и логика, несколько завуалированная метафоризацией "критического пространства";
б) опору на выведенную для своего собственного творчества формулу настоящего искусства;
в) стремление к парадоксам;
г) полемичность, доходящую до несправедливости;
д) непризнание авторитетов;
ж) мозаичность и некоторую хаотичность в выборе объектов критики (что впрочем характерно для "журнального" критика, работающего с современным ему материалом);
з) универсальность, помноженную на энциклопедичность;
и) умение видеть за частным общее, то есть закономерности литературного (культурного) процесса в целом.
Стоит отметить и тот факт, что для Шарля Бодлера, как литературного, художественного и музыкального критика, мир искусства, о котором он писал, был чрезвычайно важен, ибо, как он сам говорил по поводу Эдгара По, "только в этой стихии и могут дышать некоторые изгои"
Рихард Вагнер и символизм
Источник: Miscellanea humanitaria philosоphiae. Очерки по философии и культуре. К 60-летию профессора Юрия Никифоровича Солонина. Серия «Мыслители», выпуск 5. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.235-244
Е.Г. Соколов. МОДЕРН — ДЕКАДАНС: Р. ВАГНЕР И СИМВОЛИЗМ
Конец XIX – начало XX века — время, как стало очевидно сегодня, завершения великого проекта Модерна (в терминологии Ж.Ф. Лиотара), выступавшего доминирующим, чуть ли не единственно легитимным, способом артикуляции европейской культуры на протяжении более 4 предыдущих веков. Апокалиптические мотивы синдрома fin de siecle, столь отчетливо прозвучавшие в тот период, уже в актах непосредственного событийного движения — со-временности и современности — выразились, в том числе, и в знаменательном метафорическом (само)именовании (редчайший случай в историко-культурной систематике!) — декаданс: завершение, упадок, разложение, деградация. Или, отвлекаясь от трагизма непосредственно переживаемой девальвации фундаментальных устоев, — смена ориентиров, культурных векторов, по которым привычно было скользить мыслью, желанием, волей и.. текстом. Последний «большой стиль» новоевропейской культуры, последнее «монологическая эпоха», наконец, последняя, в рамках заявленной парадигмы, подлинность, неподсудная и недоступная, — «внутреннее безумие, выплеснувшееся наружу в невозможных буффонадах» (А. Белый). Можно было бы добавить: безумие культуры, т.е. то, что схватывалось/удерживалось как безумие, конструировалось/культивировалось как Иное, манифестировалось и доводилось до явленности в режиме тех же самых, стандартно-новоевропейских, устоев, и само по себе ничуть им не угрожало. И еще: «невозможные буффонады» как чрезмерность излишков, о которых столь тщательно заботится любая вырождающаяся, исчерпавшая резервный ассортимент внутренних структур, культура, спеша после себя оставить «пряный аромат вечернего заката».
Декаданс – символизм – Ар Нуво [1] — замечательны не только роскошью декора, но и «работой дискурсивного движения», позволяющей достаточно отчетливо просмотреть те поля, на которых в последующем стали происходить архитектонические деформации, приведшие век спустя, т.е. в наше время, к радикальной переделки всего тела культуры. Еще присутствующая потребность воспроизвести монолит даже и в его негативном аспекте как раз и предопределяла невозможность выйти за пределы заявленного более 4 веков тому назад канона: просто отыгрывались уже известные возможности, педалировались интонации, ранее звучавшие под сурдинку, перетасовывались концептуально-смысловые позиции. Зачастую как в простой детской игре-перевертыше: незамысловатая пересменка полюсов, бинарных оппозиций. Причем, даже возвеличенная и растиражированная негативность, задававшая тон и резон, не утрачивала свой отрицательный окрас. Потому и переживалась-чувствовалась как декаданс-Апокалипсис.
В этом отношении показателен иконостас эпохи. Одно из первых и самых почетных мест в нем занимает последний великий Романтик — Р. Вагнер.
Утверждать, что Рихард Вагнер является символистом-декаднтом было бы несправедливо. Едва ли какое-либо из произведение, будь то литературно-критическое, будь то музыкальное, композитора может быть расценено как произведение символическое в узком смысле этого слова (т.е. как манифестация стилистики или контекстуальности символизма). Тем не менее, невозможно представить себе символизм — и зарубежный, и отечественный, — во всем многообразии его форм без Р.Вагнера и вагнеризма. В прямом смысле слова немецкий композитор был для большинства, если не для всех, представителей символизма фигурой культовой. И если не углубляться в стилистическую дефинициацию и трактовать вторую половину XIX века и начала XX как эпоху с отчетливо выраженным тяготением к художественным символически окрашенным жестам, то она с полным правом может в качестве детерминатива иметь образ Вагнера.
Перед Вагнером преклонялись родоначальники символизма — Бодлер, Варлен, Малларме. Хорошо известно, что “La Revue wagnerienne” [2] был одним из самых ярких и значительных проявлений «классического» французского символизма. То, что с самого начала «символического движения» и вплоть до его пост-деклараций именно Р. Вагнер выступал в качестве ориентира, — не случайно. Тому были веские причины. Прежде всего, в качестве повествовательной структуры Р. Вагнер избрал неиспользуемые ранее европейскими композиторами великие европейские мифы (так сказать, «непроработанный» ранее европейской культурой материал). Литературный символизм обязан Вагнеру, как выразился Ницше, возвращением к подлинной трагедии. Драматургические принципы Вагнера, его мечта о синтетическом театре были чрезвычайно близки символистам. В Байрейтских постановках, сохранявших неизменными на протяжении многих лет авторские указания, акцент делался на создание соответствующей атмосферы. Пренебрежение к внешней событийности компенсировалось активизацией внутреннего состояния, повышением «градуса» душевного накала. Наконец, амбивалентность многих героев музыкальных драм
композитора, совместимость в одном персонаже прямо противоположных интенций с яркой акцентированностью полюса (порочность и невинность, неотвратимость греха и мечта по добродетели и пр.), перешедшая к Вагнеру от европейских романтиков и доведенная им до нервной и вызывающей наглядности, постепенно сделалась устойчивым признаком персонажей символического театра: Лулу и Мелизанда, безусловно, генетически восходят к Кундри.
Немаловажно и то, что в литературном творчестве Вагнер на протяжении многих лет утверждал приоритетность именно художественной манифестации, ее нарочитую и экстремальную привилегированность по отношению к другим практикам повседневности. Само по себе провозглашение уникальности художника — не новость. Новостью было усиление этого мотива вплоть до лишения других «профессионально-социальных страт» всякой возможности приблизиться к истине. Чрезвычайно импонировала и установка на всеобщее и тотальное «охудожествление» человеческой жизни, назойливое утверждение необходимости распространения искусства на все без исключения сферы человеческой жизни. «Тотальная эстетизация» повседневности, излюбленный мотив символистски ориентированных движений, в работах Р.Вагнера, а также, отчасти, и в его театральных проектах, находила свое «теоретическое обоснование». Востребованной — развитой и усиленной — оказалась и ориентация на эйдетический модус, вновь выкликавший из забвения сакральные реестры культуры, до того в течение по крайней мере века подменявшиеся «художественной идеальностью».
Кроме того, вагнеровские герои оказались чрезвычайно «емкими и удобными» в плане использования их в качестве «фикций повседневности» или «бытийственных семулякров». Сработанные изначально пригодными для продуцирования в реальность (претендующими на инкорпорацию в обиходный контекст), пусть хотя бы только и в реальность художественную, они, благодаря теоретическому обоснования, а также отчетливо проводимой мысли об их архитипической (мифологической) предзаданности, могли служить — и служили (Людвиг Баварский, Пеладэн и др.)! — макетами-прообразами, по которым ориентировались наиболее экзальтированная, претендующая на крайность и аутентичность выражения заявленной интенции, процессуальность.
Разумеется, Вагнер, ставший с годами добропорядочным, законопослушным и очень удачливым царедворцем едва ли одобрял подобный поведенческий радикализм. Известно, что он вежливо, но настойчиво отклонял все попытки символистов с ним встретиться или наладить плодотворный творческий контакт. Но, несомненно, композитор был бы польщен тем, насколько успешно функционировали в повседневности сконструированные им художественные модели. Безусловно, и у Вагнера, и у символистов была единая цель — придать искусству чистоту и строгость, покрыть им целиком все резервуары человеческой экзистенции.
Символисты, и ранние, и поздние, испытывали настоящее преклонение перед искусством композитора, чем немало способствовали установлению всеевропейской моды на вагнеризм. Особенно импонировало первым символистам установка на синтез искусств в рамках единого художественного проекта. Практически весь символический театр так или иначе придерживался данной вагнеровской максимы.
Первый всплеск славы Вагнера в Париже относится к 1860-1861 гг. Приехав во французскую столицу, он устраивает три концерта с исполнением своих произведений: звучат фрагменты из «Летучего Голландца», «Тангейзера», «Лоэнгрина» и вступление к «Тристану». Годом позже постановка «Тангейзера» в «Гранд-Опера» заканчивается грандиозным скандалом. Важно отметить, что несколько писателей незамедлительно выступили в поддержку Вагнера. Так Шанфлери в своей брошюре «Рихард Вагнер», датированной 27 января 1860 г., подчеркивал, что музыка Вагнера нацелена не на изображение чувств, а скорее на их выражение. Следовательно, уже тогда творчество Вагнера воспринималось во Франции как противостоящее романтическим и реалистическим тенденциям эпохи. Причем — и это не стоит забывать — речь шла именно о «музыке будущего». Так ее презентировал сам композитор, так она воспринималась и окружающими.
К. Мендес указывал, что вагнеризм влечет за собой эстетический прорыв: «Нам не терпится узнать, как воспримет смелость новатора французская публика, которой предстоит услышать серьезное произведение, требующее особенного внимания». По мнению автора, Вагнер первым явил «двуединство поэзии и музыки, гармонически слитых в целостности театрального спектакля», а оригинальность его подтвердила ожидания «высоких и светлых умов во Франции, давно уже устремленных к музыкальной драме».
Безусловно, что для первых символистов Вагнер стал эмблемой современного искусства. Именно ему они отводят роль первого музыкального выразителя того мироощущения, которое еще искало своего выражения, ибо в музыкальной драме композитора с очевидностью утвердилось новые принципы музыкального искусства.
Если исполнение ранних произведений Вагнера в Париже породило ощущение глубокого обновления музыкального языка, но появление «Тристана» и двух первых частей «Кольца Нибелунга» активизировало поиск более точных определений. Между 1862 и 1870 гг. целый рад писателей и художников устремляются из Парижа в Трибшен и Мюнхен за некоторым подтверждением новаторского значения их собственных поисков, для «опробации» и «удостоверения» истинности вырабатываемых ими идей. Официальным поводом для поездки в Мюнхен К. Мендеса, Ж. Готье и В. де Лиль-Адана было посещение Всемирной выставки изящных искусств (апрель 1869 г.). Результатом поездки стало то, что французские писатели и художники убедились, что «Тристан» и «Золото Рейна» являются первыми произведениями, полностью воплотившими эстетические установки символизма. Об этом ясно говорит Мендес в Работе «Творчество Вагнера во Франции», написанной через несколько лет после путешествия: «Среди шедевров Вагнера сразу же и навсегда, глубоко и прочно завоюет французскую душу именно «Тристан»… самая чудесная драма о любви из всех когда-либо созданных… Возвышеннейший брак любви и смерти». «Тристан» представляет собой Gesamtkunstwerk — «тотальное произведение», а символизм, следовательно, являет в музыке, как и в других искусствах, новый, неслыханный язык магических заклинаний. Для французских паломников «Тристан» — первое в полном смысле слова вагнеровское сочинение, ибо это сценическое воплощение одного из мифов, общих для всего Запада.
Поздняя фаза вагнеризма во Франции связана с расцветом и утверждением новой символической эстетики. После триумфа «Парсифаля» в “La Revue wagnerienne” середины 1880-х гг объединяются все лидеры французского символизма. В проспекте журнала Дюжарденом названы в числе сотрудников писатели Э. Бурж, В. де Лиль-Адан, Малларме, Верлен, Лафорг, Мореас, Верхарн, Вьеле-Гриффен, А. де Ренье, Метерлинк; художники — Фантен-Латур, Ж.-Э. Бланш, Ренуар; композиторы — Шабрие, Шоссон, В. д'Энди, Дюка. Таким образом, Вагнер и номинально и реально признается родоначальником символического движения.
Для Ж. Бодлера, который «открыл» Вагнера в 1861 г., т.е. тогда, когда символизм как такового, тем более широкого символического движения, и не существовало, синтез искусств означал союз поэзии и музыки, по силе своего воздействия неполноценных друг без друга. То, что с таким пафосом Р. Вагнер доказывал на протяжении многих сотен страниц, для Бодлера явилось настоящим откровением. В 1861 году Бодлер публикует развернутое эссе — «большой труд» — под названием «Рихард Вагнер и “Тангейзер” в Париже». Текст, «сымпровизированный за три дня», был написан под впечатлением посещения концерта Р. Вагнера в феврале 1860 г. Поэт сразу и безоговорочно стал активным апологетом вагнеровской эстетики. Для Бодлера явление Вагнера — по сути дела, вторжение, ибо означает постановку под сомнение и расстройство «системы изящных искусств», т.е. всего новоевропейского института Искусства. Абсолютное произведение искусства Вагнера — Gesamkunstwerk — предстает как настоящий конец искусства в форме воссоединения и синтеза всех частных искусств. Для Бодлера настоящим откровением было наглядность утверждения, что музыка — как форма-мощь или форма-сила — наделена способностью действовать и оперировать всеми структурами наличной реальности. Или: чем более она,музыка, субъективна и интуитивна, тем более — всеобще и «абсолютно человечна». И в этом смысле литература и поэзия не могут достичь такого уровня субъективации, который одновременно является и вершиной объективности. Поэтому для Бодлера проводимое Вагнером фигурально-операционное сопоставление отдельных искусств в «произведении всеобъемлющего искусства» является средством удержания/декларации излишества и формой сохранения смысла.
Не менее интересным для Бодлера в случае с Р. Вагнером была эстетизация политики, превращение искусства не просто в одну из политических ставок, но в саму ставку политики как таковой (через миф). Т.е. тем самым у композитора Ш. Бодлер увидел наглядную манифестацию известного положения Ф. Ницше о допущении политики как произведения искусства
Но главный урок, который извлекает Бодлер из вагнеризма, состоит в том, что поэзия впредь не в состоянии достичь того, на что способна музыка, что музыка пришла поэзии не смену. Бодлер тем самым превращает именно музыку в эстетический язык par excellence, в то искусство, где исполняется полностью и без остатка эстетическая функция искусства. Иначе говоря, музыка доводит эстезис до его предела, являя предусловие всякого условия чувствования, или чистую возможность самого жеста представления. Поэтому-то для Бодлера впечатление от музыки — «головокружительно» и равносильно эффекту опиума. Для французского поэта-символиста Тангейзер — и слушатель «Тангейзера» в том числе! — тот, кто «пресыщенный изнурительными усладами, взыскует мук!» и испускает при этом «возвышенный вскрик». Само же замечательное, что импульсивный экзистенциальный всплеск редуцируется непосредственно в плоть. Бодлер не просто признает, что ни одна музыка, вероятно, не умеет лучше, чем вагнеровская, «перевести» плотское смятение или эротический экстаз, но и пытается описать «технологию» происходящего телесного экстаза, «хаос бьющегося в смертных муках сладострастия» — плотское смятение. Итоговый вывод поэта весьма радикален: музыка — не язык, не означивание, но эмблема «нерасторжимого состояния» — начало и конец всякого искусства как такового.
Идею синтеза искусств поддержал в 1875 г. и Э. Шюре, автор канонической символической книги «Великие посвященные», в работе «Музыкальная драма». Правда к поэзии и музыке на равных был добавлен Шюре еще и танец, что диктовалось необходимостью воссоздать единство трех муз греческой античности.
Если завороженность вагнеровской оперой была всеобщей, то взгляды композитора на синтез искусств поддерживались не всеми «классическими» символистами. Например, Т. де Визева не устраивало вагнеровское пренебрежение к живописи. Р. де Гурмон упрекал Р.Вагнера в том, что он дал механическую сумму различных искусств и при этом подчинил их друг другу, тогда как более «естественно» было бы выявить в них некое первоначальное единое зерно, т.е. установить первичную неразличенность. Ш. Морис разрабатывал свою иерархию искусств, где поэзия занимает главенствующее место, оттесняя с пьедестала музыку. Того же самого взгляда, хотя и в более «мягкой» форме,
придерживался Малларме. В эссе «Греза о Вагнере» (1885) он, не отвергая саму идею синтеза искусств, тем ни менее говорит о «взаимной поддержке разных искусств, скрепленных поэзией».
Эссе Малларме о Вагнере, впервые опубликованное в «La Revue wagnerienne», знаменательно не только тем, что здесь поэт высказывает свое отношение к синтезу искусств и к творчестве немецкого композитора. Оно может считаться также и развернутым изложением теории символической драмы. В музыкальных драмах Вагнера Малларме привлекает идея театра, становящегося храмом и выступающего прообразом грядущих тотальных антропологических трансформация. Упрекает же Малларме Вагнера за пренебрежение танцем. С точки зрения французского поэта, танец в состоянии сам стать центром развернутого художественного повествования, скрепив весь артистический ансамбль. Множество претензий у Малларме и к Байрейтским постановкам. Он полагает, что пышные, роскошные, претендующие «на реальность» декорации, отвлекают внимание зрителей, не дает им сосредоточиться на главном, а актерская игра не помогает, но напротив мешает полностью раскрыться колдовскому магнетизму поэтического речения. Малларме считает, что декорации должны носить чисто условный и аскетический характер, не столько являть символ, посягающий на реальность, сколько намекать на него, отсылая тем самым зрителя к непроявленным «трансцендентным глубинам».
И все же Вагнер для символического театра выступал одним из самых отчетливых ориентиров. Вагнеровская драма, несмотря на критику и упреки в тех или иных недостатках, притягивала всех символистов, побуждая их продолжать свои эксперименты. Тон, конечно же, задавали основатели “La Revue wagnerienne” Т. де Визева и Э. Дюжарден. Причем, последний взялся за постановку своей пространной трилогии «Легенда об Антонии», где героиня, отринув покрывало Майи, «пробуждается от сна тусклой жизни» и представляет собой паренье «души над видимостью на крыльях символа», именно под впечатлением успехов театральной реализации тетралогии «Кольцо Нибелунга».
Другой неистовый и фанатичный поклонник Вагнера, Сар Пеладэн, воодушевленный «Парсифалем» задумал «создание трех орденов — «Роза и Крест». «Храм» и «Грааль», решив следовать в поэтической драме точным указаниям Вагнера. Примечательно и то, что в 80-гг Пеладэн открыл один из самых известных французских салонов — «символистский Салон ордена Розы и католического Креста» [3], в котором появлялся исключительно в костюмах и в образах героев вагнеровских опер — Лоэнгрина, Зигфрида, Парсифаля, Тристана, Тангейзера и пр. «Вагнерии» Пеладэна — «Вавилон». «Эдип и сфинкс», «Семирамида», «Прометеида» — свидетельствуют о серьезности и искренности его намерения стать верноподданным последователем Р. Вагнера.
В постановочном виде вагнеровская драма и в самом деле осуществила настоящий синтез искусств — поэзии, музыки, танца и живописи. Посетители парижских вагнеровских «вторников» Пеладэна отмечали, что здесь соединение речи, жеста, декораций, балета и музыки было необходимым и единственно возможным способом актуализации реальности. Разумеется, честолюбивый замысел Пеладэна едва ли имел шанс получить широкое распространение, ибо требовал слишком больших, в том числе и экономических, ресурсов. Вероятно, во многом поэтому символисты попытались предложить прямо противоположную эстетику — аскетизм и безыскусность. Кроме того, постановка спектакля должна, по мысли Малларме, перейти к поэту, который, заимствуя у музыки плоды, создал бы из драмы храм слова. Э.Шюре заявлял также, что он предпочитает музыкальной драме — разговорную, где музыка будет либо «заполнять паузы», либо «служить созданию настроения».
Как и вагнеровская драма, символистский театр любил обращаться к мифологическим, или притязающим на мифологичность, повествованиям. Бодлер неоднократно отдавал должное Вагнеру, указывая, что именно немецкий композитор первым осознал «священный, божественный характер мифа», обнаружив во «всеобъемлющем человеческом сердце всеобъемлюще сверхчувственные картины». К этой мысли поэт пришел после представления под руководством Р. Вагнера «Тангейзера». Шюре также утверждал, что «идеалистический театр», «театр грезы… рассказывает о Великом творении Души в легенде о человечестве». Малларме, правда, делает некоторую оговорку, утверждая, что «французский ум в исключительной степени и точен, и абстрактен, а следовательно, поэтичен… и, подобно искусству в его целостности или способности творить, испытывает отвращение к Легенде». Что, однако, не означает, что поэт отвергал миф как великую креативно-художественную константу. Лишним подтверждением тому могут служить его слова: «Театр вызывает к жизни мифы, но нет: не вековые, неизменные, всем известные, а мифы, рожденные индивидуальностью, составляющие своеобразие нашего облика; пусть же те, кто пользуется авторитетом, создают, отвечая потребностям своей страны, такое Искусство, которое бы просвещало на в этом». Для Малларме такой миф — нечто вроде абстрактного энергийного принципа, некая отсутствующая в повседневности, но проявленная в индивидуальном творчестве, пружина. По мнению поэта, за неимением других, художественных, артистических, плодов индивидуалистского экстаза, мы довольствуемся произведениями на мифологические сюжеты, воссоздающие то греческие мифы (таковы трагедии Анненского, которые призваны были заполнить пробел, возникший между утраченными драмами Еврипида и рядом пьес Гофмансталя), то народные легенды (как то делает Йейтс, выводя на сцену мифологических ирландских героев — Кухулина, Эмера и Конхобара).
Но более всего Р. Вагнер повлиял, разумеется, на музыкальное творчество европейских композиторов, в том числе и на тех, кто так или иначе в различные периоды был склонен разделять установки символистов.
Характерно, что даже К. Дебюсси, весьма скептически относящийся к Байрейтским фестивалям, принимавшим все более и более откровенный шовинистический характер, увидел в «Парсифале» «переходное» произведение, открывшее дорогу музыкальным революциям ХХ века, далеким от символизма. Для Дебюсси речь идет, прежде всего, о музыке, о волшебном звучании звуков и о той магической и завораживающей силе внушения, которую первым отмечал еще Бодлер. Эти качества в «Парсифале» проявились особенно ярко благодаря мифическому и потайно-эзотерическому характеру либретто, но также и благодаря тому, что, как в «Тристане», действенный акцент перенесен с внешнего на чисто внутренней план, что позволяет слушателями остаться наедине с выразительной изощренностью звуковой фактуры, гармонии, хроматизма (и, как итог, — «вагнеровской харизмой»)). Для Дебюсси, тончайшего колориста, это черта последней музыкальной драма Р. Вагнера имеет принципиальное значение. Конечно, смелость и новаторство музыкального письма «Парсифаля» не превосходит «Кольцо Нибелунга» или «Мейстерзингеров», и лишь благодаря общей контекстуальной интонации становится очевидно, что здесь поистине «музыка на первом месте», именно она — удерживает слушателя (лишь во вторую очередь зрителя) на смутной грани, где «точность с зыбкостью слиты». Эта зыбкость, это бессознательно-смутное упоения звуком ради самого звука захватили, вероятно, Дебюсси более всего. Тем более, что в сюжете драмы переплетаются эротика и мистика, оставляя безграничный простор бесконечным и самодостаточным музыкальным модуляциям-переливам. Помимо монументальности и специфики звучания «Парсифаль», по мнению Дебюсси, передает в наследство символизму особую риторику выражения тематического массива.
Хорошо известно, что полностью и до конца раскрылась эстетика символизма в опере, т.е. в том жанре, который был вознесен на первое место Р. Вагнером. Опера в целом (либретто, музыка, постановка, декорации) часто может восприниматься как символическое произведение, если каждая из ее частей так или иначе тяготеет к символизму. Преимущество здесь, разумеется, за либретто. Преобладание «литературности» может служить детерминативом символической оперы. Если романтическая опера ориентирована прежде всего на музыкальное письмо, о чем неоднократно говорил Р. Вагнер, то символическую оперу определяет ориентация на писателей символистов и на тематику (либо символическую трактовку) символического их произведений.
В этом смысле символический музыкальный театр испытал равнозначное влияние как поэтов (драматургов) символистов, так и Р.Вагнера, способствовавшего кристаллизации эстетическим принципов, как уже было сказано, самих поэтов-символистов. Благодаря этим влияниям складывается общая для драматической и музыкальной сцены тематика: это либо миф, в символистском его прочтении, кочующий из драматического театра в оперу и наоборот (например, миф об Ариадне, разработанный Мендесом для Ж. Массне, Гофмансталем для Р. Штрауса); либо легенда (сюжет «Синей Бороды» использовали вначале Метерлинк, затем П. Дюка и Б. Барток). Т.е. конституирование общих мотивно-нарративных зон. Кроме того, речь можно вести и о совпадении психологических и философских конструктов. Так не раз отмечалось, что как в драматическом театре, так и в опере в течении достаточно длительного периода (от Р. Вагнера до А. Берга) преобладающее положение занимает образ героини, являющейся одновременно и «женщиной ребенком», и «роковой женщиной» (Кундри в «Парсифале», Лулу у Ведекинда и А. Берга, многочисленные Саломеи и Мелизанды). Сквозным состоянием для множества произведений широкого жанрового диапазона стало амбивалентность отношения к жизни: страх-ужас и упоение-восторг, соблазн испытать полноту головокружения перед разверзающейся бездной («Тристан и Изольда», «Электра» Р. Штрауса, «Манон» Ж.Массне)
Испытывая прямое влияние литературы как источника вдохновения, развиваясь с точки зрения музыкальной техники в основном в вагнеровском или поствагнеровском русле, опера представляет собой самый характерный и, в то же время, самый неопределенный жанр музыкального символизма, через который прошли все — как консервативные, так и революционные школы музыки рубежа веков.
Примечания
[1] Специально не останавливаясь на нюансах различения данных терминах, будем использовать их в качестве неких сродственных дефиниций, отсылающих к единому семантическому процессуальному ансамблю, где каждая тяготеет, конечно, к своему блоку контекстуальных состояний («Декаданс представляет духовную среду, комплекс умонастроений, доминировавших в определенной общественной прослойке. Символизм как направление —характеризуется эстетической программой, методом построения художественного образа… Ар Нуво — стиль, объединяющий разные виды пространственных искусств». В.А. Крючкова. Символизм в изобразительном искусстве. М. 1994. С.14), но в пластике мысли-речи они могут и подменять друг друга.
[2] La Revue wagnerienne, «Вагнеровское обозрение» — выходило с 1885 по 1888 г. под руководством Э. Дюжардена. Задачей издания было знакомство с творчеством композитора во всем объеме его многогранной деятельности (музыка, литературно-критическое наследие и политика). Журнал во многом способствовал сплочению и выработке единой концептуальной установки всего французского символического движения.
[3] Всплеск интереса к тематике «розы и креста» характерен для декаденско-символических кругов Франции в конце 80-х гг XIX в.. Неясность и непроясненность истории и доктрины «розы и креста» оказались чрезвычайно созвучны настроением эпохи. Тематика и иконография «Розы и Креста» вошли в репрезентативный канон эзотеризма, одного из концептуально-идеологических фундаментов декаданса-символизма. Так В. де Гуайта учрездает в 1888 г. во Франции каббалистические орден «Роза + Крест». В него тут же вступает Пеладэн. Но достаточно быстро выходит, чтобы основать другой, свой — орден «Розы, Креста, Храма и Грааля», который часто называли просто орденом Розы и католического Креста. Орден Пеладэн существенно повлиял на искусство конца XIX векю. Пеладэн оказывал существенную поддержку художникам, основав свой, символический салон. С 1892 по 1897 г. эти ежегодные салоны собирали молодых художников. Мэтры живописного символизма – Моро, П. де Шаванн, Редон, Уоттс и пр. – однако в них выставлялись редко. Пеладэну же принадлежит и следующее воззвание: «Художники, которые верят в Леонардо и Нику Самофракийскую, будьте членами Розы и Креста! Наша цель в том, чтобы вырвать любовь из западной души и заменить ее любовь к Прекрасному, К Идее, к Тайне. Наше пламенное чувство объединит любовь к литературе, Лувру и Байрейту»
Светлана Телегина. Закономерности восприятия опер Рихарда Вагнера русскоязычными вагнерианцами-любителями.
Отчёт по итогам опросов 2014-2015 гг. Часть 1.
ТЕХНИКА
Изначально при проведении этой серии опросов основная цель была – сравнить выбор пользователей по отдельным компонентам вагнеровских опер с предпочтениями по операм в целом и сделать на этом основании выводы о преимущественно оперном или преимущественно универсальном (по Вагнеру) характере этих предпочтений. Однако в процессе голосований и дискуссий нарисовалось ещё несколько интересных тем, связанных с особенностями восприятия наших вагерианцев. В этом мини-анализе всё будет вместе, повторять доводы за и против первоначальной постановки вопроса я не буду, при желании их можно почитать по ссылкам, как и подробные комментарии промежуточных итогов опросов.
Все результаты опросов находятся здесь, обсуждения и промежуточные итоги – здесь, здесь и здесь. Опросы начинаются с «Вашей любимой вагнеровской арии для тенора», заканчиваются «Вашей любимой оперой Вагнера», идут подряд с двумя исключениями – новогоднего опроса о живописной стилистике постановок и летнего каникулярного опроса о вагнеровских хитах (последний исключён из суммарного подсчёта как дублирующий). Количество участников опросов от 32 до 84. В интернете у нас, как известно, анонимность, поэтому точно охарактеризовать состав участников не представляется возможным. Известный мне по личным контактам возрастной диапазон – 23 - 57 лет, мужчин и женщин примерно поровну, в младших возрастных группах более активны мужчины, в старших – женщины.
География пользователей – от Дальнего Востока до Швейцарии и Израиля с востока на запад, и от Якутска до Баку с севера на юг. Пропорционально общему распределению русскоязычного населения преобладают жители европейской части России, а в ней – представители Москвы и Питера. Вместе жители двух столиц составляют примерно половину участников опросов (в некоторых голосованиях меньше). Среди проживающих за границей пользователей сайта есть те, для кого русский язык не родной, но таких, насколько можно судить, единицы. Никаких специфических предпочтений по полу, возрасту и региону проживания участники опросов не продемонстрировали, за исключением чуть более активного голосования за «Парсифаля» пользователями, проживающими в Западной Европе.
Для выяснения закономерностей восприятия гезамткунстверков (универсальных произведений искусства) вагнеровские музыкальные драмы рассматривались по отдельным стандартно-оперным составляющим, а в финале было предложено проголосовать за любимую оперу. Всего составляющих на первом этапе исследования было выделено 12:
- арии для теноров
- арии для лирического сопрано
- арии для драматического сопрано (по сути соответствуют меццо в стандартном раскладе)
- арии для баритона и бас-баритона
- арии второстепенных женских персонажей
- арии второстепенных мужских персонажей
- хоры
- дуэты
- ансамбли
- сцены для солистов и хора
- увертюры / прелюдии
- симфонические фрагменты кроме увертюр
По каждой составляющей пользователям предлагалось выбрать любимую из предложенного списка. Количество вариантов ответов варьировалось от 7 до 12. Для итоговой сводки ранжировались первые три места в каждом опросе – за первое место 3 балла, за второе 2 балла, за третье 1 балл. В сводной таблице помимо итогового результата для составляющих (3-ий столбец) введены 3 подкатегории:
- Сольные составляющие, где просуммированы результаты по любимым ариям для тенора, лирического сопрано, драматического сопрано, баритона и басс-баритона и любимым ариям второстепенных мужских и женских персонажей
- Дуэты, ансамбли и хоры, куда вошли также результаты по хоровым сценам с солистами
- Оркестровые составляющие, где просуммированы результаты по любимым увертюрам / прелюдиям и любимым симфоническим фрагментам кроме увертюр
В таблице проранжированы, в том числе, и оперы, не набравшие баллов по определённым подкатегориям – соответственно, по их близости к призовым тройкам. Результат финального голосования по любимой опере представлен во 2-ом столбце.
В качестве иноязычной базы для сравнения (1-ый столбец таблицы) взят английский опрос по операм 2011 года с общеоперного, не вагнеровского сайта. Результат его наиболее усреднённый из трёх иностранных, приводившихся в дискуссиях; а 86 участников ближе всего к 84, проголосовавшим в нашем финальном опросе по любимой опере Вагнера. Опросов, аналогичных нашим покомпонентным, насколько мне известно, нигде не проводилось. Помимо англоязычных результатов опросов по любимой опере Вагнера, в дискуссиях по ходу проекта приводились немецкие данные. Однако сравнивать наши результаты с немецкими было бы в любом случае не оптимально для наших целей. Восприятие носителей языка всегда имеет нюансы, отсутствующие у тех, для кого язык не родной (или, по крайней мере, не самый активно используемый). Такой сравнительный анализ, конечно, интересен, но, наверное, больше он всё-таки должен интересовать самих немцев, чем кого-то другого.
Рихард Вагнер в своё время не мог рассчитывать на нынешний общепринятый способ продвижения своих опер на языке оригинала. Хотя в том, что этот способ совершенно устроил бы Его Патриотическое Величество, нет никаких сомнений. Едва ли компонирующего поэта хоть сколько-то волновало недопонимание байройтскими иностранными гостями языковых и социально-исторических германских нюансов. Это, кстати говоря, свидетельствует о том, что вести речь о слиянии музыки и драмы в вагнеровских кунстверках, строго говоря, более правильно, чем музыки и слова – да и что бы это могла быть за универсальность, если бы она требовала полного погружения в культурно-лингвистический контекст.
Рассмотрение положений гезамт-теории Вагнера, впрочем, не является целью нашего небольшого исследования – нас она интересует лишь применительно к восприятию его опер. Ниже приведена составленная по итогам опросов сравнительная сводная таблица. Далее будут рассмотрены отдельные её показатели и соотношения – если никаких специальных ссылок и цифр нет, значит, имеется в виду она же.
Сравнительная таблица результатов опросов
| № | Английский результат по операм 2011 | Результат опроса по операм 2015 | Итог по оперным составляющим 2015 | Арии главных и второстепенных героев 2015 | Дуэты, хоры, ансамбли 2015 | Симфонические составляющие 2015 |
| 1 | Тристан и Изольда | Валькирия | Валькирия Тангейзер | Валькирия | Валькирия Тангейзер | Гибель богов |
| 2 | Валькирия | Лоэнгрин | Золото Рейна | Тангейзер | ||
| 3 | Гибель богов | Золото Рейна Тристан и Изольда Гибель богов Парсифаль | Лоэнгрин Тристан и Изольда Парсифаль | Летучий Голландец | Лоэнгрин Парсифаль | Лоэнгрин Тристан и Изольда Парсифаль |
| 4 | Лоэнгрин | Лоэнгрин | ||||
| 5 | Парсифаль | Тристан и Изольда | Летучий Голландец Тристан и Изольда Гибель богов | |||
| 6 | Нюрнбергские майстерзингеры | Гибель богов | Тангейзер | Валькирия Нюрнбергские майстерзингеры | ||
| 7 | Золото Рейна | Летучий Голландец | Летучий Голландец Золото Рейна | Зигфрид | ||
| 8 | Тангейзер | Тангейзер | Гибель богов Парсифаль | Нюрнбергские майстерзингеры | Летучий Голландец | |
| 9 | Зигфрид | Нюрнбергские майстерзингеры Зигфрид | Нюрнбергские майстерзингеры Зигфрид | Золото Рейна | Зигфрид | |
| 10 | Летучий Голландец | Нюрнбергские майстерзингеры | Зигфрид | Золото Рейна |
.
ПРИСТРЕЛКА: ГЕЗАМТ – ОПЕРА 2 : 1
При взгляде на результаты голосований сразу заметно разное количество участников опросов. Существенно больший по сравнению с остальными интерес вызвали опросы о любимых вагнеровских дуэтах, ансамблях и увертюрах. Количество посетителей сайта непостоянно, у нас есть свои «высокие» и «низкие» сезоны, однако число посетителей в них отличается на 30 – 50 %, а не в разы. Таким образом, с учётом этих стандартных колебаний можно утверждать, что именно три вышеперечисленные темы оказались пользователям наиболее близки и интересны.
Следует ли что-нибудь из этого предпочтения? По-моему, следует вот что: все три категории всегда были важны и в традиционной опере – но меньше, чем эффектные арии солистов. То есть сдвинуть фокус зрительского внимания Рихарду Вагнеру удалось в основном туда, куда ему хотелось – в сторону драматического действия, воплощаемого в дуэтах и ансамблях. И если рассматривать подкатегории, то наиболее близкий к финальному распределению результат получился именно в «Дуэтах, ансамблях и хорах». Но увертюры! Да, нужно признать честно – и это подтверждают цифры – что увертюры слушатель воспринимает по большей части не как неотъемлемые составляющие гезамткунстверка, а как вещи вполне самостоятельные. С привнесением вагнеровской великолепной оркестровки такое восприятие могло разве что усилиться. И соображения такого рода приходили в гениальную композиторскую голову, Вагнер начал в соответствии со своей концепцией заменять стандартные увертюры прелюдиями. Но наш опрос выиграли полноценные (по длительности) увертюры – к «Тристану и Изольде», «Тангейзеру», «Лоэнгрину» и «Мастерам». Именно они больше всего привлекают слушателя в вагнеровских произведениях – причём независимо от степени привлекательности произведения в целом.
В отличие от действительно состоявшейся драматизации вокального и внутреннего оркестрового компонентов, единства оперы и драмы с помощью своих прекрасных вступительных симфоний Вагнер не восстановил (пусть будет это слово, раз оно так нравилось Маэстро) В той части, где акцент был перенесён с блистательности солистов на блистательность оркестра, цельности это не прибавило, лишь повысило независимую значимость одной из традиционно важных оперных частей. Если что-то и изменило неуниверсальный характер вагнеровских «вступлений в себе», то только «режоперные» постановки последних десятилетий, в которых сценическое действие начинается со второго-третьего десятка тактов увертюр.
ЛЮБИМЫЕ ОПЕРЫ, СПИСКИ.
Итоговый наш опрос по любимым операм завершился со следующим результатом:
1. Валькирия (15%)
2. Лоэнгрин (14%)
3 - 6 Золото Рейна, Тристан и Изольда, Гибель богов, Парсифаль (11%)
7. Летучий Голландец (7%)
8 - 9 Запрет любви, Тангейзер (6%)
10 Риенци (4%)
11-12 Нюрнбергские майстерзингеры, Зигфрид (2%)
В этот опрос были включены «Запрет любви» и «Риенци» - и, как видим, это было правильно. «Младо-вагнеры» обогнали по степени любимости «Зигфрида» и «Нюрнбергских майстерзингеров». Следует ли считать ценителей этих ранних опер «истинными вагнерианцами» или просто операманами – сложный вопрос. Во всяком случае, 10% - достаточно весомая цифра. Она лишний раз доказывает, что Вагнер и вообще без всяких концепций, мифологических драм и философичеких сюжетов куда как хорош для местных ушей - одной плотностью звука и уже тогда обозначенными мелодическими приёмами и лейтмотивами. В сравнительном анализе эти оперы фигурировать не будут, поскольку их части не фигурировали в предыдущих опросах и поскольку аналогичной иноязычной базы для сопоставления не нашлось. То есть мы вынуждены ограничиться так называемым «вагнеровским каноном» хотя бы по техническим причинам. Но отдадим должное нашим почитателям раннего Вагнера – они подняли любопытную тему, которая в академических кругах считается закрытой.
«Валькирия» и «Лоэнгрин», занявшие две верхние позиции нашего списка любимых, демонстрируют достаточно чёткие приоритеты слушателей. Это чисто музыкальные экстаз и энергетика, мелодика с примесью сказочно-инфернальных тонов, максимально насыщенная оркестровка и любовная романтика в драматически ярком развитии с уклоном больше в мелодраму, чем в философскую идейность. По сути, речь идёт о сугубо оперных предпочтениях применительно к произведениям, существенно различающимся со всех других точек зрения – драматичности, меры мифологической условности, проработанности сюжета и текста и т.д.. Из вагнеровской универсально-общенародной теории в этих операх важны в первую очередь цельность и свобода формы, в которой музыка динамично живописует драму без традиционных оперных разграничений. А почему именно эти две оперы сдвинуты в нашем восприятии наверх относительно общепринятой европейской практики, так это потому, что практика на самом деле, наверное, не общепринятая, а конкретно англо-саксонская. Люди мы, конечно, северные, но по внутреннему темпераменту скорее совпали бы с кем-то, говорящим по-испански, чем с теми, чьи языки знаем и, соответственно, можем использовать для добывания статистики. Наша стихия больше широта и полёт, чем глубина и выверенность формулировок. И здесь я в энный раз не могу не упомянуть, что из всех известных мне европейских языков только в русском вагнеровский хит всех времён и народов называется «Полёт валькирий», в остальных это «Скачка» – вроде бы мелочь, но весьма в данном случае показательная.
Однако не всё так просто с нашими демонстрациями. Собрание антиподов на третьей позиции списка любимых не демонстрирует ничего, кроме того что люди тут собрались разные и что в большинстве своём наши вагнерианцы всё-таки предпочитают позднего Вагнера раннему. Хотя следующая за этой четвёркой позиция «Летучего Голландца» возвращает нас к первой мысли этой части статьи. Партия ценителей раннего Вагнера – с неспецифическими, свойственными романтизму вообще, динамичными сюжетами в романтическом же антураже и без особых музыкальных сложностей – у нас относительно невелика, но явно более многочисленна, чем в Западной Европе. Показательно, что «Голландец» единственный из вагнеровских опер первоначально продавался в виде отдельного либретто – музыку на него действительно могли бы написать многие. Другое дело, что вагнеровских шикарных оркестрово-хоровых сцен у обычного крепкого профи получиться не могло. А несколько блестящих оперных арий – уже по-настоящему оригинальных и демонстрирующих авторский стиль, но без революционных бесконечностей – Вагнер и сам в итоге написал, так что неудачной сделке с либретто можно лишь порадоваться.
«Золото Рейна» и по времени написания, и по музыкальному колориту примыкает к группе лидеров общественного мнения. Неудивительно, что оно совершило самый впечатляющий рывок вверх в нашем финальном голосовании по сравнению со своей более чем скромной позицией по составляющим. Также неплохо поднялась в финале «Гибель богов». Вступительная и заключительная части «Кольца», на первый взгляд, совсем не похожи между собой, а сходны лишь тем, что обе они никак не могут быть названы типичными операми, зато с достаточными основаниями – гезамткунстверками. Только универсальность эта, опять же, не совсем та, которую Рихард Вагнер прописал по пунктам в своей государственно-богемной утопии. С идейно-смысловой точки зрения обе эти вещи сложнее «Валькирии» и «Лоэнгрина», где чётко выделяются положительные и отрицательные герои. В «Золоте Рейна» и в «Гибели богов» нет ни одного героя, который бы не сделал чего-то явно неположительного, и практически не даётся примеров того, как, собственно, надо поступать. В этом отношении обе музыкальные драмы куда как психологичны и жизненны, хотя сюжетные ходы, используемые Вагнером для создания такого эффекта фантастичны порой до полного сюра. В обилии драматических коллизий финалы обоих произведений открытые и музыкально позитивные, притом ни к кому из героев конкретно этот позитив не относится. При огромной разнице драматической и музыкальной разработки первая и последняя часть тетралогии смыкаются там, где заканчиваются человеческие бега и моральные оценки. Вотунги и Вельзунги приходят и уходят – Рейн, русалки и Альберих, с которых всё начиналось, остаются.
На той же третьей позиции у нас в финале оказалась ещё одна пара антиподов – причём не только музыкально-драматических, но в данном случае ещё и идейных – «Тристан и Изольда» и «Парсифаль». Их позиция по сравнению с итоговым результатом по оперным составляющим как раз не изменилась. Несмотря на все гармонические необычности, музыкальные длиннотности и сугубые идеологичности, это вполне нормальные оперы, в которых люди, как правило, ставят музыку на первый план, а все гезамтовые нагрузки на второй. В каждой из опер вагнерианцами выделяется по несколько хитовых частей, которые привлекательны и любимы сами по себе. Части эти и в том, и в другом случае явно не самые драматичные в этих произведениях – ни эмоциональный дуэт Парсифаля с Кундри, ни выдающийся волевой психоз Тристана в третьем акте не собрали в соответствующих опросах сколько-то серьёзного количества голосов. И дело не в том, что Вагнер выписал эти квинэссенции недостаточно убедительно. Нет, для желающих такой убедительности они убедительны – просто подавляющему большинству наших вагнерианцев такой накал страстей, помноженный на, мягко говоря, неоднозначную идеологию, не нужен. И любит это большинство данные произведения за то более оперное и относящееся к чистому музыкальному искусству, что в них есть. Увертюра «Тристана» и финал Изольды, ансамбль Девушек-цветов и Фервандлунг из «Парсифаля» – вот что было поставлено пользователями на самые высокие места в соответствующих опросах. Гармонически все эти фрагменты очень вагнеровские, и написаны они в по-вагнеровски свободной форме. Однако драматизм их, по сравнению с общим эмоциональным фоном произведений, весьма смягчённый, как и смысловая концептуальность. По 11% пользователей назвали эти оперы любимыми, что немало, и этим людям они дороги целиком. Но, как уже было сказано, «Парсифаля» вровень с западноевропейским результатом у нас в финальном голосовании западноевопейцы же и приподняли. С «Тристаном» этого не произошло, и разница с его первым местом в англоязычном опросе очевидна. Едва ли это что-то говорит об англичанах, ведь в немецком опросе топ был такой же. Просто там, где люди не могут договориться между собой по многим простым вопросам совместного общежития и где сумерки зимой начинаются сразу после полудня, поиски свободы от социума и вечной ночи, по-видимому, не очень актуальны.
В оценке «Тангейзера» и «Зигфрида» мы совпали со своими английскими вагнерианскими гешвистерами. Большинство вагнерианцев – люди достаточно творческие, и казалось бы, сюжет «Тангейзера» не должен оставить их равнодушными. Однако неровности этого произведения, по отдельным оперным компонентам оцененного пользователями очень высоко, в итоговой табели о рангах позволили ему занять лишь третье место с конца. Можно сказать, что «Тангейзер» хорошо доказывает жизненность вагнеровской теории от противного. Невнятные драматические и, как следствие, музыкальные характеристики Венеры, Вольфрама и местами даже Генриха с Элизабет, оставляют эту потенциально яркую драму по вагнеровским же меркам недореализованной несмотря на отдельные превосходно сделанные части. Части это преимущественно ансамблево-хоровые и симфонические – действительно эффектные (две даже признанно хитовые) и разнообразные как по передаваемым эмоциям, так и по средствам музыкального выражения. В третьем акте есть и три арии, Вольфрама, Элизабет и Генриха, попавшие пусть не на первые места, но в лидирующие тройки соответствующих опросов – плюс симпатичная вставная ария Пастушка вначале. То есть вроде бы нет западания ни по одному компоненту, а из явных музыкальных минусов – лишь некоторая общая нецельность, откровенно неудачная первая сцена и небольшие провисания во втором акте. Но избалованным гезамтовостью вагнерианцам этих минусов, как видим, довольно, чтобы большинством голосов счесть на этом фоне недостаточными все плюсы и хитовости.
С «Зигфридом» всё ещё яснее. Длительный перерыв в написании оперы, масса вопросов к главному герою, явный перебор с отрицательными и психологически статичными персонажами вокруг него и в довершение всего длинный дуэт, который лишь с большой натяжкой можно назвать любовным – всё это едва ли может быть компенсировано для обычного слушателя оркестровой живописательностью и «Ковкой меча» с «Песнями Лесной птицы», единственно попавшими «в призы» в качестве отдельных компонентов в наших голосованиях. Определённо, «Зигфрид» наименее удачен из вагнеровского канона и как музыкальная драма, и как опера. Тем не менее, у этого произведения есть свои фанаты. Логично предположить, что дуэт тёти и племянника не кажется им музыкально шедевральным, как и всем остальным, а вот в качестве универсальной драмы «Зигфрид» их по каким-то личным мировоззренческим причинам устраивает. Впрочем, как было справедливо замечено ув. Monsteroy в другой нашей теме, пути попадания в любимые неисповедимы и не всегда логичны, так что приоритет идейности здесь остаётся под вопросом.
«Нюрнбергские майстерзингеры» никогда не были популярны в России. В данный момент это единственная, кроме «Парсифаля», вагнеровская опера, не идущая ни в одном из наших театров. Что вполне объяснимо: речь идёт о пятичасовой комической опере – и несочетаемость этих прилагательных большинству здесь сразу бросается в глаза, а дальше и того больше – на сюжет о клане поэтов-любителей из числа средневековых нюрнбергских ремесленников. Претензия этого сюжета на универсальность внятна среднестатистическому русскому зрителю примерно так же, как многовековая борьба арабских женщин за права третьей жены. То есть всё вроде бы ясно, только уж больно далеко и абстрактно. Комичность «Майстерзингеров» на 80% держится на единственном отрицательном персонаже, что тоже маловато по местным меркам – в остальном и сюжет, и музыка плотно завязаны на бюргерскую патетику, перемежающуюся с лёгкой мелодрамой. Эта вещь не вызывает таких вопросов, как «Зигфрид», её не назовёшь неудачей – её сложно именно любить, а не просто считать приятным, замечательно оркестрованным произведением..
САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ, НЕСРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР
«Валькирия», предсказуемо занявшая у нас первое место – очень эмоциональная и большей частью динамичная драма без сложных философских нагрузок, зато с кучей сюжетных и психологических переплетений. Общее её построение, с точки зрения законов драматургии, более чем странное. Фактически в каждом акте нам рассказывают новую самостоятельную историю, а две пары равноценных главных героев лишь кое-как связаны между собой вторым актом. При этом влюблённая пара, на минуточку состоящая из брата и сестры и занимающая весь первый акт, к концу второго акта фактически сливается (в начале третьего акта лишь её женский персонаж появляется на сцене, чтобы спеть два небольших ариозо). Есть два отрицательных персонажа, приписанных по одному к каждой паре – они должны мотивировать все аморальности, совершаемые главными героями. На мотивацию каждому отрицательному отводится по одной сцене – к концу второго акта оба «нелюдя» тоже сливаются с концами. В третьем акте вторая пара героев разбирается между собой. До начала разборки на сцене выступает группа удивительных существ, не являющихся ни женщинами, ни людьми, но создающих ощущение Праздника Победы Феминизма – до момента, когда выясняется, что одна из феминисток накосячила. После чего вид остальных феминисток резко меняется на отчитываемых директором учениц средней школы. В роли директора – мужской персонаж второй пары, он же Вотан, он же Вельзе, он же отец вроде как всех находящихся на сцене школьных феминисток, включая главную, накосячившую. Вот только тонкостей этого всеобщего отцовства зрителю знать не нужно, он и так уже достаточно знает про Вотана-Вельзе, чтобы с полным основанием пожелать ему навернуться с какого-нибудь утёса. Однако вместо этого зритель рыдает в финале над отцовским катарсисом Вотана, как-то само собой простив ему убийство сына и оставление дочери в опасности, а это, между прочим, так полюбившаяся зрителю первая пара героев – ну и об остальных мелочах типа изгнания второй, героической и любимой, дочери мы даже не говорим.
Если это универсальная драма, то, очевидно, все драматурги до Вагнера занимались не своим делом. Хоть сколько-то собрать в кучу и оживить такой нестандартный для оперы сюжет уже было бы огромным достижением для всякого композитора. Вагнер же не просто оживил его, а поднял до уровня не вызывающей вопросов символичности и универсальности. Его героям можно всё, чего зрителю и сто пятьдесят лет назад, и сейчас было бы однозначно (и вполне справедливо) нельзя – и так же однозначно мы оправдываем их и сопереживаем им. Почему? Потому что практически всё, что они делают, они делают ради любви – не той по-человечески не забывающей оглянуться и прикинуть «за» и «против» любви, привычной большинству, а некой квинтэссенции страстной и деятельной любви, сносящей все преграды и условности. Мужчины и женщины, дети и родители, братья и сёстры – весь клубок отношений, опутывающий четырёх главных героев, рвётся к любви. Герои постоянно вынуждены делать выбор в пользу то того, то этого, что-то решать, менять эти решения, потому что в четырёх человеко-соснах уже невозможно не заблудиться – и во всех этих бегах и метаниях сияет им маяком на древе мира высшая цель.
Этот сиятельный эффект даёт музыка, две трети оперы на мощном божественном скаку перелетающая из одного волевого победительного мажора в другой, ещё более победительный, сквозь огненные борения и саспенсовые полутона – музыка молодости, открывающей и перекраивающей мир под себя, но настолько уверенной в себе, что экспансивность ей чужда. Чем проникается в конце концов и Вотан, которому – как самому опытному, многогранному и человекоподобному – она поначалу была не чужда. В драматическом развитии поданы образы всех главных героев, но Вотана, конечно, в наибольшей степени. При этом большие оркестровые зарисовки в «Валькирии» отсутствуют – есть плотно сомкнутая с вокальными линиями и несущаяся бурной рекой симфония по-вагнеровски, захватывающая по пути новые притоки. С драматургической точки зрения границы между актами «Валькирии» проведены достаточно жёстко, каждый из них можно рассматривать как отдельное произведение. Но с музыкальной – границ этому водовороту эмоций нет, бесконечная мелодия, ограняющая с сотен сторон основные лейтмотивы, сплавляет их в единый поток.
Эффектный текст в опере тоже есть – особенно это заметно в монологе Вотана, где слушателю дают передохнуть от музыкального водопада. Вот тут все аллитерации и ассонансы звучат и играют, в отличие от некоторых вельзунговых отрывков, где они не столь гармоничны. Вельзунги берут другим, их тексты намного более многослойные. О сути происходящего они почти не говорят прямо, используя больше какие-то воспоминания, рассказы и поэтические иносказания, накладываемые друг на друга, и давая слушателю возможность досообразить всё самому.
В на первый взгляд странном распределении текстовых ролей в «Валькирии» – когда люди более ярки и поэтичны, чем боги – есть глубокий смысл. Вотан с семейством – это боги, которых придумали и вознесли наверх люди. Эти боги и по сути, а не только в постановках современных режиссёров, есть сильные мира сего, опутанные договорами, правилами и условностями. Сам способ попадания на какой бы то ни было верх – финансовый, политический, интеллектуальный – есть торжество условности, максимального и сосредоточенного развития определённых качеств, которые, вообще-то говоря, хороши для человека в меру. Понятно, что такие персонажи не могут быть по-настоящему открытыми миру и поэтичными, но они могут красиво выражаться в некой условной формализованной системе, что и воплощает Вотан в основной своей (по времени) ипостаси. А молодым вдохновенным творцам собственной жизни система нужна в пятую очередь. Их сила не в разуме, а в чувстве, которое единственно и позволяет ощущать счастливую сопричастность всему живому, а не только и не столько человеческому общежитию. Впрочем, Вотан хорош и в чувственной своей ипостаси, которая может быть и не утрачена власть предержащим, хотя так бывает редко. Во всяком случае, Вагнер дал ему этот великий взлёт. По итогу речевые характеристики и поэтика у всех героев «Валькирии» получились вполне сильные и разные, и в музыку текст встроен так, что в этом гармоничном единстве никаких недостатков вообще не заметно.
«Валькирия» в целом хорошо подходит под вагнеровскую теорию гезамткунстверка за исключением упомянутых драматических особенностей и ещё двух моментов. До синтеза искусств, предполагаемого автором в третьем акте этого произведения, технические возможности театров за сто пятьдесят лет так и не доросли. И второе – арии солистов, особенно мужчин, в этой опере самоценны, как самоценен и Полёт валькирий, и Музыка Волшебного огня. Но слушаем мы «Валькирию», наверное, действительно не ради зигмундовского «Вельзе» и не ради прочих вокальных и симфонических красот, взятых по отдельности. Хотя по этим красотам и прочим чисто оперным составляющим «Валькирия» и взяла у нас в сумме то же первое место, что и в итоговом голосовании по операм, гармонично универсализировать такой неоперный сюжет только этими хитовыми составляющими было бы невозможно. Однако и неразделимым драматическим целым его, как уже говорилось, не назовёшь. Так что тут мы вынужденно вводим новую невагнеровскую градацию, которая, возможно, и есть наиболее объективная, смыкающая в одной точке оперу и гезамткунстверк. «Валькирию» же, помимо всех абстрактных рассуждений, действительно часто дают в концертах отдельными актами – первый или третий. И это очень показательно и полностью подтверждает рассуждения – вот такой она, значит, и есть актовый гезамткунстверк.
«Лоэнгрин», занявший в нашем итоговом голосовании второе место – опера во всех отношениях более традиционная. Вопросов по сюжету тут вагон и маленькая тележка, но я не буду на них подробно останавливаться. На сайте есть материалы эту тему, незачем повторяться. Что нужно сказать здесь – сюжет «Лоэнгрина» типично оперный, и все вызываемые им вопросы и недоумения это только подчёркивают. В драме такие бесконечные зрительские «почему» не прошли бы, но в опере они проходят, если позволяет музыка, а музыка Вагнера это позволяет.
Драматически живой и развивающийся персонаж в опере один – Эльза, Лоэнгрин очеловечивается ненадолго в середине второго и в дуэте третьего акта, остальные действующие лица сугубо условны. Музыка поднимает эти ходячие аллегории из низкого площадного фарса до символической трагедии. И всё это сопровождается активными комментариями народного хора, на пару с феерическим оркестром придающими рассказу беспрецедентно – даже для Вагнера – возвышенно-вдохновляющую интонацию . Делается это как будто бы в соответствии с теорией гезамткунстверка – с той опять же небольшой оговорочкой, что как драма это построение не могло бы существовать ни во времена Вагнера, ни в столь высоко чтимые им времена греческой трагедии. Логика «доверяй, но проверяй» неубиенна, во все времена истории о людях, не узнавших некоего посланца высших сил и взявшихся его проверять, рассказывались с изрядной долей сочувствия к не узнавшим. Во всяком случае, им никогда не полагалось из-за одного этого факта мгновенно умирать от горя – столь лёгкого обращения со смертью греческий хороший вкус не потерпел бы. Это может потерпеть только опера с её условностью в квадрате – при наличии, опять же, столь впечатляющих, как у Вагнера, финальных аккордов.
Не вписываются в теорию гезамткунстверка также ни припевные повторения текста в ариях-дуэтах, ни искусно нанизанные на хоры ансамбли солистов. Зато в опере всё это очень к месту. И парочка архитипических злодеев с за уши притянутыми мотивировками, и романтически затуманенная характеристика главного героя, который как бы человек, но как бы и не человек, в ней тоже к месту. И оказывающийся вдруг абсолютно человеческим дуэт Эльзы и Лоэнгрина с переходом от сладкой романтики к трагедии упрямого непонимания – тоже к месту, потому что музыкально он сделан совершенно убедительно, хотя как текст читается, мягко говоря, без удовольствия.
В общем, это очень красивая музыкальная история со смутной моралью, однако цепляющая каждого в отдельности фантастической возможностью быть Лоэнгрином – обладающим магической силой и магической же неприкосновенностью всех посторонних к его прошлому. Музыкой оперы человеческое и ирреальное, нежное и беззаботно боевитое, мечтательно-отрешённое и правильно-народное, подчёркнуто высокое и подчёркнуто низкое переплетены в эмоционально концентрированное, выстроенное в одну линию действо. Лишь в трёх ариях – Тельрамунда и Эльзы в начале и Лоэнгрина в конце – содержатся некоторые пояснения из прошлого, всё остальное происходит здесь и сейчас. При этом арии Лоэнгрина и Эльзы очаровательны, мелодичны, оперны на сто процентов и нисколько не затянуты, а даже наоборот, если мерить их обычной вагнеровской меркой. Во всех коллективно-вокальных и симфонических опросах «Лоэнгрин» тоже неизменно входил у нас в верхнюю тройку. То есть это практически идеальная опера со всеми типичными оперными атрибутами. Но и отличный образец гезамткунстверка тоже – только если понимать под этим не пункты вагнеровской теории, а универсальность в нормальном общем значении этого слова.
«Золото Рейна» – очень необычный кунстверк: в нём отсутствуют главные герои. Альберих, Вотан, Логе, Фазольт+Фафнер, Рейнские русалки как коллективный женский персонаж – все они имеют свои истории, но ни одна из них не является основной. А вокальные линии и лейтмотивы представляют нам, собственно, не героев, а некие значимые для дальнейшего построения тетралогии философские сущности – красота и любовь как цель, золото как проклятие человеческого рода, Вальгалла как капитальный символ эфемерности всякого планового иерархического строительства. Если посмотреть, во что эти лейтмотивы разовьются дальше, то в «Золоте Рейна» с музыкальной точки зрения не сказано и пол «а». Однако лёгкость, с которой Вагнер набрасывает в этом произведении маленькие музыкальные жемчужины в абстрактно-сказочном колорите, сдобренном изрядной долей сарказма, как видим, очаровывает многих.
Показательно, что в компонентных опросах «Золото Рейна» всю дорогу топталось за пределами ранжируемой тройки, но в конце уверенно обошло всех в голосованиях по ариям второстепенных персонажей. Такой сюжет, почти сплошь состоящий из фрагментарных зарисовок, мог бы иметь современный авторский фильм из категории «не для всех». Это точно не традиционная опера и, по большому счёту, не музыкальная драма, потому что невозможно чётко указать, с кем она происходит, кроме явно отрицательного героя. Под попунктовое вагнеровское определение универсального произведения искусства «Золото Рейна» тоже не подходит, да автор, кажется, и не имел в виду его самостоятельной роли в тетралогии. Тем не менее, через 150 лет именно эту её часть стали ставить отдельно от всего цикла, наряду с «Валькирией». По единственной причине – из-за её отчётливого социального пафоса, который можно назвать даже левацким и в этом смысле более всех вагнеровских опер соответствующим настроению «Искусства и революции» (за исключением «Зигфрида», который при не меньшей левацкости вызывает к ней меньше сочувствия)..
Большинство тех, кто назвал «Золото Рейна» любимой оперой, наверняка сказали бы, что вагнеровский немудрёный классовый запал и общественная проблематика не очень-то значимы для них и любят они это произведение за другое – за разнообразие не слишком длинных мелодий, за яркую и динамичную оркестровку, за мифологичность и оригинальность сюжета, не зацикленного на тяжести переживаний – то есть в целом за занимательность и адекватную скорость, с которой подаётся история. Но что-то подсказывает, что это не совсем продуманный и честный ответ и что олигархов – хоть состоявшихся, хоть начинающих – среди ценителей «Золота Рейна» нет. (Заметная разница нашего результата с невысоким английским по этой опере, наверное, по крайней мере наполовину объясняется именно исторической «нереволюционностью» англоязычной публики – в большинстве европейских стран позиция «Золота Рейна», скорее всего, оказалась бы повыше английской седьмой). И ещё что-то подсказывает, что поклонники этой оперы в основном мужчины. Которым нравятся резвящиеся без лишних психологических проблем, прелестные дочери Рейна. И которые, с другой стороны, наконец-то могут в своём мужественном феминизме вздохнуть спокойно, потому что здесь у Вагнера, слава тебе господи, наконец-то обошлось без женской жертвы, бессмысленной и беспощадной.
«Гибель богов» в восприятии наших вагнерианцев, наверное, наиболее отчётливо демонстрирует, что такое истинный гезамткунстверк по-вагнеровски и чем он отличается от оперы. Это мощное произведение с умеренно нестандартной драматической разработкой, большинство приёмов которой Вагнер использовал уже в других вещах, и с музыкальным выражением, эксплуатирующим по преимуществу разнообразные грани патетики, от семейно-домашней до сложно-философской. Вещь во многих отношениях полюсная, сочетающая стилизованные длинноты и сиятельные краткости, глубокую психологичность и диковатый на этом фоне сюжетный инструментарий. Проклятое кольцо то влияет на своих бесстрашных владельцев, то не влияет, а с чёрномагическим напитком Зигфрид забывает почему-то даже то, что чего забывать не должен, например, историю изъятия кольца у Брунгильды (вот уж воистину – напиться и забыться). Вероятно, всё это следует относить на счёт неисследованности взаимодействия магических сущностей. Как и органическое единство лишённых оперных красивостей вокально-оркестровых линий героев, проживающих жизненную драму, с симфоническими вершинами, поднимающими её до облаков, а местами и выше.
Здесь главные герои есть, их двое, они любят друг друга, и всё бы у них было хорошо, если бы они не были людьми. Они равнодушны к золоту как таковому, ярки и отважны, но их подводят мелкие слабости – по сути, обычная человеческая социальность, для которой золото всего лишь условная единица измерения. Можно что-то с этим поделать? Вагнеровский финал говорит – Да. Может быть. Когда-нибудь. Не в этой жизни. А вообще нужно ли? Если в этой жизни происходят такие прекрасные и великие истории, которые можно так потрясающе рассказать?..
Существуют десятки трактовок этой музыки в зависимости от мировоззрения и темперамента трактующих. И всегда она немного больше каждой из трактовок и намного больше их всех, вместе взятых. «Гибель богов» вообще не хочется анализировать изолированно от всего цикла – как отдельно взятое произведение она не лишена видимых драматических недостатков и не даёт полного представления о красоте музыкального развития вагнеровского замысла. Но как финал «Кольца нибелунга», сводящий воедино его сюжетные и музыкальные лейтмотивы – да ещё и с добавлением новых, это замечательная и единственная в своём роде вещь, в которой даже само определение «гезамтовости» получает новое, объединяющее и обобщающее развитие. Достигается это недвусмысленно за счёт партии оркестра. При самых средних результатах по сольным и ансамблевым составляющим «Гибель богов» – абсолютный симфонический чемпион наших опросов, и это в отсутствие увертюры. Насколько важна вокальная линия для передачи человеческих чувств, настолько же для передачи сложносочиненной философской проблематики важен оркестр. Столь серьёзное усиление его роли, как в «Гибели богов», не универсальный рецепт в написании музыкальных драм, однако в идейной квинэссенции «Кольца» это решение в вагнеровском виртуозном исполнении оправдало себя на 100 процентов.
В «Тристане и Изольде» вокально-симфоническая пропорция, к счастью, местами нарушена – на фоне чувственного оркестра главные герои выпевают слишком много квази-философии. К счастью, гезамткунстверка в «Тристане» не сложилось, потому что, если предположить, что он мог сложиться, судьба его была бы незавидна. Рассуждения Рихарда Вагнера о том, что спасти его шедевр может только плохое исполнение, иначе его запретят – отнюдь не кокетство, а просто не совсем верная оценка получившегося результата. «Тристан» не универсальная музыкальная драма потому, что сюжет, мораль и стиль его изложения изначально не универсальны – и автор отдавал себе в этом отчёт в части, касающейся смысловой провокативности, но не в части сложности, если не сказать, переусложнённости подачи материала. В общей разработке и разбивке «Тристана» по сценам нет ничего особенного, его построение совершенно нормально для камерной оперы. Но по нормальным законам ни опера, ни драма не могут затягиваться так, что половину времени там не происходит вообще ничего, кроме возведения словесных конструкций. Не универсален в «Тристане» не только странный, фактически – графомански многословный текст, но и специфический музыкальный язык – до предела расширенный гармонически и чрезвычайно чуткий, только не к тексту, а к породившему его глубинному мироощущению. Составленный же на поверхности словесно-музыкальный симбиоз на самом деле не всегда производит впечатление цельности и нераздельности. Если бы все эти неуниверсальности были приведены к какому-то более идеально выверенному и доходчивому драматически-музыкальному виду, то мы с большой вероятностью имели бы сначала запрет по предсказанному автором основанию, а затем внесённые им корректуры, призванные запутать запретителей, а заодно и зрителей. И это в лучшем случае, а в худшем – в связи с изменившимися воззрениями, некоего гибридного «Трифаля и Изундри».
Но – к счастью – ничего этого не произошло. И мы имеем стоящий особняком в истории оперы, выдающийся кунстверк в том виде, в каком он был написан композитором, одновременно постигавшим бездны страсти и шопенгауэровской теории мироздания. Здесь я, опять-таки, не буду по пунктам повторяться о том, что «Тристан и Изольда» написана не столько в соответствии, сколько в превосхождении этой теории – недаром вагнеровская история трансцендентного бунта двух возлюбленных имморалистов продолжала оставаться любимой вещью Фридриха Ницше даже в период его жесткой критики байротских заведений маэстро. Среди почитателей этой оперы вообще много самобытных и даже маргинальных творческих личностей, а просто продвинутых граждан она способна скорее абстрактно восхищать «на расстоянии», чем выносить мозг, на что, конечно, была претензия.
Если посмотреть по компонентам, «Тристан» – опера сольно-оркестровая. Хоров там практически нет, ансамблей тоже, дуэты вызывают вопросы, включая главный, во втором акте. Он был оценен пользователями достаточно высоко, но такого безусловного восторга, как Либестод Изольды, не вызывает. С точки зрения формальной логики, конечно, изумителен и такой результат – в отличие от вполне привычно по вагнеровским меркам выстроенного финала, диалог влюблённых длится невообразимые сорок минут, лишь дважды прерываясь короткими включениями Брангены. Однако эротичность этой музыки – истомно-вязкая, то мягко-обволакивающая, то воспалённо-нервная, то концептуально-возвышенная – зашкаливает, хотя герои говорят при этом не об эротике, а об экзистенциальном уходе в Ночь любви, где закончится мир и останутся только они двое. Из этого смешения «ощущаемого кожей» и проговариваемого словами рождается гипнотический эффект возможности невозможного И удивляющемуся собственному долготерпению зрителю не остаётся ничего другого кроме как поверить – либо в великую правду этого искусства, либо в его великую силу. Далее следует ещё одна не способствующая вере затянутая сцена с Марком, затем способствующее эффектное завершение акта, затем фантастическая по накалу сцена противостояния Тристана и объективного мира, тоже длинная, но уже практически не воспринимаемая как музыка и ещё меньше – как текст. Этот умопомрачительный танец на обнажённом нерве мироздания действительно вещь в себе, он не имеет отношения ни к опере, ни к универсальной музыкальной драме – во всяком случае если понимать универсальностью что-то человеческое, а не космическое. К финалу, благодаря небольшой драматической драчке второстепенных персонажей, зритель приходит в себя и с искренним меломанским и человеческим восхищением слушает музыкальную кульминацию оперы в исполнении Изольды, приводящей предшествующие американские горки к единому знаменателю: в правду этого искусства ты можешь не верить, но в силу – должен.
Однако этот вердикт не окончательный – в «Парсифале» историю предлагается переоценить заново. Его, как и «Тристана», непросто любить целиком без всяких «но», для этого тоже требуется определённый экзистенциальный опыт и, если опять же не вера, то готовность к ней. Потенциальная база почитателей тут по авторскому замыслу расширена не только за счёт ценителей христианских сюжетов, но и за счёт интересующихся буддизмом, и в современных условиях эта тема хорошо работает. Также хорошо работает и чисто музыкальная постановка вопроса – для полного погружения желающим предлагаются новые гармонические миры и поистине мистериальная оркестровка, сочетающая раритетно-религиозную полифонию и новаторские диссонансы.
Правда, в драматической разработке «Парсифаля» присутствуют два момента, весьма осложняющих такое полное погружение для всех остальных. Во-первых, это всё те же длинноты, в данном случае ещё и сконцентрированные у одного Гурнеманца. Признаки гезамтовости в характеристике этого персонажа просматриваются разве что во второй половине третьего акта – до этого ни строгой библейской красоты, ни буддистской образности, ни какой-нибудь другой поэтики в словах самого речистого героя «Парсифаля» нет. Он вообще, похоже, предполагался Вагнером не чистым рассказчиком, а реальным действующим лицом, но с этим не сложилось совсем. И понятно почему – Гурнеманц не любит никого, кроме Титуреля. Но Титурель второстепенный персонаж в этом сюжете, а для главных Парсифаля, Кундри и Амфортаса у Гурнеманца нет ничего, кроме призывов к толерантности и соображений, как пристроить их к делу поддержания Грааля. Вторая засада сюжета – это отсутствие положительного женского персонажа. Кундри и по тексту ближе к минусу, чем к противоречивости, а музыкально нарисована и вовсе с отчётливым преобладанием отрицательных тонов, что, понятно, не добавляет сюжету привлекательности и зрительской заинтересованности.
Несмотря на эти драматические пробелы, повесть граальского возрождения находит живой отклик в вагнерианских сердцах. Потому что два драматически живых и музыкально ярких героя там всё-таки присутствуют, потому что есть второй акт с очаровательными девушками-цветами и с пусть не универсальным, но эмоционально насыщенным дуэтом Парсифаля и Кундри, и главное – потому что оркестр и хор рассказывают собственно граальскую часть истории значительно лучше Гурнеманца. Симфоническую часть, хор и ансамбль выделили наши пользователи в «Парсифале» по ходу опросов – в этих составляющих и опера, и гезамткунстверк состоялись на 100 процентов, ни убавить, ни прибавить. Что же касается главного героя, то для такого Пути – от чистого простака через испытание и сострадание к служению и долгу – паузы между словами в рассказе и всегда важнее слов. Драматическое чутьё Вагнера тут великолепно проявилось в том, что Парсифаль в этом пафосном сюжете практически не говорит пафосно-высоких слов, а в финале и вовсе не говорит – за него это делает музыка, светло и человечно искупая словесную гордыню автора.
Ещё раз отметим напоследок, что более динамичные и мелодраматичные «Валькирия» и «Лоэнгрин» ушли у нас в финальном голосовании в некоторый отрыв от следующей более концептуальной четвёрки. Сложно сказать, следует ли считать это особенностью нынешней аудитории сайта или актуальным отражением состояния здешних умов, переутомлённых идеологическим загрузом. К сожалению, так и не удалось полностью восстановить картину голосования восьмилетней давности, из которой я помню только первое место «Валькирии», второе «Тристана и Изольды» и третье с конца «Лоэнгрина». Речь не идёт о том, что «было правильно, стало неправильно, деревья уже не такие зелёные и вообще при Лужкове такого безобразия не было». Просто изменения налицо, было всё немножко не так, и, наверное, следующему модератру сайта нужно будет ещё раз вернуться к этому вопросу через несколько лет, чтобы внести в него ясность.
НА ОЧЕРЕДИ
Дальше мы будем рассматривать музыкально-драматические сцены, сюжетно-текстовые составляющие и типические минусы вагнеровских кунстверков, которые, как мы убедились, не везде и не во всём универсальны по собственным критериям их автора. И хорошо, что это так – идеал, достигаемый энное количество раз одним и тем же путём, потерял бы половину своего качества как произведения искусства, всегда неоднозначного и изменчиво-личностного, и стал бы просто прекрасной авторской копией самого себя – независимо от правильности сформулированных критериев.
Больше спасибо всем участникам опросов на сайте, особенно – активным составителям и комментаторам:
Юлии Полежаевой (Monstera), Андрею Соколову (Fremder), Елене Хотиненко (Echo), Ольге Пановой (Olga), Татьяне Польской (Multilingua), Михаилу Бирюкову (kineskop), Олегу Сергееву (Ogner), Сеймуру Агаеву (Sejmur Schachinoghlu), Егору Булатникову (bulaguero86), Сергею Медведеву (Modus).
Надеюсь, по крайней мере те из них, кто на данный момент активен, продолжат своё участие в проекте, а также на появление новых заинтересованных пользователей и комментаторов.
27.02.2016
Regularities of perception of Richard Wagner's operas by Russian-speaking audience
© Copyright: wagner.su, 2016
Ссылка на сайт при использовании данного материала обязательна.
Вячеслав Власов. Рихард Вагнер и великая княгиня Елена Павловна
К 155-летию гастролей Рихарда Вагнера в Санкт-Петербурге
Морозный февраль 1863 года. Невысокого роста немец в берете, укутанный в поношенную шубу, прибыл в Санкт-Петербург с мечтой поразить публику своей музыкой и встретиться с «самой милой и приятной княгиней, которую когда-либо знал». Как сложилась бы судьба Рихарда Вагнера, будь тогда русская княгиня более благосклонна к великому композитору?
.preview.jpg)
ЗНАКОМСТВО С «МАДАМ МИШЕЛЬ»
«На первом плане здесь – Великая княгиня Елена. Мне представляется, что она окажет огромное, решающее влияние на всю мою оставшуюся жизнь» (из письма Вагнера, 9 марта 1863 года).
Рихард Вагнер встретил 1863 год – год своего пятидесятилетия в привычном для композитора состоянии: в грандиозных творческих планах и долгах. В мечтах о постановке на сцене давно оконченной оперы «Тристан и Изольда» и о покупке дома в Германии. Для реализации планов не хватало лишь найти щедрого покровителя или организовать несколько концертов с хорошим гонораром.
Баварский кронпринц Людвиг к тому времени уже глубоко проникся вагнеровским «Лоэнгрином», но еще не спешил предложить композитору материальную помощь. А из интересных приглашений выступить с концертами осталось всего одно, от Петербургского филармонического общества, дожидавшегося ответа несколько лет.
Пианистка Мария Калерджи, хорошая знакомая Вагнера, рассказала ему о русской княгине Елене Павловне, урожденной принцессе Вюртембергской. Вдова младшего сына Павла I - Великого князя Михаила славилась тем, что поддерживала современное искусство, и в душе композитора зародилась надежда на знакомство с Великой княгиней и на ее возможное покровительство.
Молниеносно запросив и получив от Петербургского филармонического общества аванс за три концерта, Вагнер укутался во взятую напрокат подержанную шубу, надел свой любимый берет и отправился поездом в морозный, заснеженный, теперь обещающий гораздо большее, нежели несколько тысяч рублей серебром, Санкт-Петербург.
Великая княгиня Елена Павловна, или «мадам Мишель», как шутливо называли ее в царской семье, была действительно незаурядным человеком: блестяще образованной женщиной, ярым сторонником либеральных реформ и отмены крепостного права, учредителем больниц, детских приютов, медицинских училищ.
Она выделяла свои собственные средства для создания Русского музыкального общества и Петербургской консерватории, патронировала их. Классы консерватории располагались в ее дворце. Княгиня слыла известным меценатом, помогавшим многим писателям, художникам и музыкантам.
После смерти мужа Елена Павловна устраивала в Михайловском дворце вечера, на которых собирался весь цвет интеллигенции Петербурга. Формально хозяйкой вечеров считалась фрейлина княгини - баронесса Эдита Федоровна Раден, а сама Елена Павловна появлялась на них как гостья. Именно на один из таких вечеров и мечтал попасть Рихард Вагнер, надеясь, что княгиня заметит его и захочет познакомиться поближе.
Но, откровенно говоря, Вагнер в то время был не настолько популярен в России, чтобы удостоиться приглашения к княгине. Ни одна из его законченных опер («Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин») еще не была поставлена в Петербурге, хотя все они шли на сцене рижского театра. Публика знала несколько симфонических отрывков из его произведений, и лишь музыковедам были знакомы его литературные труды о музыке будущего.
Работу Вагнера в рижском немецком театре в 1837-1839 годах и написанный им в то время гимн «Николай» на коронацию Николая I в столице забыли. Но о его участии в Дрезденском восстании 1849 года и о дружбе с Михаилом Бакуниным здесь помнили очень хорошо. Поэтому, еще не успев ступить на российскую землю, композитор попал под наблюдение тайной полиции. В этих обстоятельствах Вагнеру могли помочь только надежные рекомендации.
Уже упомянутая Мария Калерджи отрекомендовала Вагнера композитору Антону Рубинштейну, которому покровительствовала Великая княгиня. Личный врач Вагнера попросил своего приятеля, доктора Елены Павловны, замолвить слово о композиторе перед баронессой Раден. В результате, 22 февраля 1863 года Рихарда Вагнера пригласили на вечер в Михайловский дворец, где он был представлен сначала баронессе, а потом и самой Великой княгине.
Елена Павловна была наслышана об успешном первом концерте Вагнера в Зале Дворянского собрания 19 февраля 1863 года. За последние три дня Петербург наполнился слухами о странном немце, виртуозно дирижировавшем наизусть, обеими руками, повернувшись лицом к оркестру, что было весьма необычно для русской публики. И вот этот странный немец, завершивший свой концерт исполнением на бис «Боже, Царя храни!», стоит перед ней.
Великая княгиня завела светскую беседу о гастролях композитора и его творческих планах, а Рихард Вагнер с упоением рассказывал ей о том, что привез для петербургской публики фрагменты еще не оконченной тетралогии «Кольцо Нибелунга» по своей собственной поэме. Елену Павловну заинтересовало содержание оперы, и она пригласила Вагнера на чай в узком кругу, пожелав, чтобы композитор сам прочел ей либретто.
ПЕРВОЕ ЧАЕПИТИЕ В МИХАЙЛОВСКОМ ДВОРЦЕ
«Уже одно лицо ее совершенно пленило меня, и я надеюсь, что мне пришлют ее портрет. Если бы эти люди не жили в таком ужасном климате, то я наверно переселился бы туда, чтобы быть с Великой княгиней» (из письма Вагнера, март 1863 года).
Эти мысли не выходили у композитора из головы после приема у Великой княгини во время вечерней прогулки от Михайловского дворца к дому 38 по Невскому проспекту, где он остановился в немецком пансионе. Княгиня пленила его своими манерами, образованностью, умом. Она уже почти 15 лет носит траур по своему супругу, но по-прежнему красива. И что самое главное, за время непродолжительной беседы она смогла понять, каким новым словом в искусстве является его «Кольцо Нибелунга»! Или же ей стало просто любопытно?
Как неловко получилось, думал Вагнер, княгиня просит его лично прочесть ей либретто, а текста в Петербурге как раз и нет; боясь проблем на таможне, композитор не взял его с собой. Несколько сотен метров прогулки даются ему с трудом: лицо обдувает пронизывающий мокрый ветер, словно специально оттягивающий нетерпимо долгий момент, когда можно будет приказать жене немца – управляющего пансионом телеграфировать в Лейпциг срочное поручение отпечатать и выслать в Михайловский дворец текст поэмы.
Еще во дворце Вагнер сообразил, что будет гораздо быстрее доставить из Берлина в Петербург либретто «Нюрнбергских Мейстерзингеров», его, по крайней мере, не нужно отпечатывать. Спасибо фрейлине Раден, что уговорила свою госпожу сперва устроить чтение «Мейстерзингеров». Да и сама баронесса Раден оказалась «женщиной большого ума, широко образованной и добропорядочной; одного лишь знакомства с этой дамой было бы довольно».
Итак, надо подождать несколько дней, как раз пройдет второй концерт в Зале Дворянского собрания. Елене Павловне, несомненно, сообщат о том, что господин Вагнер поразил публику исполнением симфоний Бетховена, а также фрагментов из «Валькирии», Вступления и Смерти Изольды из «Тристана и Изольды», впервые прозвучавших вместе именно тогда в Санкт-Петербурге, и отрывков из самих «Мейстерзингеров», дата чтения либретто которых была назначена в Михайловском дворце на 1 марта 1863 года.
В «узкий круг» собравшихся в тот вечер послушать текст оперы, помимо Елены Павловны и баронессы Раден, входили Великая княгиня Мария Николаевна, фрейлина Елена Стааль и почтенных лет генерал – друг семьи. Великая княгиня слушала с интересом и очень внимательно, старичок – генерал дремал, а Мария Николаевна, известная своими амурными похождениями, до конца чтения переживала, как бы героиня оперы Ева не вышла замуж за старого башмачника Ганса Закса.
Настроение у всех было самое благодушное, и Вагнеру было даже позволено проводить среди ночи фрейлин Елены Павловны в их покои по бесчисленным коридорам дворца. Все условились собраться еще раз, как только придет с посыльным либретто «Кольца Нибелунга».
Долгожданное либретто, наконец-то, было доставлено, и «узкий круг» наметил дату следующего чаепития, 6 марта 1863 года, сразу после бенефисного концерта Вагнера в Большом (Каменном) театре, во время которого он впервые должен был исполнить «Полет валькирий», переведенный на русский язык в афише как «Заоблачная скачка валькирий».
Подготовка к концерту вымотала композитора: его силы были на исходе, в результате многочисленных сложных репетиций с певцами пропал голос, все это усугубилось простудой на фоне сурового петербургского климата. Посетившая бенефис баронесса Раден заметила, что дирижировать больным и без голоса Вагнер еще может, но прочесть либретто Великой княгине уже не в состоянии, тем более что на следующий день ему нужно выезжать на гастроли в Москву.
Баронесса уговорила Елену Павловну отменить вечернее чаепитие и согласиться с просьбой Вагнера о переносе начала чтения «Кольца Нибелунга» на 20 марта 1863 года. Вагнер обещал вернуться в Петербург на неделю «просто как обычный человек, а не концертант» и посвятить это время обществу Великой княгини.
«И какое счастье было бы, да-да, как я уверился бы в осуществлении главного из всех моих желаний, если бы Ее Императорское Высочество соизволила бы в этот период времени безо всякого стеснения располагать моим скудным дарованием», - этими строчками, отправленными баронессе Раден, он простился с Санкт-Петербургом на две недели.
ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ ОПЕРЫ – ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ
«Мне достаточно осознавать, что женщина, обладающая одухотворенностью и могуществом нашей Великой княгини, относится ко мне с истинным пониманием. Вот тогда я чувствую себя защищенным, зная, что не пропаду бесследно» (из письма Вагнера, 2 апреля 1863 года).
Москва погружает Вагнера в депрессию. Его раздражает все: зима, постоянные простуды, заставляющие его отменить свой первый концерт и провести несколько дней в постели в гостинице, затем сумасшедшая спешка – нужно отрепетировать и дать три концерта в короткий срок. Раздражают непонятная публика в роскошных нарядах в Большом театре, неслаженный оркестр, несуразные певцы. Никакого сравнения с Петербургом, где Вагнер действительно почувствовал себя триумфатором.
Сама Москва его веселит, напоминая не то большую азиатскую деревню, не то видения из сказок «Тысячи и одной ночи», а необходимость постоянно принимать гостей и самому отправляться на приемы в полубольном состоянии угнетает. Зачем все это? Понятно зачем, чтобы быстрее купить домик в Германии. Вся поездка в Россию обещает принести Вагнеру около 10 тысяч рублей серебром (примерно 200 тысяч ЕВРО в современных деньгах). Он никогда еще не держал в руках столько денег, за это можно потерпеть и Азию, и простуду!
Но если постоянно зарабатывать деньги нужно именно таким тяжелым способом, Вагнер не готов к этому. Вот если бы была возможность каждый год несколько месяцев гастролировать в Петербурге и даже в Москве, а оставшуюся часть года тратить заработанные деньги на отдых и на завершение «Нюрнбергских Мейстерзингеров», «Зигфрида» и «Гибели богов»! Согласится ли Великая княгиня стать его покровительницей, выделит ли она средства на постановку «Кольца Нибелунга»?
Да, «Нибелунги»… Их нужно как можно скорее прочесть Елене Павловне в этом чудесном салоне в Михайловском дворце. Как жаль, что в «Кольце Нибелунга» всего четыре части, а то вечеров у княгини могло бы быть больше. Сказать ей прямо о зародившихся планах не позволяет этикет, надо непременно посоветоваться с баронессой Раден.
«С какой радостью стремлюсь я к этой редкостной княгине приблизиться! Истинной целью и сутью своего северного путешествия я считаю то время, которое она уделит мне для служения ей», - Вагнер вывел корявым почерком строки, предназначенные не столько для фрейлины, сколько для прочтения Великой княгиней. По части лести его было трудно превзойти. И сразу же начал писать записку своей приятельнице Матильде Майер: «Только теперь проясняется, что именно сулит мне знакомство с Еленой Павловной. Надо вести себя умнее и практичнее». Отдав письма посыльному, композитор задумался, как ему следует поступить дальше.
Прибыв 20 марта в Петербург, Рихард Вагнер узнал, что его планы побыть в городе просто туристом сильно откорректированы. В дополнение к уже согласованному его участию 21 марта в бенефисном концерте Карла Шуберта в Большом (Каменном) театре, друзья просят Вагнера провести 2 апреля прощальный концерт в Зале Дворянского собрания, но обещают не слишком большой кассовый сбор из-за Пасхальных праздников. Елена Павловна просит его дирижировать 5 апреля благотворительным концертом под ее патронажем в пользу заключённых в тюрьму должников.
Композитор соглашается в надежде увидеть княгиню на одном из этих концертов, передавая ей через баронессу Раден, что иначе «концерт станет для него лишь в тягость». Но Елена Павловна простужена, в свет не выходит, концерты не посещает, хотя и соглашается начать чтение «Кольца Нибелунга» 24 марта 1863 года.
Получив это известие, Вагнер безо всяких вступительных лестных слов пишет баронессе Раден: «Вот это радость! Господи, где же нашему брату найти нужные слова и звуки, ведь не вскормлены мы амброзией и нектаром – чудодейственными яствами, что греки уготовили своим богам. Вот видите, я совсем сбит с толку, как это бывает от экстаза! Так узнайте же меня, мои дорогие, и почувствуйте, как я нуждаюсь в пище богов. И тогда она выпадет и на мою долю!»
При встрече 24 марта Вагнер абсолютно откровенно заверил Великую княгиню в том, что во время своей московской поездки он изрядно соскучился по Санкт-Петербургу и каждый день ждал весточек от баронессы Раден о состоянии здоровья Ее Императорского Высочества.
Умолчав об ассоциациях с Азией и с большой деревней, композитор рассказал о своих прогулках по Москве, о встречах с Николаем Рубинштейном, руководителем опекаемого княгиней Русского музыкального общества, и с князем Одоевским, и даже рассказал услышанный про себя самого в Москве анекдот. Мол, пришедший на его концерт в Большой театр торговец, решительно ничего не понимавший в музыке, изумился: «Боже, какое чудо! Как это получается у господина Вагнера с его крохотной палочкой? Ведь у меня всего пять продавцов, и то, сколько с ними хлопот, а он так хорошо управляется со стапятьюдесятью служащими!»
О концертах Вагнер говорил с большой гордостью: Большой театр рукоплескал после каждого исполненного фрагмента из его опер. Московская публика услышала гораздо меньше вагнеровской музыки, нежели петербургская, но в Москве прозвучал один новый фрагмент, который Вагнер представит в столице лишь через неделю: свадебный марш из «Лоэнгрина». Исполнить его на рояле, а тем более напеть, Вагнер вежливо отказался, но пригласил всех на концерт через неделю, а затем начал чтение «Кольца Нибелунга».
Декламация либретто в салоне Великой княгини растянулась на четыре вечера. Наконец, поэма была осилена. Несмотря на недомогание, Елена Павловна не пропустила ни одного вечера, слушала, по словам самого композитора, с большим вниманием, затаив дыхание. Впоследствии Вагнер писал об этих вечерах: «Хотя на таких вечерах я и чувствую себя стесненным, но должен признаться, что они были самым удачным завершением моих выступлений и успехов в России. Когда я вспоминаю всю проявленную княгиней заботу обо мне, у меня является глубочайшее желание быть ей каким-либо образом полезным, стать верным ее слугой до конца моей жизни».
Между строк проскальзывают мысли, не дававшие Вагнеру покоя в течение этих четырех вечеров. Поразил ли он княгиню, прониклась ли она всей серьезностью его поэмы, будущего оперного шедевра? Ведь он исполнял отрывки из «Кольца Нибелунга» в Петербурге, а княгиня не пришла ни на один концерт, несмотря на приглашения композитора и специально сделанные для нее Вагнером от руки пометки на полях программок о сюжетах этих фрагментов.
И баронесса Раден, и Антон Рубинштейн, конечно же, сообщили ей, какой блестящий успех эти концерты имели у публики. Может быть, она захотела послушать вагнеровскую музыку приватно во Дворце, не зря же фрейлина спрашивала Вагнера, какой величины оркестр ему потребуется в небольшом помещении? Обидно, если это было просто любопытство.
В вечер последнего чтения 7 апреля 1863 года, глядя Великой княгине в глаза, Вагнер искал ответ на самый главный для него вопрос: что она решила в отношении его будущего? Несомненно, благороднейшая баронесса Раден рассказала ей самым деликатным образом о желании композитора периодически возвращаться в Петербург с концертами за хороший гонорар. Вагнер просил фрейлину помочь ему выглядеть достойно в глазах княгини.
Умная Елена Павловна все понимала о денежной составляющей этого желания, ведь не зря же она интересовалась не очень удачными кассовыми сборами бенефисного концерта композитора. Она знала о согласии филармонического общества с проведением новых концертов Вагнера в Петербурге на следующую Пасху, требовавшем, однако, ее одобрения.
Вагнер не смог прочесть ответ в глазах Великой княгини отчасти потому, что был вынужден отводить от них взор, боясь, чтобы его прямой взгляд не выдал глубокую симпатию, которой он проникся к этой очаровательной женщине за последние несколько недель. А нарушить этикет и напрямую задать вопрос члену царской семьи композитор был не вправе.
Что ж, если нужно выслушать приговор из уст баронессы Раден, Вагнер был внутренне готов к этому. Но это будет завтра, а пока, осыпанный комплиментами и благодарностями Ее Императорского Высочества, раскланявшись, Рихард Вагнер покинул Михайловский дворец. Он чувствовал растерянность и искреннюю грусть, ведь он может больше никогда не увидеть «самую милую и приятную княгиню, которую когда-либо знал». Несмотря на промозглый ветер, в тот вечер он долго бродил по Михайловской площади, вглядываясь в тусклый свет в окнах парадной гостиной оставшегося за его спиной дворца.
ПОВЕРЕННАЯ В ДЕЛАХ КНЯГИНИ И ВАГНЕРА
«Это цельная и одаренная натура с благородным характером, прекрасно воспитанная. Она стала мне очень дорога». «Интерес ее ко мне заметно возрастал. Она словно чувствовала, что для меня надо было сделать нечто более весомое, чем все то, что можно было бы ожидать от ума и характера ее госпожи» (из письма и воспоминаний Вагнера).
Какой занимательный сюжет оперы, – думала баронесса Раден, – прямо как у нас сегодня на вечере: бог Вотан спускается в недра земли к богине мудрости Эрде, вопрошая ее о своей судьбе. Так и наш господин Вагнер наведался к Елене Павловне. Вотану Эрда ничего не сообщила, отправила к Валькирии Брюнгильде. Придется мне завтра быть Валькирией, - заключила баронесса.
Эдита Федоровна прекрасно понимала, что Рихард Вагнер – новое явление в музыкальной истории. За два неполных месяца весь просвещенный Петербург признал его гениальное дирижерское искусство. А те, кто ругали его как композитора, рисовали на него карикатуры, смеясь над вагнеровской «музыкой будущего», сами вызывали у нее усмешку. Жаль, что салон Михайловского дворца не может вместить всех этих критиков, узнали бы «Кольцо Нибелунга» не по газетным статьям!
Концерты Вагнера, и вправду, были потрясающими, фрейлина Раден знала это не понаслышке. Ее поразила музыка из «Тангейзера», и баронесса вместе с остальной публикой аплодисментами просила маэстро исполнить на бис увертюру к «Лоэнгрину». Обрусевшая немка услышала в этой музыке нечто родное, не свойственное творениям русских композиторов. Как жаль, что Елена Павловна, тоже немка по рождению, не смогла посетить эти концерты.
Вагнер талантлив, но он, конечно же, льстец – думала баронесса. Не проходит и дня, чтобы он не написал ей письма «с величайшим почтением» и с просьбой к «высокочтимой», «всемилостивейшей» и «дражайшей» фрейлейн похлопотать за него перед княгиней, на описание существующих и воображаемых достоинств которой он не жалел пера. Как бы Эдита Федоровна хотела помочь, но поди разбери, что Вагнер хочет!
Когда он неоднократно просил позволения ежегодно повторять свои концерты в Петербурге, и баронесса, и сама Елена Павловна намекнули ему, что не возражают, пусть ждет приглашения от филармонического общества. Казалось, вопрос решен однозначно, но Вагнер не успокаивался и выдвигал одну сумасшедшую идею за другой.
Сперва, обещая за три года сделать петербургский оркестр лучшим в мире, Вагнер просил взять его на службу в дирекцию императорских театров в качестве дирижера с фиксированным годовым содержанием. При этом работать больше двух месяцев в году он не собирался. Не в характере Великой княгини выбрасывать деньги на ветер, и фрейлина вежливо намекнула композитору, что его просьба по сути мало отличается от уже оговоренных ежегодных концертов, обещавших, как показали гастроли этого года, хорошие кассовые сборы.
Затем Вагнер просил дать ему любую должность, спокойную комнату, пропитание, обслуживание и карманные деньги, чем вызвал у баронессы Раден недоумение. Вагнер был нужен миру как великий композитор, а не как дворцовый клерк. И вот, полученное сегодня письмо все разъяснило: подробно описав планы на строительство дома в Германии, композитор честно признался, если он потратит на это все заработанные в России деньги, ему просто не на что будет жить и творить свои оперы.
Вагнер предельно откровенен, он не видит иной возможности реализовать свой талант без покровительства коронованного мецената. И сам он пребывает в затруднении: отказываться ли от затеи с постройкой дома, и может тогда полностью переехать в Россию? Эта откровенность заставила баронессу задуматься.
Ее госпожа, пусть и была Вюртембергской принцессой по происхождению, всю жизнь после замужества вела себя как истинно русская княгиня и поддерживала нуждающиеся русские таланты. Без нее не состоялись бы композитор Антон Рубинштейн, художники Карл Брюллов и Иван Айвазовский, в Россию не были бы привезены полотна Александра Иванова; эти примеры можно продолжать. Великая княгиня не желала изменять своим принципам, но и сразу отказывать Вагнеру тоже не хотелось.
В результате две дамы решили этот вопрос отложить, а Вагнеру посоветовать сохранять надежду. Но сегодня вечером об этом никто даже не обмолвился, в парадной гостиной Михайловского дворца внимание всех собравшихся было приковано к либретто «Смерти Зигфрида», завершающей части «Кольца Нибелунга».
Наутро баронесса Раден, вооружившись доспехами дворцовой Валькирии – пером и бумагой – отправила Вагнеру лаконичную записку: «Стройте дом и надежды не теряйте», приложенную к подарку от княгини. Елена Павловна передала ему свой портрет и 1,000 рублей серебром из ее собственных денег (примерно 20,000 ЕВРО в современных деньгах) в знак благодарности за бесплатное выступление на концерте в Зале Дворянского собрания в пользу должников, содержащихся в заключении, прошедшем под ее покровительством. Баронесса Раден подумала, что вечно пребывающий в долгах Вагнер оценит этот жест княгини.
Ответ не заставил себя долго ждать. Рихард Вагнер премного благодарил и сообщал, что немедленно отдает распоряжение о покупке земельного участка под Берлином. «22 мая, – написал он, – будет днем моего пятидесятилетия. Смогу ли явиться в этот день на мою последнюю отчизну, в мое рабочее пристанище? Не слишком ли я опрометчив? Правильно ли я понял дорогих мне дам? Если я не ошибся, то признаю истинно божественную природу княжеской власти и почитаю ее. Не нахожу слов, чтобы высказать, как глубоко я растроган ожидаемым благодеянием. Все, на что я способен, что создаю, должно принадлежать Высокочтимой особе. Скажите же ей, с каким чувством я покидаю Петербург!»
На пограничной станции Вагнер получил телеграфный ответ баронессы: «Опрометчивы не слишком». Импульсивный и прямолинейный композитор расценил этот ответ как вежливый отказ Елены Павловны. Зря он уже написал всем друзьям, что его петербургские дела практически решены, и даже озвучил количество концертов и запланированный гонорар на три года вперед. В одночасье рухнули надежды на обретение «последней отчизны» и возможность «смиренно припасть к стопам Ее Императорского Высочества».
БАВАРСКИЙ КОРОЛЬ ОКАЗАЛСЯ ЩЕДРЕЕ
«В Вашем благородном кругу я получил надежду на ту возможность, которой так божественно прекрасно было суждено осуществиться» (из письма Вагнера баронессе Раден, 1864 год).
Вагнер не поверил словам Великой княгини о том, что не стоит терять надежды. Самовлюбленный гений решил, что в Петербурге его больше не ждут. Спустя несколько лет он выплеснул свое раздражение высокомерным тоном, которым описал Елену Павловну в мемуарах. Хотя, судя по его письмам после встреч с княгиней, он испытывал к ней совершенно другие чувства.
Дом в Германии Вагнер так и не купил, а все заработанные в России деньги прокутил за год. Как раз к тому времени Людвиг II, обожавший сюжеты его опер, вступил на баварский престол. Король подружился с Вагнером и финансировал все его оперные постановки. Не без доли язвительности Вагнер написал об этом баронессе Раден (а по сути, Великой княгине), намекая, что у Елены Павловны тоже был шанс, но она его упустила.
Спустя еще два года Вагнер, наконец, получил приглашение на гастроли в Петербург, но вежливо отказался, ссылаясь на большое количество работы в комфортных условиях, обеспеченных ему королем. «Я упросил своего высокопоставленного покровителя, правящего короля Баварии, в качестве особого свидетельства глубины Его взглядов позволить мне в течение ряда лет в полном уединении в отдаленном сельском доме в Швейцарии сосредоточиться только на завершении различных уже намеченных мной произведений», - писал он Филармоническому обществу в Петербурге в 1866 году.
Больше в город на Неве композитор никогда не возвращался, хотя часто с теплотой вспоминал свое северное путешествие: теплый прием публики и оркестра, а также огромную сумку с наличными деньгами – гонораром. Das ist Russland, - добавлял он при воспоминаниях об этой сумке. А друзьям говорил, что если когда-нибудь и покинет свое насиженное гнездышко, то только ради еще одной поездки в Россию.
Великая княгиня Елена Павловна следила за новостями об успешной постановке «Нюрнбергских Мейстерзингеров» в Мюнхене в 1868 году. В том же году она посетила премьеру оперы «Лоэнгрин» в Мариинском театре, постановкой которой Вагнер руководил дистанционно через своего русского друга Александра Николаевича Серова. О чем думала она, сидя в тот вечер в великокняжеской ложе театра? Может быть о том, что русская княгиня стала первой царственной особой, которой великий композитор декламировал либретто своих новых опер? Мы этого никогда не узнаем.
***
Цитаты из писем Рихарда Вагнера приведены по книге Сапонова М. А. «Русские дневники и мемуары Р. Вагнера, Л. Шпора, Р. Шумана».
Вячеслав Власов. Воссоединение на берегах Даугавы
«Воссоединение на берегах Даугавы» – рассказ о становлении в 1837 – 1839 годах в Риге характера тогда еще молодого, а теперь всемирно известного композитора Рихарда Вагнера. В моем повествовании переплелись семейные драма и счастье; тяжелый быт и муки творчества начинающего маэстро, его безграничный талант, целеустремленность и огромная сила воли, благодаря которым Вагнер навсегда останется на вершине мирового музыкального олимпа.
Посвящается 180-летию со дня вступления Рихарда Вагнера в должность капельмейстера Немецкого театра в Риге в августе 1837 года.

ГЛАВА I. ВЕНЧАНИЕ В КЁНИГСБЕРГЕ
Эта история началась 24 ноября 1836 года в Трагхаймской церкви старинного немецкого города Кёнигсберг, когда перед алтарем разругалась венчавшаяся пара. Симпатичная актриса местного драматического театра Христина Вильгельмина Планер изо всех сил толкнула в бок своего жениха – начинающего композитора и дирижера Рихарда Вагнера, замечтавшегося во время свадебной церемонии и забывшего надеть обручальное кольцо на руку своей молодой жене.
Вагнер и правда задумался; мысли перенесли его на два с половиной года назад, в лето 1834 года, на немецкий курорт, где он впервые встретил эту молодую, пусть и на четыре года старше его, красивую и неприступную женщину. Чуть позже он узнал, что Минна, став жертвой насилия в подростковом возрасте, теперь воспитывала дочь, которую выдавала за младшую сестру. С тех пор, помимо влечения к этой женщине, Рихарда не покидало стремление защитить ее, оградить от всей жестокости бренного мира. Они часто встречались в Магдебурге, где оба жили, но Вагнеру потребовалось несколько лет, чтобы осознать желание соединить с Минной свою нелегкую судьбу.
Осенью 1835 года Минна уехала на затяжные гастроли в Берлин, где успешно исполняла роль Эсмеральды в спектакле «Собор Парижской Богоматери» по роману Гюго. В душе Вагнера «разыгралась настоящая буря», он понял всю глубину своих чувств к Минне, попросил ее вернуться и впервые заговорил о женитьбе. «Моя дорогая и единственная, – писал он ей, – вынесу ли я твое отсутствие? Ты стала частью меня, и без тебя я чувствую, как будто лишился части себя».
Перед Минной, выросшей в очень бедной семье и вынужденной самостоятельно зарабатывать на жизнь, стоял тяжелый выбор: остаться рядом с любимым – постоянно пребывающим в долгах молодым композитором, или принять приглашения провинциальных театров, обещавших примадонне интересные и денежные роли. На этот раз приглашение пришло из театра в Кёнигсберге; без радости она выбрала заработок, и, оставив своего возлюбленного в Магдебурге, отправилась в путь. Вагнер вспомнил свою тоску и их полную страсти переписку того периода, а также настойчивость, с которой его пассия поставила жесткое условие кёнигсбергкому театру: она отказалась подписывать постоянный контракт до тех пор, пока театр не пригласит Рихарда Вагнера на должность капельмейстера. Милая Минна делала все, чтобы помочь ему и ускорить их воссоединение.
Им обоим, посвятившим свою жизнь искусству, уже в молодости пришлось перенести множество испытаний: нужду, бедность, голод, неустроенность, невостребованность, постоянные переезды в поисках театров, способных оценить и, в буквальном смысле слова, купить их талант. Почему бы через дальнейшие испытания им не пройти вдвоем? Они страстно любили друг друга, Минна верила в композиторский талант Рихарда, даже помогла ему советами, как более естественно выписать женские партии для его новой оперы «Запрет любви».
У Вагнера больше не было сомнений: он уедет к Минне в Кёнигсберг в июле 1836 года, как только закончится театральный сезон в Магдебурге. Он предстанет перед своей возлюбленной настоящим композитором, только что первый раз в жизни поставившим на сцене свою оперу («Запрет любви»), бросится ей в объятья и поведет ее под венец. Вагнер мечтал, как Минна сменит «невзрачный домишко на бедной, захолустной улице, где она нашла себе прибежище» на добротно и со вкусом обставленную им квартиру, и мысленно выбирал своей будущей жене самое лучшее подвенечное платье.
В предсвадебный день вместо девичника и холостяцкой вечеринки жених и невеста устроили бенефис в театре. Вагнер дирижировал оперой Обера «Немая из Портичи». В ней Минна исполняла пантомимную роль Фенеллы – рыбачки, над которой надругался сын короля Неаполя, бросающейся в конце действия с балкона на скалы. Пусть это не самый подходящий сюжет перед венчанием, но спектакль был тепло принят публикой и принес хороший гонорар, как раз необходимый для оплаты свадебного ужина. Поздно вечером Рихард украсил цветами брачное ложе в снятой им новой квартире и лег спать на жесткой, холодной кушетке, сладостно ожидая завтрашнего начала нового семейного счастья.
Воспоминания чередовались одно за другим, словно во сне. У стоявшего перед алтарем Вагнера в голове все перемешалось: блестящие от радости глаза Минны и доставка сундуков с ее имуществом; восхищенные взгляды, обращенные на Минну всеми собравшимися в переполненной, освещенной ярким солнечным светом церкви и книги с текстами законов, в которых обязательно нужно разобраться. По законам Кёнигсберга (Пруссия) Вагнер был еще несовершеннолетним и не мог вступить в брак без согласия родителей, которого не было. О помолвке он объявил в своей родной Саксонии, где уже считался совершеннолетним. Следовательно, Пруссия должна признать помолвку и дозволить венчание без родительского одобрения. Вот только как быть с кредиторами? Вагнер надеялся оградиться от них в Кёнигсберге, ссылаясь на свое несовершеннолетие и неспособность отвечать по своим обязательствам по прусским законам. А если они узнают о его венчании, то есть о фактическом совершеннолетии, не подадут ли на него в суд?
Кошмарный полусон прервался в тот момент, когда Рихард Вагнер почувствовал удар локтя Минны в бок. Жених полностью очнулся и понял, что он вовсе даже не в зале суда, а в церкви, и что настало время отвечать «согласен». Изумленному пастору ничего не оставалось, как с укором напутствовать молодоженов: в тяжелые времена в их жизни появится неведомый им пока друг. Увидев замешательство на лице Вагнера, он объяснил, что это Иисус. Прагматичный Вагнер, видимо, ожидал другого покровителя, но в тот момент это не имело никакого значения. С некоторой боязнью и волнением, с сердечной теплотой он надел обручальное кольцо на палец женщине, которая следующие 30 лет будет его супругой, его беснующейся богиней Фрикой из «Кольца Нибелунга», и искренне разделит с ним все невзгоды самых сложных лет его жизни и творчества.
Жизненные сложности не заставили себя долго ждать. Вагнера так и не назначили на должность капельмейстера театра, поскольку его предшественник, собиравшийся покинуть свой пост и уехать к жене, завел интрижку с местной актрисой и решил остаться в Кёнигсберге, при этом настроил против своего соперника по службе – Вагнера добрую половину театра. За небольшой гонорар Вагнер работал запасным дирижером, ожидая, когда же старый капельмейстер соскучится по своей живущей на чужбине супруге. В таких условиях вдохновение к нему приходило редко, ничего нового он практически не написал, за исключением увертюры, марша и хора к пьесе Зингера «Правь, Британия», поставленной в феврале 1837 года в Кёнигсберге с Минной в главной роли. Эта небольшая работа композитора примечательна тем, что для нее он впервые расширил состав оркестра, добавив военный духовой оркестр к обычному оперному. Музыкальным директором театра в Кёнигсберге Вагнер стал лишь в апреле 1837 года.
Отсутствие интересной и денежной работы пагубно сказалось на душевном состоянии тонкого романтика Рихарда и на его отношениях с Минной. Вагнер влез в долги и с роскошью обставил семейную квартиру, говоря, что находит в этом источник вдохновения. Но вместо него он находит в почтовом ящике повестку в суд не только от кёнигсбергских, но и от преследующих его магдебургских кредиторов; приходится заложить в ломбарде даже столовое серебро – свадебные подарки. «Бедствуя, претерпевая обиды и страдая от сурового климата, который заставлял дрожать и зябнуть даже в летние месяцы», неуравновешенный по характеру, резкий в выражениях Вагнер вымещал злость от собственной неспособности исправить ситуацию на своей молодой жене. Постоянное выяснение отношений между супругами стало нормой, так как Минна тоже любила устраивать скандалы.
Минна упрекала Рихарда в том, что она «отвергла по-настоящему выгодные в материальном смысле предложения и с чувством снисхождения и преданности пошла навстречу бурной страсти молодого, неимущего, плохо обеспеченного человека, чей талант еще ничем не обнаружил себя перед светом». Доведенный до истерики Вагнер обвинял ее во всем: в происхождении из низших классов общества и в мещанской благопристойности; в отсутствии театрального образования, страсти к театру и тонкости натуры; в отношении к сцене исключительно как к средству обогащения, в заискивании перед дирекцией театра и в отсутствии чувства собственного достоинства. Наконец, Вагнер ставил ей в упрек легкомысленное стремление нравиться людям, заявляя, что ее театральный успех основан исключительно на привлекательной внешности.
Обычно после таких обменов любезностями Вагнер долго извинялся, и супруги примирялись до очередного скандала, пока не наступил момент, когда выяснять отношения стало не с кем. 31 мая 1837 года, вернувшись домой после репетиции, Рихард Вагнер обнаружил квартиру пустой. Забрав все свои вещи, Минна убежала в Дрезден с любовником, богатым коммерсантом Дитрихом. Многочисленные поклонники ее красоты в театре, интрижка с другим коммерсантом Швабе, от которой Рихард еще не успел опомниться, а теперь побег! Вагнер бросился вдогонку за женой, но был вынужден вернуться, так как ему банально не хватило денег на дорогу.
Он возненавидел Кёнигсберг и свою беспомощность; обвинял себя в жестоком обращении с Минной, даже оправдывал в своих глазах ее поступок попыткой принять помощь от первого встречного и желанием вернуться в родительский дом. Вагнер мечтал о том, чтобы некогда казавшиеся ему спасительными воды Балтийского залива перенесли его к сбежавшей жене.
Взяв у друзей денег в долг, Рихард приехал к родителям Минны, где и нашел свою супругу. На него обрушилась лавина обвинений в черствости, непонимании и неспособности материально содержать семью. Его раскаяние и извинения приняты не были: Минна отказалась вернуться к Вагнеру, в ее планах был поиск новых контрактов с театрами и отдых в кругу друзей семьи. Узнав об этом, семья Вагнера настоятельно посоветовала ему как можно скорее исправить совершенную ошибку и расторгнуть брак.
Однако любовь к Минне побудила в композиторе совершенно другие желания. Превозмогая сильную душевную боль, ища способ вернуть сбежавшую жену, Рихард Вагнер осознал, что помочь ему может только оно средство: нужно в полной мере проявить качества, пленившие Минну в момент их первого знакомства – талант и огромное трудолюбие. Личная трагедия стала для Вагнера стимулом для глубокого погружения в работу. Он нацелился на новые успехи, за которыми последуют материальные блага и возможность для Минны навсегда оставить сцену и жить безбедной жизнью.
Вагнер отправляет во все знакомые театры партитуры уже написанных им произведений. У него возникает идея создания большой оперы на сюжет популярного романа Бульвер–Литтона «Кола ди Риенци» о римском трибуне Риенци, прочитанного им во время последней встречи с Минной. Он узнает о том, что Немецкий театр в Риге объявляет конкурс на должность капельмейстера, и готовится к участию в нём. Масштаб этого театра гораздо больший, нежели в Кёнигсберге и Магдебурге, и композитор видит в рижской инициативе реальную возможность для развития своего таланта.
В это время кёнигсбергский театр, где Вагнер продолжает дирижировать, точно так же как ровно год назад магдебургский, объявляет себя банкротом. Вагнер даже не расстраивается и оставляет Кёнигсберг без сожаления; ему хочется забыть ужас прошлого. Даже оказавшись проездом в этом городе через 25 лет, он не выходил из гостиничного номера, чтобы ничто не смогло вернуть его в это прошлое хоть на миг.
С благодарностью судьбе он немедленно отправляется в Ригу еще до начала нового театрального сезона. Рига – его полное надежд будущее, где имя Рихарда Вагнера в оперном искусстве будет звучать так звонко, что, однажды, выйдя рано утром на балкон маленького бедного родительского домика в Дрездене, Минна Вагнер услышит громкое эхо этого звука и полетит ему навстречу на крыльях еще не погасшей любви.
ГЛАВА II. АНГАЖЕМЕНТ В РИГЕ
Рекрутинговый процесс кризисных времен двухсотлетней давности мало отличался от современного. Пребывавшее в состоянии кризиса предприятие заменяло весь ключевой персонал кандидатами, обладавшими двумя качествами: впечатляющим послужным списком и скромными запросами к вознаграждению. Не стал исключением и Рижский Немецкий театр. За свою полувековую историю он сумел войти в десятку лучших немецких театров мира, имел устоявшийся репертуар и своих почитателей, но в 1837 году переживал глубокий кризис. Назначенный новым директором театра немецкий актер и писатель Карл фон Хольтей хотел превратить театр в заведение, развлекающее публику комическими операми и водевилями, в том числе собственного сочинения. На эти цели он получил от немецкой общины Риги 15,000 рублей серебром с обязательством обновить труппу и найти нового капельмейстера.
Служба в Рижском Немецком театре казалась Рихарду Вагнеру серьезным продвижением в карьере. Взгляды директора на развитие театра не были ему близки, но за неимением какой – либо другой работы Вагнер принял участие в конкурсе на должность главного капельмейстера, желая во что бы ни стало добиться признания своего таланта. Для своих 24 лет у него было достаточно достижений; к тому же, Вагнер предложил Риге свою энергию, энтузиазм и готовность заняться реформированием рижского театра всего за 800 рублей серебром в год. Если бы в 1837 году он составлял curriculum vitae в современном, а не в пространном «вагнеровском», стиле, оно, наверное, выглядело бы следующим образом.
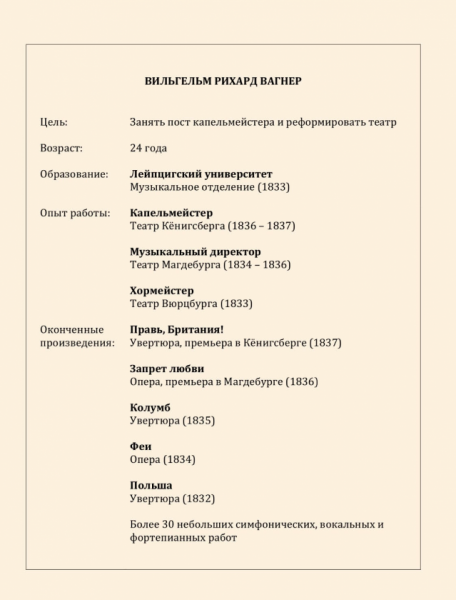
Судьба Вагнера решилась самым что ни на есть благоприятным образом: фон Хольтей, встретившись с ним в Дрездене в июне 1837 года, был поражен молодостью и в то же время опытом Вагнера, его интересом к итальянской и французской опере. Хольтею нужен был молодой дирижер, и они ударили по рукам: Вагнер получил должность главного капельмейстера с ежегодным доходом 800 рублей серебром. Сам Хольтей заказал для театра партитуры Беллини, Доницетти, Адана и Обера, которыми Вагнер «должен был немедля, в первую же очередь угостить добрых рижан». Младший капельмейстер театра Генрих Дорн обещал Вагнеру возможность дополнительного дохода от частных уроков музицирования. Все вело к тому, что финансовое положение Вагнера могло очень скоро поправиться, и он написал Минне:
«Я видел Хольтея. Все устроено, мы договорились, и завтра мы подпишем контракт. Мне описывают Ригу как самое приятное место в мире, особенно для зарабатывания денег. Дорн написал, что он может отдать мне много уроков в первоклассных семьях, так как у него не хватает для них времени. Я ожидаю от них доход порядка 1,000 рублей серебром. Так что, наконец, я буду в состоянии предложить тебе приятную и беззаботную жизнь, которая будет радовать тебя после стольких лет тревог и лишений».
Рихард не скрывает от Минны, что затеял рижское предприятие исключительно для нее. Он благодарит свою жену за самоотверженность, с которой она разделила с ним все беды, неудачи и лишения в тяжелейший период их жизни, и искренне раскаивается в своем грубом поведении по отношению к ней. Вагнер задается вопросом, не искупили ли ее последующие поступки его вины хотя бы частично? Вновь и вновь признаваясь жене в любви, он просит: «подумай, насколько велика должна быть эта любовь, если ты, несмотря на все свои усилия, все еще не смогла ее погасить».
Обещанные Ригой гонорары не радуют композитора, если не решится самый главный вопрос его жизни. Он не готов жить с Минной порознь и предлагает ей «либо расстаться полностью, либо не расставаться совсем». Вагнер жаждет возвращения жены, ждет его, но он не уверен в чувствах Минны.
«Моя милая жена, когда ты получишь это письмо, спокойно подумай над тем, что я сказал, и спроси свое сердце, можешь ли ты опять полностью мне доверять и любить меня. Если не можешь, тогда утром, когда я приду повидать тебя, закрой передо мной дверь. Я не хочу причинить тебе несчастья, и я расстанусь с тобой – на этот раз навсегда. Но если Бог смягчит твое сердце и наполнит его еще раз любовью ко мне, тогда встань рано, надень снова свое обручальное кольцо, и, когда я приеду, дай мне знать одним лишь взглядом, воссоединимся ли мы вновь - и на этот раз навсегда. Тогда мы больше не обмолвим и слова о том, что произошло, никаких упреков, никакого чувства вины. Мы снова будем принадлежать друг другу. Да хранит тебя Бог, моя дорогая жена!»
Вагнер приложил неимоверные усилия, чтобы настроиться на новую работу с целью опять покорить Минну своим огромным трудолюбием. 24 августа 1837 года он прибыл в Ригу.
«Мне казалось, что полиция прочтет у меня на лице увлечение Польшей и прямо сошлет меня в Сибирь», - страхи Вагнера быть арестованным на границе за написанную увертюру «Польша» о польском восстании 1830 – 1831 годах с использованием польских народных мелодий не реализовались. Рихард Вагнер спокойно пересёк границу и приступил к службе в Рижском Немецком театре, располагавшемся на Кёнигштрассе (ныне улица Рихарда Вагнера, 4) и рассчитанном на 500 зрителей.
«Театр помещался в чрезвычайно маленьком и тесном здании. Крохотная сцена исключала всякую мысль о театральной роскоши. Да и о расширении оркестровых сил нечего было думать при крайне ограниченном помещении для оркестра», – первая характеристика, данная им театру. Хотя на склоне лет он перенял несколько рижских идей для строительства своего собственного театра в Байройте. Глубоко расположенный оркестр; отсутствие
роскоши в декоре и огромного количества лож; темный зрительный зал; расположение зрительных мест по восходящей линии, – за все это нужно поблагодарить Ригу.
Оркестр Вагнер со временем расширил, но в чем его усилия оказались не слишком успешными с первых дней работы в театре, так это во влиянии на репертуарную политику. Молодой композитор и дирижер надеялся, что ему легко удастся переубедить Карла фон Хольтея включить в репертуар более серьезные оперные произведения, нежели водевили. Его обнадеживала история театра: постановки опер Моцарта и Бетховена там осуществлялись намного раньше, чем в Санкт–Петербурге. Однако Хольтей был непреклонен: первое данное Вагнеру задание было разучить и представить на открытии сезона в сентябре 1837 года водевиль Блюма «Мари, Макс и Михель», для которого от композитора также требовалось написать несколько арий.
Успешно справившись с этой задачей и сорвав аплодисменты публики после дебюта, Рихард Вагнер вновь просит директора внести в репертуар что-нибудь серьезное, например, «Фиделио» Бетховена. Вместо этого он получает просьбу Хольтея написать для театра веселую оперу, лучше водевиль. Раздосадованный Вагнер соглашается и начинает работу над созданием двухактной комической оперы «Мужская хитрость больше женской, или Счастливое медвежье семейство» по мотивам «1001 ночи». Идея оперы, наверное, всплыла у Вагнера из подсознания: как персидский царь Шахрияр не мог себе позволить избавиться от Шахерезады, так и Вагнер не мог расстаться со своей Минной. И если сюжет еще заслуживал внимания, то идея написания к нему музыки не укладывалась в вагнеровское видение настоящей оперы. Он подарил либретто хормейстеру театра и больше никогда к нему не возвращался.
Вынужденный первые месяцы жизни в Риге писать по утрам арии к театральным водевилям, днем их репетировать, а вечером представлять публике, Рихард Вагнер был самим собой только глубокими вечерами. Тогда в снятой им «тесной, неуютной квартире в старом городе» (дом на улице Калею, 18/20), от которой до театра всего пара минут ходьбы неспешным шагом, он писал либретто своей большой оперы «Риенци». Друзей у него не было, поделиться мыслями было не с кем. Ни Карл фон Хольтей, дома у которого он бывал, ни Генрих Дорн, вывозивший Вагнера на свою дачу «среди песков», его музыкальных взглядов не разделяли. А о Минне композитор предпочитал думать в одиночестве, часто в кабачке «Лавровый венок» на улице Калькю (дом 24) за кружкой доброго пива. Рижане видели, как поздними вечерами маэстро возвращался домой по узким рижским улочкам: одинокий, усталый, недовольный, полный переживаний и слегка подвыпивший.
Наконец, Вагнер убедил Хольтя поставить «Дона Жуана» Моцарта. По этому поводу директор театра выписал примадонну из Германии, однако она не приехала, и ей нужно было срочно искать замену. Вагнер предложил пригласить сестру Минны Амалию, известную в Дрездене оперную певицу, с которой он дружил. И Хольтей, и сама Амалия с радостью приняли этот ангажемент.
Но общение с Амалией всколыхнуло в Рихарде старые раны. Композитор невольно получил от неё известие о том, что Минна вернулась в родительский дом «в самом печальном, удрученном и болезненном виде». Это пробудило в Вагнере ревность, и он с жадностью начал собирать информацию о жене. Оказалось, что Минна долгое время проживала в гостинице в Гамбурге вместе с господином Дитрихом, с которым бежала из Кёнигсберга. Более того, Минна распускала в театральном мире слухи о подробностях своего расставания с мужем. Разъярённый Рихард Вагнер обратился к старому другу в Кёнигсберге с поручением начать бракоразводный процесс. В тот день он до поздней ночи не покидал кабачок на улице Калькю, а по пути домой потерял свой знаменитый берет.
ГЛАВА III. ВОССОЕДИНЕНИЕ НА БЕРЕГАХ ДАУГАВЫ
Сидя в одиночестве в гостиной родительского дома в Дрездене, Минна Вагнер не могла сдержать слез. Она чувствовала себя опустошенной, одинокой и несчастной. Перед глазами всплывали картинки из прожитой жизни: вот она ребенком ходит с тяжелой корзиной, продает проволочные изделия, сделанные её отцом; а вот, не знавшая в юности радости, она влюбляется в Эрнста; несколько месяцев счастья, завершившихся рождением Натали, и Эрнст бросает их. Её удел – позор и тщательно скрываемое бесчестие; поможет ли начатая театральная карьера создать совершенно другую репутацию Минны Планер? Театр увлекал её, там так много мужчин, восторженно смотрящих на нее из зрительного зала и мечтающих завести знакомство с молодой, симпатичной актрисой. Но нет, после своего позора Минна поклялась быть избирательной; лишь мужчина с действительно серьезными намерениями заслужит её внимания.
Внезапно появился Рихард, и Минна влюбилась; он взял её в жены, и она мечтала о счастье. Только жизнь их напоминала не счастье из былых грёз, а доводящее до психоза тяжелое существование на грани бедности, от которой Минне всегда хотелось избавиться. И вдруг на горизонте возник, как ей казалось, настоящий мужчина – Дитрих, обходительный, чувственный, богатый и щедрый. Вот только где он теперь? Она опять осталась одна. А где–то в далекой Риге сейчас её ждет любящий Рихард, законный супруг. Последнее его письмо было переполнено раскаянием, страстью и любовью, приглашением к воссоединению. Минна не отвечала на него два месяца; стыд от легкой интрижки и неспособность разобраться с собственными чувствами не позволяли написать мужу. Теперь, наверное, уже и не имеет смысла отвечать, раз сестра Амалия говорит, что Рихард даже не желает слышать ее имени. Остается лишь одно - броситься на поиск новых театральных ангажементов.
Возрастающее чувство тревоги не только заполонило мысли, но и сковало все тело. Должно быть, это скорбь о потерянной любви, но не Дитриха! Душа Минны рвалась к Рихарду, а ей преграждали путь кажущиеся непреодолимыми препятствия: его отчуждение, боязнь быть брошенной, или наоборот страх перед воссоединением с нуждой и необходимостью ежедневно кормить, стирать, гладить сорочки, обустраивать жилище, да еще и зарабатывать начинающему таланту на жизнь. Тревога переросла в сильную душевную и физическую боль, превозмогая которую Минна взяла перо и бумагу и начала писать.
Уже почти два месяца Рихард Вагнер испытывал чувство страха, открывая по вечерам почтовый ящик в своей квартире: он боялся не обнаружить там письма от Минны. В отсутствие писем страхи укоренялись, но желание как можно скорее добраться до дома и заглянуть в почтовый ящик сохранялось. А совсем недавно, после того как он распорядился начать бракоразводный процесс, страх трансформировался в опасение все-таки получить ответ от жены. В один из вечеров, увидев её почерк на конверте, Вагнер долго не решался распечатать письмо. Слезы хлынули из глаз, когда он прочел о её признании в супружеской неверности, мольбе о прощении, глубоком раскаянии и о любви к нему. Никогда раньше Минна не писала и не говорила ему таких трогательных слов, и, утерев слезы, Вагнер бросился от радости танцевать. Он дал себе слово, что никогда ни намеком не напомнит жене о прошлом.
Ответ Минне Вагнер писал несколько вечеров. Прощая жену, Вагнер настаивал на ее немедленном приезде в Ригу. «Я считаю каждую минуту до того момента, когда смогу заключить тебя в свои объятья. Взамен я не смогу дать тебе ничего, кроме своей безграничной верности. Подумай, как ты ей распорядишься! Но для этого ты должна приехать сюда - как часто я должен был это повторять!» – так начал он свое обращение к ней. Поставив восклицательный знак, Рихард почувствовал, что муза посетила его. Умудренный опытом аж нескольких театральных постановок, и, видимо, пребывая под глубоким впечатлением от репертуара рижского немецкого театра, молодой капельмейстер превратил дальнейшее письмо к Минне в либретто бытового водевиля о воссоединении супругов в двух действиях.
Первое действие было посвящено обустройству супружеского быта. «Ты полагаешь, что я недостаточно продумал, как мы сможем здесь жить. Когда я арендовал свое жилье на год, я, прежде всего, обратил внимание не только на большие комнаты, но и на кухню, чтобы ты иногда могла готовить для меня что-нибудь по вечерам: жареные колбаски, или блинчики, или чизкейк. Я также арендовал квартиру по соседству для Амалии. Но через год мы обязательно арендуем большую квартиру, где мы все поместимся на корточках.
Я также купил двух черных пуделей с белыми мордами, так как у нас пока нет детей; но когда появятся дети, пуделей придется отдать, не так ли? Не слишком ли много будет пуделей? Полагаю, у тебя достаточно денег на поездку? Я назову двух черных пуделей Дрек и Спек, ты не возражаешь?».
На следующий вечер было готово либретто второго действия о перевозке вещей, еще больше приправленное своеобразным вагнеровским юмором. «Ты должна привезти наши вещи из Кенигсберга. Поэтому, пожалуйста, следуй моим инструкциям. Это – единственный способ доставить сюда наши вещи. Привези с собой также кровати, потому что здесь они дьявольски дорогие. Мы разрежем их; да, именно это мы и сделаем. Оденься тепло. А теперь, ради Бога, дай мне остановиться, я больше не могу сидеть спокойно на диване, я должен немного потанцевать вокруг комнаты».
Финал сего водевиля получился донельзя душевным и реалистичным. «О чем еще написать тебе, моя Минна? Наверное, мне лучше остановиться, потому что ничего не получается – выходит сплошной вздор. Я совершенно сошел с ума: Минна возвращается! Боже мой, приезжай, приезжай! Заплати хорошие чаевые, или я сойду с ума. Прости весь этот вздор, и приезжай, моя жена, дорогая, единственная к своему Рихарду Вагнеру».
Минна приехала в Ригу 19 октября 1837 года. С первого дня воссоединения супруги зажили счастливой жизнью, как будто горестного разрыва вовсе не было. В дополнение к своим чувствам, блудная жена привезла Рихарду новый берет, который он стал носить вместо утерянного, и необычную дирижерскую палочку со сжатой дамской ладошкой на конце – верную спутницу Вагнера на всех его рижских спектаклях и концертах. Тогда Вагнеры и думать не могли, что спустя много лет, эту палочку выставят в качестве экспоната в рижском музее истории и мореходства, сопроводив легендой о том, что великий композитор, дирижируя, почесывал ей спину.
Здоровье Минны было подорвано, и Рихард решил сделать все, чтобы «доставить ей по возможности домашний комфорт и покой». Несмотря на небольшие заработки Вагнера, супруги решили, что на сцену Минна не вернется, а займется поддержанием домашнего очага. Вагнер считал, что получалось это у нее, с помощью приехавшей сестры Амалии, очень неплохо. Мечтавший еще несколько недель назад о колбасках и блинчиках, Рихард по вечерам довольствовался «русским салатом, двинской лососиной, а то и свежей икрой». Минна с Амалией пели для него незатейливые песенки, и композитор «чувствовал себя на дальнем севере очень недурно». И вообще Рихард Вагнер стал называть Ригу «своей новой родиной». Он был настолько счастлив, что чуть не забыл отозвать указание о начале бракоразводного процесса.
Сестра Минны Амалия, помимо успешных выступлений на сцене рижского Немецкого театра, считала своим долгом окончательно примирить супругов и, будучи человеком добродушным, создавала в доме атмосферу уюта и веселья. Вскоре она познакомилась с русским офицером, сделавшим ей предложение руки и сердца. До момента замужества между женихом и невестой возникали частые трения, и на этой почве две сестры рассорились и практически перестали общаться, зато Рихард и Минна были полностью предоставлены друг другу. Жизнь их была размеренной: Рихард ходил на службу в театр, а вечера они проводили дома, иногда выезжая на выходные на отдых в Митаву (современная Елгава).
Детей у Вагнеров не было, и «для оживления семейного очага» они решили завести домашнее животное. Рихард обманул Минну про двух черных пуделей с белыми мордами; он их так и не купил, но им подарили маленького, недавно родившегося волчонка. Супругам хватило несколько недель чтобы понять, что их мохнатый друг плохо поддается воспитанию и «отнюдь не способствует уютности домашнего очага». С волчонком пришлось расстаться, а его место в доме занял огромный ньюфаундленд Роббер.
Весной 1838 года Вагнеры переехали в более просторное жилье в Петербургском Форштадте, сняв второй этаж в доме купца Бодрова на пересечении Александровской и Мельничной улиц (на месте современного дома 33 по улице Бривибас) над фабрикой модных соломенных шляп. Здесь они могли себе позволить принимать по вечерам друзей и знакомых. Завсегдатаями этих гостеприимных, веселых и шумных вечеринок были дирижер театра Генрих Дорн и второй дирижер Франц Лёбман. Прохожие привыкли слышать из открытых окон второго этажа звуки только что сочиненных Вагнером мелодий, исполняемых композитором для гостей на рояле, и видеть маэстро в неизменном берете и с трубкой в руке, декламирующего свои сочинения сидя на подоконнике.
Воссоединение с Минной, ожившая заново любовь и налаженный быт благотворно повлияли на творческие успехи Рихарда Вагнера. Минна помогла ему по-философски отнестись к неудачным попыткам кардинально изменить репертуарную политику рижского Немецкого театра, проводимую его директором Хольтеем. Это уже потом, когда Вагнер стал мировой знаменитостью, и Хольтей и Дорн в своих воспоминаниях писали, какой вклад они внесли в развитие огромного таланта маэстро, а тогда, в 1837 – 1839 годах, оба активно сопротивлялись его начинаниям. Хольтей, продолжавший требовать новых водевилей, открыто заявлял, что все предложения Вагнера высокомерны, «не укладываются в рамки театра, физически и идейно». Дорн, писавший комические оперы для театра, критиковал талант маэстро в известных музыкальных журналах. Сам композитор признавался, что вскоре в труппе не осталось никого, с кем бы он не поссорился.
Поддерживаемый Минной, Рихард Вагнер не боялся прослыть «белой вороной». Он четко осознавал свое предназначение, задал себе высокую планку: добиться признания в трех направлениях – как музыкальный директор рижского Немецкого театра, как композитор, и как дирижер. Вагнер последовательно шел к достижению поставленных целей.
Стоит ли верить Хольтею, говорившему: «Вагнер мучил моих людей долгими часами бесконечных репетиций, ничто ему не нравилось, ничто не было достаточно хорошим, ни один нюанс не удовлетворял его»? Или же прав Дорн, утверждавший, что «когда Вагнер стоял в театре за пультом, его огненный темперамент увлекал старейших членов оркестра»? Они оба говорили правду, только первый описывал сложный процесс, а второй – полученный блестящий результат работы маэстро в роли капельмейстера Немецкого театра.
За два года работы Вагнер поставил 15 оперных премьер, рижане услышали 183 оперных спектакля под руководством маэстро. «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта» Моцарта; «Норма», «Капулетти и Монтекки» Беллини; «Иосиф в Египте» Мегюля; «Фиделио» Бетховена; оперы Обера, Вебера, Керубини, Маршнера, Шпора, Мейербера пополнили за этот период как репертуар театра под музыкальным руководством Рихарда Вагнера, так и собственное curriculum vitae маэстро. С его приездом для рижской публики началась новая театральная жизнь: она услышала не только новые оперы, причем раньше, чем они были исполнены в Санкт – Петербурге, но и абсолютно непривычное для тех времен звучание оперного оркестра Вагнера – дирижера.
Новшества заключались не столько в расширении состава оркестра с целью «достигнуть лучшего музыкального ансамбля», и даже не столько в так любимом Вагнером ускорении темпов («Еще бодрее! Еще живее! Еще немного бодрее!», - обычное обращение маэстро к оркестру), сколько в новых способах взаимодействия дирижера с оркестрантами. Как тут не вспомнить имеющую рижские корни шутку о том, что один музыкальный чиновник во время репетиции оркестра обратился к дирижеру: «А что это Вы, уважаемый, задом к залу стоите? Вас же будет почтенная публика слушать!». Этот чиновник неуклонно чтил старинный этикет: из уважения к публике дирижер должен был руководить оркестром, обернувшись к слушателям лицом. Вот только этикет был кардинально изменен в 1837 году, когда молодой дирижер Рихард Вагнер повернулся лицом к оркестру для достижения большего контакта с музыкантами. С тех пор это вошло в норму. Также Вагнер начал дирижировать двумя руками и практически постоянно – наизусть.
Несмотря на успехи в Риге и в гораздо большем по размеру театре в Митаве, куда вагнеровская труппа выезжала на гастроли, маэстро не был удовлетворен. Отторжение, негодование, несчастье поселялись в нем, лишь стоило композитору переступить порог театра. Творческая душа желала иного самовыражения; мысли о создании серьезной, настоящей оперы не покидали композитора даже в те моменты, когда разбивались о скалу непонимания и враждебности со стороны театрального руководства.
За время жизни в Риге Вагнер написал всего пару законченных произведений: заказанный театром «Национальный гимн» по случаю тезоименитства императора Николая I, более известный как «Николай», впервые исполненный 21 ноября 1837 года, и сентиментальный романс «Песня о ели», сочиненный по заказу одного из театральных журналов. Гимном Вагнер гордился и исполнял его во время концертов; композитору удалось, по его же словам, придать музыке «деспотически патриархальную окраску». А по поводу романса, просил не судить по нему о том, как он пишет оперы; «Ель» была написана с одной целью – «заслужить немного презренного металла». Точно так же Вагнер относился к музыкальным номерам, написанным им для разных водевильных постановок в Немецком театре, и признавал за Генрихом Дорном пальму первенства в создании легкой музыки для рижан.
Гораздо более ценным рижским наследием композитора стала опера «Риенци», значительную часть которой Вагнер закончил во время жизни в этом городе. «Риенци», задуманная под впечатлениями от грандиозности больших театральных представлений в Берлине, стала отдушиной для Вагнера: он писал её по ночам, делясь только с Минной своими планами на «неумеренно-широкий театральный масштаб» будущей постановки этой оперы. В начале августа 1838 года Вагнер закончил либретто оперы и начал писать музыку, которая по его собственным словам «должна была проложить мост в другой, столь желанный, богатый мир», в этой работе он «черпал бодрость и успокоение». Маэстро понимал, что рижская сцена не сможет осилить это произведение, и мечтал о его постановке на одной из величайших сцен Европы.
Как любому великому художнику, Рихарду Вагнеру было жизненно необходимо признание его таланта публикой. Шаг за шагом он начал приоткрывать театральному миру свою задумку, читать отрывки из либретто «Риенци», исполнять дома перед гостями фрагменты из оконченных в Риге первого и второго актов оперы. При этом он раскрывал перед людьми тайны своей возвышенной, романтической души, нашедшей успокоение после воссоединения с любимой женой и стремящейся к высоким идеальным целям, таким как завершение «Риенци», оперы о человеческом благородстве. Со временем оказалось, что из всех окружающих его людей только Минна, любимая и единственная, понимала и поддерживала эти стремления, и Вагнер еще раз убедился в правильности сделанного им шага к воссоединению семьи на берегах Даугавы.
ГЛАВА IV. БАЛТИЙСКИЙ ШТОРМ
Со временем Рихард Вагнер осознал, что крылатое выражение «Кто платит, тот и заказывает музыку» не следует воспринимать буквально, и в этом ему помогла рижская публика. Обеспеченная немецкая община Риги продолжала спонсировать Немецкий театр, и маэстро шаг за шагом приучал ее к музыке более серьезной, чем она требовала. Конечно же, Вагнер не прекращал писать музыку на заказ, чтобы финансово обеспечить семью, но именно в Риге он понял, что состоятельные спонсоры платят за то, чтобы музыка была, а какая – это уже его, композитора и дирижера, задача. А если вдруг они откажутся платить за что-либо более серьезное, чем водевиль, тогда капельмейстер должен превратиться в коммерсанта, завлекая публику выгодными скидками.
Вспомнив все попытки коммерциализации классической музыки в Германии, Рихард пишет письмо музыкантам своего рижского оркестра: «Следующей зимой я предлагаю провести серию из шести оркестровых концертов по подписке. Музыканты оркестра должны приглашать публику приобретать абонементы по цене четыре рубля за шесть концертов, тогда как входная плата на один концерт составит, как обычно, один рубль». Понимая, что оркестранты тоже умеют считать деньги, Вагнер отказывается от излишних гонораров за концерты, предлагая поделить все вырученные средства между музыкантами и солистами. Его волнует другое – программа концертов.
«Публика по большей части своей, несомненно, еще не привыкла к восприятию той серьезной музыки, которую мы намерены предложить ей в течение предстоящего сезона. Поэтому ее нужно привлечь более легкими развлечениями. Соответственно, помимо шанса для истинных любителей искусства получить музыкальное наслаждение, мы должны предоставить возможность прочим зрителям встретиться и пообщаться друг с другом, что они могут легко сделать во время длительного антракта между первой и второй частями концерта. Помимо всего прочего, это означает, что нам нужно пригласить швейцарского пекаря организовать фуршеты, чтобы во время антракта публике подавались закуски и освежающие напитки. Одним словом, нужно сделать все, чтобы большая часть зрителей воспринимала эти концерты как вечер приятного развлечения, ибо мы прекрасно понимаем, что не вся публика придет исключительно для поклонения в храме искусства».
Задумка Вагнера сработала, и первый концерт по подписке (абонементу) состоялся уже 15 ноября 1838 года. Немецкий театр, Собор Святого Петра, Дом Черноголовых – везде для рижан звучала музыка в исполнении маэстро. Вебер, Мендельсон, пять симфоний, четыре увертюры и оратория «Христос на Масличной горе» Бетховена неизменно входили в программу 22 симфонических концертов, данных Вагнером в Риге. Из своих собственных сочинений Рихард исполнял ранние увертюры «Колумб» и «Правь, Британия». «Николай», уже упомянутый гимн, неизменно завершал каждый концерт. Единственное, что Вагнер не выносил на суд широкой публики – фрагменты оперы «Риенци», над которой он работал; композитор решил, что представит свою оперу уже в законченном виде и только в Париже.
Непринужденное общение во время долгих антрактов, сопровождаемое подачей горячительных напитков, настолько понравилось рижской публике, что имевшие огромный успех вагнеровские симфонические концерты стали её любимым времяпровождением. В знак признательности за насыщенную и многообразную музыкальную жизнь своих предков, потомки этих рижан спустя много десятилетий установили в Доме Черноголовых мемориальную доску с надписью «Рига – город молодости Вагнера».
Минна поддерживала все начинания своего мужа, даже убедила его вставлять в оркестровые концерты драматические номера, в которых блистала перед публикой, обеспечивая концертам еще больший успех, а семейному кошельку достойное пополнение. Её поддержка требовалась Рихарду как никогда, поскольку на его долю в рижский период жизни, помимо сложностей на творческом поприще и невыносимого одиночества в Рижском Немецком театре, выпало несколько печальных событий.
После приезда Минны в Ригу Вагнер получил известие о смерти своей сестры Розалии, с которой он был душевно близок, и которая поддерживала Вагнера во всем, что бы он ни затеял. Когда Рихард женился без родительского благословления, и когда его брак был на грани разрыва, она единственная из всей семьи композитора не теряла надежды, что всё со временем образуется, и что Рихард ещё проявит себя в жизни. С помощью Минны Рихард старался пережить первую серьезную, глубоко потрясшую его утрату и восстановить утерянные отношения с матерью. Минна старалась изо всех сил, чтобы семья Рихарда узнала об их счастливом воссоединении, налаженном быте и гармонии в супружеской жизни. Ей это удалось: со временем мать Вагнера перестала упрекать его в необдуманной женитьбе и смирилась с браком сына.
А Минна продолжала оберегать своего мужа от новых испытаний, следующим из которых стало познание самых мерзких, отвратительных и низких сторон человеческой души. Образцом таких проявлений стал директор театра Карл фон Хольтей. Рихард Вагнер уже привык к непреодолимым разногласиям с Хольтеем по поводу репертуарной политики театра, но не мог понять причин появившейся в нем явной враждебности. Минна знала об этих причинах, но тщательно скрывала их от мужа. У Хольтея умерла жена, и он начал часто наведываться к Минне в то время, когда Вагнер был на репетициях, под предлогом обсуждения с ней возможных театральных ангажементов. Хотя Вагнеры приняли решение о том, что Минна не будет работать, Рихард дал директору театра возможность обговорить это с ней напрямую. Впоследствии оказалось, что Хольтей использовал эти свидания для открытых любовных домогательств. Получив твердый отказ, Хольтей попытался свести ее с молодым, богатым купцом. Минна мужественно дала отпор и этим попыткам, но оказалась не в силах и далее оберегать душевный покой ничего не подозревающего мужа – честно рассказала ему обо всем.
Вас узнаю! Вот ваше ремесло:
Детей трусливей, наших братьев мучить.
Сестер бесчестить наших вы хотите.
Еще что остается вам, проклятым?
Наш древний Рим, владыку всей земли,
Вы сделали притоном. Церковь вас стыдится.
Эти строки Вагнер добавил в либретто «Риенци», узнав от жены о гнусном поведении Хольтея. Узы их брака с Минной за все время жизни в Риге настолько окрепли, что Рихард безоговорочно верил в её честность и порядочность. Спеша домой после репетиций, хотя и заглянув предварительно в кабачок на улице Калькю, он обдумывал планы возмездия за едва не поруганную честь жены. Серьезная простуда не остановила его от поездки на гастроли в Митаву в марте 1839 года, где он надеялся выяснить отношения с Хольтеем, но простуда внезапно осложнилась тифозной горячкой и свалила Вагнера с ног. Оправившись, Рихард узнал, что Карл фон Хольтей покинул пост директора театра, навсегда уехал из Риги, оставив своему приемнику, новому директору два приказа – об увольнении Вагнера и о назначении на его должность Генриха Дорна.
Все это произошло настолько неожиданно, что Рихард растерялся и не знал, как ему следует поступить. На эти чувства наслоилось полное разочарование в Дорне, которого, зная еще до приезда в Ригу, он считал своим другом, принимал его у себя дома практически ежедневно. Оказалось, что едва заметив враждебное отношение Хольтея к Вагнеру, Дорн сам попросил директора театра назначить его своим приемником, ничего не сказав об этом своему другу. Впоследствии Дорн проигнорировал все просьбы Вагнера о помощи наладить его дальнейшую концертную деятельность в Риге. Ждать подмоги больше было неоткуда, и Рихард с Минной в очередной раз принялись сами вершить свою нелегкую судьбу. Супруги решили, что настало время реализовать мечту о Париже, где Вагнер хотел поставить свою оперу «Риенци».
Для этого требовались немалые средства. Рихард продолжил запланированные концерты в Риге и в Митаве, но его гонораров явно не хватало для намеченного переезда. Тогда Минна, несмотря на твердое решение Рихарда о том, что работать она не будет, в апреле 1839 года поступила на службу в театр как приглашенная актриса. Вагнер написал письмо Мейерберу в Париж с просьбой о покровительстве, но ответа на него не получил. Тогда он принялся самостоятельно изучать французский язык и уже в июне 1839 года закончил перевод на французский либретто оперы «Риенци». Вагнера не заботила призрачная перспектива успеха во Франции, композитор в своих мыслях уже был в Париже. «Достаточно было уже того, что я мог сказать себе: я состою в связи с Парижем. На деле, приступая к столь смелому предприятию, я имел уже солидный пункт для зацепки и, что касается моих парижских планов, вовсе не строил их на песке», - был уверен он.
Планы постепенной подготовки переезда во Францию были серьезно подкорректированы суровой реальностью. Узнав об увольнении Вагнера из театра, его кредиторы из Риги, Кёнигсберга и Магдебурга подали в суд на взыскание долгов. Вагнеров ограничили в передвижении, отобрав у них паспорта. Друзья помогли им втайне от кредиторов распродать имущество, чтобы скопить хоть какие-то наличные средства на первое время жизни в Париже. Из всех рижских приобретений у супругов остался один лишь пёс Роббер, преданно дожидавшийся в практически пустой квартире возвращения хозяина с гастролей в Митаве. Пёс так сильно скучал, что соседи прислали его композитору из Риги в Митаву с почтовым ямщиком, и искренне полюбивший животное Вагнер решил никогда с ним не расставаться и посвятить преданного друга в возникшие у супругов смелые планы избавления от нависшей над ними перспективы оказаться в долговой тюрьме.
Рихард и Минна задумали по окончании гастролей Вагнера в Митаве в июне 1839 года тайно, при помощи контрабандистов бежать из Риги в Париж вместе со своим псом. «Желание избавиться от прежнего стесненного положения и как можно скорее выйти на широкий простор деятельности, где меня ожидало быстрое исполнение честолюбивых замыслов, ослепило меня — я вовсе не замечал трудностей, какими неизбежно должно было сопровождаться осуществление моих начинаний», – писал Вагнер. Затеянный ими побег оказался предприятием не только авантюрным, но и опасным для их жизни.
Что только не пришлось испытать боявшемуся любого дискомфорта Рихарду, изнеженной Минне и огромных размеров псу Робберу! Два дня, проведенных в кибитке, мчащей по ухабистым дорогам до русско-прусской границы; ожидание сумерек в корчме с контрабандистами; тайная перебежка через пограничный ров; проведенная в страхе ночь в приграничном отеле и новая поездка по разбитым дорогам в прусский порт Пиллау в объезд полного вагнеровских кредиторов Кёнигсберга, – это была только сухопутная часть приключений маэстро-беженца. Дальше супругам предстояло отправиться в морское путешествие, только подготовка к которому принесла новые волнения. Чтобы попасть на корабль без паспортов, они в сумерках плыли к нему на лодке, потом вместе со своим огромным псом забирались на судно, прятались в трюме, опасаясь, как бы их не заметили осматривавшие корабль офицеры охраны. Наконец, маленькое торговое судно «Фетида» тронулось в путь, и Вагнеры облегченно вздохнули, мечтая через 8 дней добраться до Лондона.
В действительности вся поездка до Франции через Норвегию и Великобританию заняла почти месяц. Рихард и Минна несколько раз испытали настоящий страх перед штормовым ветром, перерастающим в сопровождаемую грозой бурю. Нужно быть таким гениальным мастером как Вагнер, чтобы прощаясь с жизнью и с женой, просящей привязать ее к себе и молящей морскую стихию унести их в пучину вод только вдвоем, неразлучными, уловить все тона и полутона этой стихии и затем запечатлеть их в своей знаменитой увертюре к опере «Летучий голландец». Буря напомнила маэстро еще недавний балтийский шторм в его собственной жизни – явление, которое нужно было мужественно преодолеть, пройти сквозь все невзгоды, чтобы открыть миру свой безграничный музыкальный талант.
Когда стихия утихла, Рихард услышал два эха. Первое повторяло среди безграничных норвежских фьордов возгласы бросавших якорь и поднимавших паруса матросов. Замечательная идея матросской песни для «Летучего голландца», – подумал он. Второе эхо исходило изнутри. То был отголосок недавно покинутого им города, давшего Вагнеру временный приют от кабалы и воссоединение семьи; ставшего родиной его дирижерского стиля и пока не оконченной первой большой оперы «Риенци»; подарившего идеи для собственного театра, а теперь, невольно, для «Голландца»; укрепившего его огромные амбиции. Он мысленно поблагодарил Ригу за то, что может крепко обнять свою любимую Минну, что и сделал незамедлительно.
ЭПИЛОГ
Рихард и Минна прожили в браке 30 лет; рижские жизненные испытания стали первыми в череде сложностей, выпавших на долю молодой семьи до того, как Вагнер стал мировой знаменитостью. Их брак не был удачным, супруги долгое время жили порознь. Козима, вторая жена Рихарда, отредактировала его мемуары таким образом, будто маэстро запомнил лишь вздорный характер первой жены, хотя Вагнер до конца дней Минны, как и в рижский период их жизни, делал все возможное, чтобы она не работала и была хорошо обеспечена. Даже находясь вдали от Минны, он продолжал писать ей трогательные письма.
Опера «Риенци» была впервые поставлена в Дрездене 20 октября 1842 года и принесла Рихарду Вагнеру триумфальный успех. «Уже задолго до спектакля многочисленным театрально–музыкальным персоналом были распространены по городу настолько восторженные отзывы о моей опере, что все население ждало обещанного чуда с лихорадочным напряжением», – писал композитор. В том же году царская цензура запретила постановку «Риенци» в Рижском немецком театре под предлогом того, что сюжет составляют заговоры и убийства. Рижская публика смогла её услышать лишь спустя 35 лет после дрезденской премьеры.
Рижский немецкий театр прославился как один из центров пропаганды творчества великого композитора. Несмотря на временную неудачу с «Риенци», театр представлял рижанам вагнеровских «Летучего голландца», «Тангейзера», «Лоэнгрина», «Нюрнбергских мейстерзингеров», «Кольцо нибелунга», «Тристана и Изольду» гораздо раньше, чем они были поставлены в Санкт-Петербурге. Его традиции продолжила Национальная Опера Латвии.
Дом купца Бодрова, в котором жили Вагнеры, и где их друзья и знакомые впервые услышали фрагменты «Риенци», был снесен. На его месте построено новое здание, в парадной которого установлен витраж в память о проживании здесь Рихарда Вагнера и о его работе над этой оперой.
В 1882 году благодарная рижская публика обеспечила 10 процентов собранных по всему миру пожертвований на премьеру в Байройте оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль». А в 2017 году, спустя 180 лет со дня вступления Вагнера в должность капельмейстера Рижского немецкого театра, рижане устроили грандиозное шествие по центру Риги: распевая хор пилигримов из вагнеровского «Тангейзера», они требовали от городских властей отреставрировать и открыть для публики здание этого театра, именуемое в наши дни «Зал Вагнера».
© Copyright: wagner.su, 2018
Любое использование данного материала допускается только с активной ссылкой на wagner.su либо по согласованию с автором.
Смерть Вагнера в Венеции - мифы и факты
Я вспоминаю, с каким трепетом перед первой поездкой в Венецию я написал письмо в Венецианское Общество Рихарда Вагнера с просьбой о разрешении посетить апартаменты Вагнера в Палаццо Вендрамин Калерджи, где Вагнер прожил последние 5 месяцев своей жизни, и где он умер 13 февраля 1883 года. Сильнейшие впечатления от посещения этого места и от знакомства с профессором Сильваной Квадри, с которой я теперь имею честь дружить, во всех подробностях рассказавшей о последних днях жизни великого Маэстро, побудили меня прочитать первоисточники, на которые ссылалась Сильвана, и написать это небольшое эссе.
В день смерти Маэстро его жена Козима прекратила вести дневник, в котором на протяжении многих лет она записывала ежедневные события из жизни Вагнера. О том, что произошло 13 февраля 1883 года, мы знаем из писем непосредственных свидетелей: сына Вагнера Зигфрида, друга композитора – художника Павла Жуковского, из воспоминаний врача Вагнера и его гондольера, и из донесения королю Людвигу II. Венецианские газеты февраля 1883 года, а затем книги Генриетты Перл (1883, Германия) и Джузеппе Норленджи (1884, Италия) содержали информацию, полученную от слуг Вагнеров.
МИФ 1 - Вагнер предсказал свою смерть
Смерть великого композитора обросла рядом легенд. Одна из них гласит, что Рихард Вагнер предсказывал свою скорую кончину. Истоки этой легенды кроятся в публикации газеты La Veznezia на следующий день после смерти Вагнера. Читателям сообщалось, что 24 декабря 1882 года после исполнения в театре La Fenice своей юношеской симфонии До-мажор в честь дня рождения жены Козимы Вагнер подарил театру свою дирижёрскую палочку, сказав, что это его последнее выступление за пультом. На вопрос оркестрантов почему, Маэстро, страдающий болезнью сердца, ответил: «потому что скоро я умру».
Примечательно, что ни один из присутствовавших на том представлении, организованном исключительно для членов семьи и друзей Вагнеров, не упомянул об этом эпизоде в своих мемуарах. Но если подыграть журналистам, эта легенда имеет продолжение, превращающее её в своеобразную немецкую шутку. По другим свидетельствам, в этот день шёл сильный дождь, и после концерта Козима, намекая на траурное убранство венецианских гондол, обратилась к Рихарду с вопросом: тогда уж поедем в Палаццо не в экипаже, а на гондоле? «Нет, нет, - ответил Рихард, моё заявление не применимо к дождливым дням»…
МИФ 2 - Вагнер умер в гондоле
Другая легенда гласит о том, что Рихард Вагнер почил в гондоле во время прогулки по Гранд Каналу. Пафосный миф, вторящий словам Вагнера, сказанным еще весной 1882 года, когда он любовался из гондолы красотами Венеции: «здесь я хочу умереть». Он подогрет словами гондольера Вагнера Луиджи Травесана, давшего интервью венецианским газетам через месяц после смерти композитора о том, что Вагнер буквально умер у него на руках. Не будем строго судить гондольера за его стремление заработать немного денег на том, что на один день он стал героем первых полос венецианских газет, разместивших его портрет. Но, на самом деле, жизнь композитора оборвалась не в гондоле, а в Палаццо Вендрамин Калерджи.
Гондольер Луиджи должен был везти Вагнера на прогулку в 16:00, а в 15:30 Вагнера не стало. Луиджи был любимым гондольером Вагнера и относился к нему с большим уважением. 13 февраля 1883 года он до ночи просидел и проплакал на ступенях Палаццо Вендрамин, показывая всем проходящим зонт с инициалами «Р.В.». С истинно итальянским темпераментом он извещал всех о том, что в мир иной ушёл очень хороший, добрый господин, от которого он, Луиджи – простой гондольер, ни разу не слышал плохого слова.
МИФ 3 - Вагнер завещал Байройтский фестиваль сыну
Такая постановка вопроса кажется бессмысленной, ведь Байройтский фестиваль был и остается семейным предприятием Вагнеров. Тем не менее, легенда гласит, что на смертном одре Рихард Вагнер прямо указал на то, что его 13-летний сын Зигфрид должен принять бразды правления фестивалем. Якобы его последними словами были: «мой сын должен…»
Вагнер очень хотел, чтобы сын пошёл по его стопам. Об этом он писал баварскому королю Людвигу II за месяц до смерти, радуясь первым успехам Зигфрида на музыкальном поприще. В последние месяцы жизни он обсуждал с Козимой, что было бы хорошо, если бы лет через 10 сын занялся фестивалем.
Но последними словами Вагнера, когда он почувствовал сердечную боль, в действительности были «немедленно позовите мою жену и доктора!». Прислуга композитора вспоминала, что когда Козима пыталась оказать ему помощь, из кармана Вагнера выпали часы – её подарок, и он промолвил: «мои часы…».
ГОЛЫЕ ФАКТЫ
Последний день своей жизни Рихард Вагнер провёл так, как он любил: в работе, в кругу семьи и друзей, в музицировании перед сном.
12 февраля 1883 года он проводил на поезд гостившего у него Германа Леви, с которым Вагнер обсуждал планы Байройтского фестиваля на 1884 год. Он отвёз дочку Еву на гондоле в своё любимое кафе Лавена на площади Святого Марка и угостил её шоколадом. Вечером он музицировал для семьи, исполняя на рояле финал своей оперы «Золото Рейна». Гостивший у Вагнеров Павел Жуковский сделал во время музицирования два портрета Вагнера карандашом, которые Козима сразу же подписала «Р. играет» и «Р. читает».
Утром следующего дня, 13 февраля, Рихард Вагнер позавтракал с Козимой. Потом он удалился в своею комнату работать над эссе «О женском начале в человеке». Сославшись на плохое самочувствие, Вагнер не присоединился к семейному обеду, но заказал гондолу на 16:00, чтобы прогуляться по Гранд Каналу.
Семья Вагнера в компании Павла Жуковского отдыхала после обеда. Зигфрид, сын композитора, воспоминал, что до этого дня он никогда не видел мать играющей на фортепиано, а именно в этот день она села за рояль, чтобы исполнить «Похвалу слезам» Шуберта. Когда горничная сообщила Козиме, что муж её зовёт срочно, она, как писал Зигфрид, сорвалась и помчалась на огромной скорости так, что двери залы содрогнулись.
Пытаясь помочь мужу справиться с приступом сердечной боли, Козима заключила его в объятья, положила его голову к себе на грудь, и ей показалось, что боль отступила, а Рихард уснул. Прошло время, и пришедший доктор вынужден был сообщить ей, что, к великому сожалению, Рихард Вагнер не спит.
Я закончу своё повествование, как начал, Козимой Вагнер. Услышав страшную весть, жена Вагнера бросилась на кровать, куда перенесли тело её мужа. Она обняла его, и пролежала так в забытьи, не проронив ни слова, 25 часов. Доктор, пришедший через день бальзамировать тело Вагнера, сказал: «я не знал этих людей, но я никогда не видел женщины, так сильно любящей своего мужа!». А в это время на рабочем столе Вагнера уже давно высохли чернила последней фразы из его последнего эссе: «любовь – трагизм!»
Перед тем, как гроб с телом Вагнера закрыли, Козима обрезала свои длинные русые волосы и положила их на грудь Рихарда.
ПАМЯТЬ
Спустя десятилетия, на стене Палаццо Вендрамин Калерджи установили памятную доску с барельефом Рихарда Вагнера. Надпись на доске гласит:
В этом палаццо духи слышали,
Как последний вздох Рихарда Вагнера
Превратился в вечность, подобно волне,
Омывающей камни из мрамора.
Вячеслав Власов
2 февраля 2020 г.